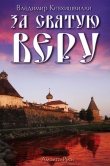Текст книги "Очерки по истории Русской Церкви. Том 1"
Автор книги: Антон Карташев
Жанры:
Эссе, очерк, этюд, набросок
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Влияние гражданской власти на церковную доходило таким образом до весьма широких размеров и выражалось преимущественно в самовластном отношении к епископам: а давление на епископов могло вести к чему угодно.
В некоторых других случаях князья также подчас становились к явлениям церковной жизни в положение властных хозяев своей русской церкви. Так, например, вторичное перенесение мощей Свв. Бориса и Глеба из одной церкви в другую не иначе могло состояться, как только с дозволения вел. князя. Святополк не допускал этого перенесения, и оно произошло уже при его преемнике Владимире Мономахе. Даже в таком деликатном деле, как причтение новоявленных угодников к лику святых, сказывается со всей силой воля князей. Имя преп. Феодосия Печерского было вписано в литийный синодик наряду с другими святыми после того, как вел. кн. Святополк в 1108 г., по просьбе печерского игумена Феоктиста, повелел митрополиту и епископам вписать это имя.
Начало русского монашества представляет как бы некоторую загадку. В то время как летописец только под 1037 г. в первый раз упоминает о появлении у нас монастырей, именно о построении самим кн. Ярославом монастыря св. Георгия, и сопровождает это сообщение общим замечанием, что только при названом князе получили свое начало русские монастыри: – «черноризцы почаша множитися и монастыреве починаху быти» – другие совершенно достоверные памятники говорят иное. Митр. Илларион, рисуя картину водворения на Руси христианства при св. Владимире, между прочим отмечает: «Монастыреве на горах сташя, черноризцы явишася». Монах Иаков говорит о поставлении кн. Владимиром на пирах трапезы «митрополиту с епископы и с черноризцы и с попы», – значит монастыри и монахи были у нас уже при св. Владимире. Что монастыри, неизвестные по имени и неизвестно когда основанные, существовали в Киеве в значительном количестве к концу княжения того же Ярослава, который представляется по летописи строителем двух первых монастырей (Георгиевского и Ирининского), это видно из случайной обмолвки летописца 1051 г. По нему преп. Антоний, возвратясь с Афона и желая начать в Киеве иноческую жизнь, «ходи по монастырем». Точно также вскоре после того в начале княжения Изяслава препод. Феодосий по житию, писанному Нестором, «обходи (в Киеве) вся монастыря, хотя быти мних». Естественно возникает предположение, что эти многие неизвестные по имени монастыри были продолжателями тех, которые явились уже при Владимире. A что касается «починания» монастырей при Ярославе, то явно, что эта заметка летописи под 1037 г., годом водворения у нас греческой церковной власти, чисто тенденциозная фикция, затушевывающая все достижения русского христианства до этого момента.
Для объяснения сравнительного множества «безымянных монастырей» в Киеве, Голубинский предлагает удачную гипотезу. В писцовых книгах XVI в. мы встречаемся с особого сорта монастырями, не представлявшими вполне самостоятельных учреждений, а ютившимися возле приходских церквей, в оградах церковных, отчего последние и до сих пор в некоторых местах называются монастырями. На церковном погосте ставились маленькие избушки или келейки и в них большею частью в одиночку проживали любители монашеской жизни, принимая настоящее монашеское пострижение; около одной церкви строилось 10 – 20 келий, в которых помещалось столько же или более чернецов или черниц. Голубинский думает, что необходимо предполагать такой порядок монашеской жизни изначальным в нашей истории и заимствованным из Греции. Самое построение кн. Ярославом первого (Георгиевского) монастыря свидетельствует о том, что насельники его уже были налицо, потому что неестественно думать, будто до того времени (1037 г.) на Руси совершенно не было желающих принимать монашество, и они вдруг явились в точно определенном количестве, для заполнения пустых стен созданного князем (как бы на риск) монастыря. A так как из всех 68 известных монастырей до-монгольского периода целых две трети построены, подобно первому Георгиевскому монастырю, князьями и частными людьми, то, следовательно, для заполнения их также находились готовые монахи. Последние, очевидно, брались из монастырей, привитавших около приходских церквей. Мало того, нужно думать, что монахи были в среде киевских христиан и до св. Владимира, и что с приходом из Болгарии, Афона и Византии на Русь новых монахов-миссионеров, они вышли на свет Божий, соединились в общества, стали селиться возле вновь возникавших церквей.
Если такова была начальная история русского монашества, т. е. если монахи явились у нас естественно, сами собой, а не в ответ только на клич кн. Ярослава, построившего первый монастырь, то, казалось бы, они сами и должны были положить начало строению монастырей, потому что это их собственное дело, ни для кого более не обязательное. Между тем за время киевского периода, в противоположность московскому времени, когда монахи отличались необыкновенной ревностью к монастырскому строительству, наблюдается как раз обратное явление. Две трети, как мы сказали, всех монастырей были построены князьями и боярами. Из остальных известно только о 10-ти, как построенных самими монахами и при том почти во всех случаях монахами богатыми, на деньги, принесенные из мира. Таким образом один только Киево-Печерский монастырь был в подлинном смысле монастырем монашеского строения. воздвигнутым без всяких предварительных денежных средств одним трудом и подвигами братии. «Мнози бо монастыри», замечает по этому поводу летописец, «от князь и от бояр и от богатства поставлени, но не суть таци, каци суть поставлены слезами, пощеньем, молитвою, бденьем» (1051 г.). Князья строили монастыри собственно не для монахов, т. е. главным образом не для них, а для себя, чтобы иметь собственных молитвенников за свою душу при жизни и смерти. Это была дань подражания грекам, у которых по давнему обычаю все коронованные, знатные и богатые люди строили свои фамильные монастыри и владели ими на основании ктиторского права, что с течением времени повело в Византии к эксплуатации монастырских доходов со стороны обедневших ктиторов. У нас, кроме Новгорода, ктиторами монастырей везде явились только князья, и потому у них не было корыстных отношений к своим монастырям. По тем же ктиторским побуждениям строили монастыри и богатые из монахов. Так, например, один из ранних киевских монастырей Спасо-Берестовский (упом. под 1072 г.), называвшийся Германечь по имени своего строителя Германа, который был в нем игуменом, поставлен был всего в сотне метров от монастыря Печерского и, следовательно, не для удовлетворения нужды в том монашествующих, а из желания строителя – иметь свой собственный монастырь. Стефан, преемник преп. Феодосия по игуменству в Печерском монастыре, после того как был выжит оттуда недовольной братией, также устроил при помощи сочувствовавших ему бояр свой монастырь в Киеве, так наз. Кловский Влахернский или Стефанечь. Антоний Римлянин, богатый новгородец, в завещательной грамоте созданному им монастырю великодушно отказывается от передачи кому-либо другому своих ктиторских прав, которые подразумевались сами собой: «се поручаю, пишет он, (свой монастырь) святей Богородице и крестьянам и даю в свободу». Обыкновенные монахи не усердствовали в строении монастыря вероятно потому, что не имели пред собой соответствующего примера Византии, где множество монастырей, настроенных в древнее время, не вызывало нужды в новом строительстве, а, во-вторых, вероятно, потому, что удовлетворялись возможностью монашествовать при церквах, тем более, что в таком способе монашества даны были все удобства к послаблениям аскетической дисциплины.
Обычай монашествования при церквах создал на Руси благоприятную почву для широкого распространения не общежительного, а келлиотского монастырского устава, так назыв. «идиоритма». Но устав этот ставит под сомнение самое существо монашествования, в котором вопрос об уставе имеет не какое-нибудь формальное, а именно существенное значение, потому что само монашество есть формальное установление. В его содержании (материально) нет и не может быть ничего сверх христианского: оно служит лишь особым методом личного спасения. Искажение в методе, или что тоже в уставе, есть поэтому искажение и самого установления. Монашеская методика спасения, берущая начало в чувстве собственного бессилия человека устоять против соблазнов окружающей жизни, есть методика буквального бегства из мира в пустыню по слову премудрого «отврати очи мои во еже не видети ми суеты». В пустыне, при крайней скудости средств к существованию, каждому отдельно живущему отшельнику не представлялось возможным впасть в какое-либо излишество. Но тонкие методисты аскетики нашли и то уже несовершенным в одиночном отшельничестве, что подвижник, при своих минимальных заботах о телесных нуждах, все же заботится и думает о себе. Чтобы затушевать и этот личный момент и наверное предохранить от возможных послаблений себе в одиноком подвиге, преп. Пахомий создал идеально-строгий общежительный устав, по которому каждый член братства вполне освобождался от необходимых забот только о себе и делался бессрочным рабом труда на общую пользу, по необходимости проводя все время в посте, бдении и молитве, без возможности каких-либо послаблений себе и будучи лишен малейшей личной собственности, до иголки включительно. Организованное на таких началах братство можно смело вдвинуть в какой угодно Вавилон, не рискуя потерять в его нравственной высоте слишком многого. Но келлиотство, имеющее смысл в пустыне (и в этом виде защищаемое Нилом Сорским), в соседстве с миром превращалось, по слабости человеческой, легко в привольное житье своим хозяйством и удобное пользование земными благами. Поэтому когда монашество, возложив руку свою на рало, оглянулось вспять и потянулось к шумным городам навстречу всем отвергнутым соблазнам, ему оставалось одно спасенье: прятаться за твердыню Пахомиева устава, не уступать миру эту верную крепость аскетической праведности. И действительно, при первом же соприкосновении с миром, в спасительном уставе пробиты были роковые бреши в виде неравенства в содержании старших и младших членов монастыря, в виде допущения частных заработков, в виде открытых ворот для греха. Но от падений всегда защищало монашество хотя частичное послушание общежительному уставу. Что же касается келлиотов, выделивших из себя еще класс совершенно неоседлых, вольных бродячих по миру монахов, то они дошли до всех крайностей ханжества и лицемерия, достойно оплаканных в греческой литературе некоторыми ревнителями христианского благочестия (Симеон Cолyнский XIV в.).
Когда русские монастыри начинали свою историю, в Византии произведена была реставрация строгого общежительного устава знаменитым Феодором Студитом, разумеется только в применении к его собственному КПльскому монастырю. Нам предстояло усвоить этот высокий образец во всей целостности и, не спуская тона, явить миру возрожденный идеал древнего монашества, его «вторую молодость», или, следуя общему заурядному примеру, унаследовать и продолжить монашество уже ослабленное грешной человеческой волей. К сожалению, как мы видели, самое начало русского монашества было неблагоприятно для его готовности следовать высокому образцу общежития. Оно сразу же ознакомилось с льготными условиями келлиотства. Энергическая попытка ввести на Руси строгий общежительный устав не увенчалась желанным успехом.
О введении Студитова Устава в Печерском монастыре достойно поревновал преп. Феодосий. Об истории получения этого устава преп. Феодосием Летопись и Несторово житие преподобного резко разногласят. Первая сообщает, что «Феодосий нача искати правила чернечьскаго, и обретеся тогда (в Киеве) Михаил Чернец монастыря Студийскаго, иже бе пришел из Грек с митроп. Георгием, и нача у него искати устава чернец Студийских, и обрехох у него, исписа» (1051 г.). Второе говорит, что Феодосий «посла единаго от братии в Константин град к Ефрему скопьцу, да весь устав Студийскаго монастыря исписав, прислет ему. Он же преподобного отца нашего повеленная ту абие и сотвори, и весь устав монастырский испьсав и послав блаженному отцю нашему Феодосию». Соглашают это разноречие предположительно. Так как устав Студитов сохранился в двух редакциях – краткой, представляющей запись самого Студийского монастыря, и пространной, редактированной в первой половине XI в. КПльским патриархом Алексием, то думают, что в Киеве у Михаила Феодосий нашел краткую запись, но узнал в тоже время и о подробной и постарался достать ее уже из КПля. Что преп. Феодосий стремился применить у себя на практике полученный устав во всей его строгой последовательности, это видно из нескольких частных упоминаний о порядках Печерского монастыря при Феодосии, всегда буквально соответствующих предписаниям Студитова устава. Таково, напр., общее наставление преподобного братии: «нелепо есть нам братие, иноком сущим и отвергшимся мирских, собрание паки творити имений в келлии своей; тем же братие, довольни будем о уставных пещись одеждах наших, о пищи, предложенной на трапезе от келаря, а в кельи от сицевых имети ничтоже». Это слово, а вот и дело. По свидетельству Нестора, Феодосий «многажды хожаше по келиям ученик своих и аще что обряшаше у кого, или брашно снедно, ли одежно лише уставныя одежи, или от имения что, сия взем, в печь вметаше, якоже вражию часть сущу и преслушания грех». Или вот еще поучительный поступок св. игумена, свидетельствующий также об общности и равенстве труда у печерских иноков. Однажды пришел к нему келарь с заявлением, что нет в монастыре дров и с просьбой нарядить рубить дрова какого-нибудь праздного брата. Феодосий отвечал: я празден, и пошел рубить; братия узнав, что игумен рубит дрова, взяли каждый свой топор и пошли помогать ему.
Но, как только сошел в могилу железный игумен, бразды правления ослабели и строгие порядки пошатнулись. Вид общежития сохранялся, но в него неудержимо проникали разлагающие течения «отьинуду». Еще при Симоне Владимирском (в половине XIII в). в Печерском монастыре соблюдалась общая трапеза, но из того же Печерского Патерика ясно, что и она была неполной. Скупой инок Арефа ухитрялся морить себя голодом, т. е. очевидно, имел возможность продавать часть дневной пищи, выдававшейся на руки. Право частной собственности и сребролюбие проникли в среду иноков и отравили их взаимные отношения. Инок Алипий, иконописец, получал плату, равно как и Марк могильщик. Чернец Еразм тратил на церковные нужды принесенное из мира богатство, а когда обнищал, то впал у братии в пренебрежение.
Особенно резкий случай передает Патерик о брате Афанасие. Он умер, не оставив ровно ничего из имущества, и за это сравнительно долго оставался без погребения: не нашлось сразу братий, готовых безмездно исполнить последний долг. Такова далеко несовершенная судьба общежития в самом славном рассаднике древнерусского монашества.
На вопрос, какой устав был принят в других русских монастырях кроме Печерского, летописец дает общий ответ: «от того же монастыря (т. е. от Печерского) переяша вси монастыреве устав». Ответ этот необходимо ограничить. Во-первых, из числа «всех» нужно исключить монастыри малые, зачаточные, привитающие около церквей. Во-вторых, утверждение летописи относится только к периоду времени до 1110 года, на котором обрывается начальный летописец. Но если даже мы предположим, за недостатком положительных данных, самое большее, что во всех монастырях всего периода до-монгольского вводился Студийский общежительный устав, то о строгости его практического применения, после поучительного примера Киево-Печерского монастыря, не имеем права думать что-нибудь лучшее. В следующем, московском периоде от общежительного монастырского устава не осталось и помину. Только начиная с препод. Сергия в XIV в. и затем в XVI в. начались попытки воскресить его.
В связи с постепенными ослаблениями истинно-монашеского устава стоит и разнообразие в средствах содержания монастырей. Собственно ни о чем другом, кроме «дела рук своих», здесь не должно было быть и речи. Но монахи пошли навстречу миру, и мир вовлек их в сеть своих экономических, несомненно принижающих душу, интересов. Преподобный организатор русского монашества еще был носителем истинно монашеского отношения к обольстительным мирским предложениям и сначала противоборствовал сторонним подаяниям в его монастырь: «не хотяше», говорил Нестор, «прилога творити (к монастырю), но бе верою и надежею к Богу вскланяяся, яко же паче не имети упования имением». Но сам Феодосий не сдержал своего pium dеsidеrium. Бояре, исповедуясь у преп. Феодосия, приносили ему от имений своих на утешение братии и строение монастырю «друзии же и села вдадуче на попечение им». Как видно из других частностей биографии преп. Феодосия, Печерский монастырь владел селами уже при его жизни. Последующие летописные известия говорят о богатых пожертвованиях монастырю, главным образом со стороны князей, золотом, серебром и недвижимыми имуществами. Кн. Ярополк Изяславич († 1086 г.) пожертвовал Печерскому монастырю «всю жизнь свою (т. е. все частные животы и имения), Небельскую волость, и Деревскую и Лучьскую и около Киева» (Ип. 1158 г.); его дочь подарила тому же монастырю «пять сел и с челядью» и т. д. Подобно Печерскому и другие русские монастыри получили обеспечение от князей и своих строителей. Вел. кн. Мстислав Владимирович (1125-1132 г.) дал Новгородскому Юрьеву монастырю, построенному его сыном, волость Буйцы и две статьи из княжеских доходов: «вено вотское» (вероятно брачные пошлины с вотской пятины) и «осеннее полюдье даровное» (может быть добровольные дары, подносимые князю сверх положенного полюдья). Антоний Римлянин купил и приложил к своему монастырю соседнее село Волховское и рыбную тоню на Волхове. Варлаам Хутынский, также богатый новгородец, завещал построенному им монастырю два села с холопами, несколько пожень и ловель рыбных и гоголиных. Так было положено начало земельным владениям наших монастырей.
Вместе с крупными пожертвованиями от мира в монастыри притекали из того же источника и другие статьи дохода. Вероятно и у нас скоро привился греческий обычай, по которому всякий, стремившийся быть погребенным с честью, покупал себе могилу обязательно в монастыре и делал туда, а не в приходскую церковь, взнос на помин души. Уже в до-монгольское время распространилось поверье, окончательно окрепшее в последующее время, что «всякий, положенный в Печерском монастыре, будет помилован, хотя бы и грешен был». Нужно думать, что бояре, наметившие себе еще при жизни известный монастырь, как место погребения, благотворили ему деньгами и натурой. Из возможных родов благотворения монастырям мы имеем упоминание только об угощении монахов трапезами. Вел. кн. Ростислав Мстиславич (1168 г.) во время великого поста приглашал к себе каждую субботу и воскресенье 12 чернецов Печерских и игумена на обед. По окончании поста он учреждал трапезу для всей братии и кроме того часто приглашал их к себе в среду и пятницу (именно в эти, а не в другие дни!). Эти трапезы не русское изобретение, а старый греческий обычай. Как видно из «Правила» митроп. Иоанна II, и у нас миряне не довольствовались угощением чернецов у себя на домах, а, при отсутствии нормальных монастырских порядков, часто задавали пиры в самых монастырях, стараясь превзойти друг друга роскошью яств и, как бы для большей порчи иноческих нравов, приводя вместе с собой туда и своих жен: «иже в монастырех», пишет русский митрополит, «часто пиры творят, созывают мужи вкупие и жены, и в тех пирех друг друга преспевают, кто лучший сотворит пир. Сиа ревность не о Бозе, но от лукавого бывает ревность си». Что выходило из таких пиров, видно из другого артикула того же «Правила», котор. митр. Иоанн начинает словами: «о еже во пирах пити, целующеся с женами без смотрения мнихом и бельцем».
По идеалу, всякий вступающий в монастырь должен покинуть «вся яже в мире», в том числе и свое имущество. Но в серой будничной действительности, коль скоро монастыри сделались хозяйственными корпорациями, то самыми желанными членами в них явились богатые постриженники, приносившие все свои сокровища в монастырскую казну. B необщежительных монастырях дело ставилось еще проще: деньги оставались у владельца на руках. Так бытовым образом монастыри превратились как бы в ассоциации на паях, т. е. не рассчитывали только на случайных богатых вкладчиков, а сделали вклады для всех вступающих обязательными. Насколько зло это распространено было у нас со времени самого появления монастырей, видно из случайных заметок Несторова жития преп. Феодосия. Последний «обходя вся монастыря, хотя быти мних и моляся им, да прият ими будет; они же видевше отрока простость и ризами же худыми оболчена, не рачища того прияти». Поэтому, когда он стал сам игуменом, то принимал всех, желавших пострижения: «не отреваше ни убога, но вся приимаше с всяким усердием, бе бо и сам в искушении том был». Вкладничество неизбежно повело к грубому нарушению равенства монастырских братий, разделило их на привилегированных, как бы капиталистов, и на неполноправных – черных работников. Такое явление можно подметить даже в самом Киево-Печерском монастыре. Патерик сообщает об одном мало-схимном монахе, что он много раз хотел постричься (в великую схиму), но по нищете его братия пренебрегала им: если он не мог добиться великой схимы по своей нищете, то очевидно великосхимниками в монастыре были только монахи денежные или вкладчики.
Следует заметить, что в то время великая схима представляла собой необходимое условие полноты монашеского звания и была в этом смысле для всех обязательна. Она была введена на Востоке сравнительно в позднее время (когда-то до IX в.) и сама по себе представляет нечто неожиданное в монашестве, потому что человеку, отрекшемуся от мира в малой схиме или в обыкновенном чине пострижения, не остается более ничего, от чего бы он должен еще отрекаться. И составители чина великой схимы заставили постригаемого снова повторять те же самые обеты, которые он произнес, разумеется не вотще, при своем монашеском пострижении и которые при вторичном произнесении звучат анахронизмом. («Отрицаешися ли от мира и яже в мире? Пребудеши ли в монастыре и в подвизании до последняго издыхания»? спрашивают снова схимника). Феодор Студит (IX в.) еще отрицал разделение монашества на два образа и признавал только один «подобно крещению» (Mignе P. Gr. t. 99 p. 1820). Но уже по редакции монашеского устава патр. Алексия (XI в). вводится два образа. Отсюда и преп. Феодосий Печерский усвоил следующий порядок монастырских степеней: «вся приходящая приимаше с радостию, но не ту абие постригаше его, но повелеваше ему в своей одежи ходити, дондеже извыкаше весь устрой монастырский, паче по сих облечашет и в мнишскую одежю, и тако паки во всех службах искушашеть и, ти тогда остригий оболчашет и в мантию, дондеже паки будяше чернець искусен, житием чист си, ти тогда сподобляшет и прияти святую схиму» (Нест. жит.). Но раз великая схима была признана за совершенную степень монашества, то последовательность требовала, по примеру преп. Феодосия, облекать ею всех добропорядочных чернецов, между тем греки распространили у нас иной взгляд, превращая схиму в какую-то экстрему. B этом смысле задавал вопрос еп. Нифонту иерод. Кирик и получил ответ положительный. «И еще без схимы есмь», вопрошал Кирик, «помышлял есмь в себе: ноли к старости тоже ся постригу, коли буду лучий тогда; но худ есмь и болен». Ответ: «добро еси помыслил, еже еси рекл в старости пострищися в схиму».
При указанных несовершенствах монастырских порядков, русское монашество изучаемого периода несомненно имело свои темные бытовые стороны. Особенно толкали на соблазны слабых людей монашествование в вольных безуставных монастырях и свобода брожения по миру, как это было и на Востоке. О них имеется сатирическое замечание Даниила Заточника: «Мнози, отошедше мира сего, паки возвращаются, аки пси на своя блевотина, на мирское гонение: обходят села и домы славных мира сего аки пси ласкосердии, идеже браци и пирове ту чернецы и черницы беззаконнии, отеческий имея на себе сан, а блудив норов, святительский имея на себе сан, а обычай похаб».
В pеndant к ненормальным явлениям на фоне русского монашества следует еще сказать о некоторых искажениях этого института, какие у нас практиковались по примеру греков уже в период до-монгольский, а именно – 1) о пострижениях при последнем издыхании, и 2) о насильных пострижениях в целях политических и гражданских. Первый обычай возник, вероятно, не без связи с взглядом на иноческое пострижение, как на таинство, как на второе крещение, очищающее от грехов. Вслед за псевдо-Дионисием Ареопагитом взгляд этот настойчиво развивал Феодор Студит (P. Gr. t, 99, pp. 1521, 1524, 1596); на той же точке зрения стоял и Симеон Новый Богослов (K. Ноll. «Enthusiasm u. Bussg. b. griесh. Mönсhtum». Lpz. 1898. «Виз. Врем.». VI, 475 и след.). О случаях предсмертных пострижений мы узнаем только о князьях и княгинях, и то начиная с конца XII века. Этот обычай ввелся на Руси не без борьбы со стороны белого духовенства. Первое по времени летописное упоминание данного обычая под 1168 год (Ип.). сопровождается следующим характерным сообщением: вел. кн. Ростислав Мстиславович «егда отходя житья сего маловременнаго и мимотекущаго, молвяше Семьюнови попови, отцу своему духовному: тебе вьздати слово о том Богу, зане же взборони ми от постриженья». Точно также и Поликарп, инок Киево-Печерский, пишет в Патерике: «кто говорит – постригите меня, когда увидите, что я буду умирать, того суетна вера и пострижение». Случай насильного пострижения в интересах политических, определенно и ясно засвидетельствованный (кроме двух менее ясных), известен всего один. В 1205 г. Галицкий князь Роман Мстиславич победил своего тестя вел. кн. Рюрика Ростиславича и постриг его вместе с женой. Однако менее, чем через год сам был убит, а постриженный Рюрик сбросил черные ризы и снова княжил в Киеве и Чернигове целых 10 лет.
Человеческие порядки вообще очень несовершенны. Если бы они обладали для всех непреоборимой силой, совершенствование было бы немыслимо. К счастью люди, одаренные незаурядными силами духа, находят возможным возвышаться над несовершенством порядков, над «заедающей средой», и становятся теми праведниками, существованием которых искупается грешный мир. Наше русское монашество в этом отношении сразу же начало свой золотой век: просияло выдающимися образцами сурового, жестокого иноческого подвига. Всем известны подвиги этих колоссов аскетики – первоустроителей нашего монашества, Антония и Феодосия Печерских. Их великие души пламенели такой ревностью «яже по Бозе», что способны были заразить ею и увлечь все чуткие соприкасавшиеся с ними натуры и создать целую дружину духовных богатырей, которая была лучшей жертвой Богу от новопросвещенной Руси. Об этом сонме подвижников свидетельствует в общих словах и летописец (1074 г.): «Стефану же, говорит он, после смерти Феодосия предержащю монастырь и блаженное стадо, еже бе совокупил Феодосий, таци бяху черньци, яко светила в Руси сияют; ови бо бяху постници крепци, ови же на бденье, ови же на кланянье коленное, ови же на пощенье через день и через два, ини же ядуще хлеб с водою, ини зелье варено, друзии – сыро». Только об одних Киево-Печерских подвижниках сохранила нам память история, но и то, что известно о них, достойно всякого удивления, и что касается количества подвизавшихся и видов их подвигов. Сами преподобные наши первоподвижники положили начало подвигу пещерничества. Произошло это следующим образом. Преп. Антоний, по возвращении с Афона, предполагал сначала поселиться в каком-либо из киевских монастырей, но ему не понравились условия их жизни («не возлюби»). Он вышел за черту города и случайно нашел двухсаженную пещеру, выкопанную в холмистом берегу Днепра берестовским пресвитером Илларионом, впоследствии митрополитом русским. Здесь Антоний и поселился и тем положил начало пещерному монастырю. Несмотря на такую случайность полагают, что пещерничество все-таки не является совершенно оригинальным русским изобретением. И Антонию и Иллариону известен был пример Востока, где иночество часто селилось в пещерах. Пещеры там высекались в каменных боках горных утесов, были сухи, прекрасно защищали от ветров и, при мягкой средней годовой температуре, служили, как и до сих пор служат, удобными жилищами для отшельников и даже для целых сельских и городских обществ. Знакомство с этими пещерными монастырями, по крайней мере для препод. Антония, не подлежит сомнению, потому что он путешествовал на Восток. Допуская для начала русского пещерничества внешний образец на стороне, мы должны однако признать тот факт, что особым родом подвижничества оно сделалось только у нас, благодаря суровым климатическим условиям и благодаря той постановке, какую дал ему препод. Антоний. Вероятно находя невозможным существование в открытой наружной пещере, которая зимой могла заноситься снегом и не держать в себе ни малейшего тепла, преп. Антоний углубился в землю. Этим достигалась некоторая защита от внешних стихий, но зато организм обрекался на крайне изнурительное существование среди вечной сырости, при отсутствии света и свежего воздуха. Таким путем самое проживание в подземных, нехарактерных для аскетической практики Востока, пещерах становилось подвигом. Пещерничество, как специальный подвиг, продолжалось и после Антония и Феодосия, когда монастырь был уже выстроен над землей, как это видно из примера преп. Василия и Феодора, поселившихся в так наз. Варяжской пещере. B рассказе Патерика пещерничество неоднократно является в соединении с другим родом подвижничества, позаимствованным с Востока, именно с затворничеством. Затворы были, судя по некоторым намекам летописи, и в других местах кроме Киева (Л. 1175 г.) и, по всей вероятности, помещались в надземных монастырских кельях, но в Печерском монастыре они находились в пещерах. Печерские затворники (Исаакий, Никита, Лаврентий, Иоанн), в неимоверном посте и самоумерщвлении проводили в земле не только годы, но даже десятки лет. B форме затвора было у нас и столпничество, как видно из биографии Кирилла епископа Туровского. Примером крайнего постнического подвига служит Прохор Лободник, который провел без хлеба всю свою жизнь; «не вкусил от хлеба, кроме просфоры, и никакого овоща и литья, но только лебеду и воду». Исаакий-Затворник, при вступлении в монастырь, придумал для истязания своей плоти следующую оригинальную одежду: облекся в колючую власяницу, а поверх ее в сырую шкуру, снятую с козла; обсохшая вокруг его тела шкура тесно прижала к нему власяницу, не давая ни секунды покоя. Тот же Исаакий принял на себя впоследствии и подвиг юродства. Таковы были внутренние аскетические подвиги…