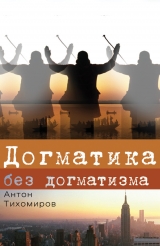
Текст книги "Догматика без догматизма"
Автор книги: Антон Тихомиров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 5. Творение
В последнее время тема творения – в широком смысле, отношения Бога к миру и его истории – стала необыкновенно актуальной. Повсюду ведутся острые дискуссии, собираются многочисленные конференции по этому вопросу, одно за другим выходят полемические сочинения. Авторы одних утверждают, что все библейские повествования на тему сотворения нужно понимать исключительно буквально и, соответственно, обвиняя светских ученых в предвзятости или даже подлогах, пытаются построить альтернативную, так называемую «креационистскую» модель возникновения и истории мира. Авторы других книг столь же ожесточенно доказывают, что научный подход к вопросу возникновения мира, происхождения и развития человека полностью исключает веру в Бога, настаивают, что наука «доказала» отсутствие Творца и Господа мира.
Обе стороны можно понять: вопрос объяснения происхождения мира, изучения движущих сил, направляющих его развитие, является крайне интригующим. Однако и та, и другая позиция – результат вполне определенной идеологии. Нам с вами необходимо посмотреть на вопрос творения совсем под другим углом, с точки зрения веры.
В этом нам поможет Малый Катехизис Мартина Лютера. В своем толковании первого члена Символа веры («Верую в Бога Отца, всемогущего, Творца неба и земли») Лютер пишет: «Верю, что меня, как и всех тварных существ создал Бог, что Он дал мне тело и душу, зрение и слух, разум и чувства и все члены тела, и сохраняет все это и по сей день, и сверх того дарует мне одежду и обувь, пищу и питье, дом и двор, жену и детей, поле, скот и всякое имущество, что Он щедро наделяет меня пропитанием и всем потребным для тела и для жизни на каждый день, ограждает меня от всех опасностей и оберегает от всякого зла – и все это лишь по своей отеческой, божественной благости и милосердию, без всяких моих заслуг и достоинств».
Это удивительные слова – Лютер совсем не интересуется, когда был создан этот мир, семь тысяч лет назад или несколько миллиардов, и каким образом (скажем, почти одномоментным сотворением всех видов живых существ или их эволюционным развитием). Лютер пишет о том, что касается его самого, его лично в повседневной жизни. Самое главное в учении о творении – это то, что я создан Богом, а также то, что Бог постоянно дает мне все необходимое для жизни. Учение о творении – это размышление не о том, что произошло когда-то в незапамятных глубинах времен, а о том, что происходит со мной сейчас. Не звезды и галактики, не загадка зарождения жизни и научные понятия, вроде биологических видов, а одежда и обувь, которые я ношу, пища, которую я принимаю, мое имущество, которое я могу использовать, моя семья – вот, что такое для меня творение Божье. Так творение перестает быть пусть интересной, но отвлеченной богословской темой, а становится поводом к глубокой личной благодарности. Это и есть взгляд веры.
Говоря о творении, мы не спорим о том, как и когда возник этот мир, а радуемся и удивляемся тем дарам, что Бог дает нам сейчас, ежедневно. Размышляя о творении, мы учимся совершенно иначе смотреть на мир вокруг нас. Все его предметы, события приобретают новое измерение. Мы с вами, например, прекрасно знаем, откуда берутся дети, но, тем не менее, продолжаем говорить, что они дар Божий. Любой верующий прекрасно знает, откуда появился хлеб на его столе, но, тем не менее, каждый раз, садясь обедать, он благодарит за него Бога – благодарит, как за Его непосредственный дар. Я процитирую современного лютеранского богослова Михаэля Рота: «Верить в творение – это значит доверять миру как обетованному мне жизненному пространству, воспринимать настоящее как дарованное мне. Говорящий таким образом о творении человек понимает себя не как некий элемент запущенного Богом природного механизма, но воспринимает мир, как обетованный лично ему». Вера в творение создает совершенно новое отношение человека к миру и к себе самому. Мир становится с любовью приготовленным домом человека, а не некой нейтральной «средой обитания». В этом главное назначение рассказов о творении: не описывать то, что произошло в определенный момент времени, а создавать новую, лежащую за пределами объективной данности и субъективных чувств человека реальность: реальность доверия, утешения, радости и благодарности среди всех перипетий истории.
Здесь есть и еще одна сторона вопроса. Мы верим, что это Бог дает нам хлеб насущный, хотя можем четко проследить все те естественные процессы, благодаря которым он появляется у нас на столе. Точно так же мы можем сказать и обо всем мире: как бы ни выглядела естественная причина его появления, о которой можно спорить, и в отношении которой можно строить самые разные научные гипотезы, – творение Божье является чем-то более глубоким. Оно имеет природу, если можно так сказать, более изначальную, но не во временном, а в принципиальном смысле изначальную, чем все такие естественные (или сверхъестественные) причины. В самой глубине этого мира лежат не конкретные, описываемые наукой процессы, а творческая воля Бога. Она является подлинной – независимой ни от времени, ни от пространства, ни от течения естественных или исторических процессов – основой нашего мира. Творческая воля Бога независима, и потому она и не замещает собой эти процессы. Она осуществляется в них и через них. Именно поэтому нет никакой необходимости противопоставлять веру науке. Некорректно было бы, например, говорить: «Мир возник не в результате Большого взрыва, а как действие творческого слова Бога». Это все равно, что спорить о том, горячее солнце или прекрасное. И то, и другое утверждение может быть верным одновременно. Разумеется, первое при этом должно снова и снова подвергаться научной проверке и, если нужно, корректировке, а второе остается оценочным взглядом и потому не может быть пересмотрено или опровергнуто, к каким бы результатам ни пришла наука. Можно даже сказать, несколько преувеличивая: если вдруг завтра наука неопровержимо докажет, что мир никогда не возникал, а существовал всегда, это ничего не сможет изменить в нашем взгляде на него как на творение Божье. Ведь творение для нас – это, прежде всего, не некое отдельное событие в далеком прошлом, а описание мира в его нынешнем положении, описание мира в его отношении к Богу.
Простой пример: перед вами картина великого художника. Можно провести химический анализ холста и красок – тем самым мы узнаем много о месте и времени написания картины. Но чтобы по-настоящему понять ее, нужно взглянуть на нее не как на материю с несколькими слоями краски, а как на произведение искусства, увидеть внутренний ее смысл, позволить ей воздействовать на нас. Это два разных взгляда, которые, упрощая, можно представить как научный взгляд на мир и взгляд веры.
Вера дает свое описание мира, сделанное совсем с другой точки зрения, чем научное. И в этом описании, помимо уже упомянутых, принципиально важны еще два момента. Очень точно их называет современный богослов Вильфрид Гэрле. Во-первых, учение о творении говорит, что Бог и мир кардинально, бесконечно различны. Такое радикальное различие между миром и Богом вовсе не является чем-то само собой разумеющимся. Здесь мы можем вспомнить множество древних мифов, где описывается, как мир был сотворен из божества. Более того: многие христиане и сегодня имеют склонность к подобным взглядам, например, говорят о некой «божественной искорке» в человеке. Библия же, повествуя о сотворении мира, подчеркивает, что все, что мы знаем в мире, является тварью, творением, а не Богом или Его частью. Мир – это нечто совершенно иное по сравнению с Богом. Мир – не божественен. Макс Вебер назвал процесс осознания этой истины «расколдовыванием мира». Собственно, отчасти поэтому и стала возможной вся современная наука и техника: люди перестали относиться к миру как к чему-то божественному, а стали рассматривать его как объект для исследований.
И в то же время Бог и мир очень тесно связаны друг с другом. Мир принципиально отличен от Бога, но он не может существовать отдельно от Него, и тем более он не противостоит Ему, как некая совершенно иная сила. Мир не божественен, но он и не безбожен. Он – не некое второе начало и не порождение такого второго начала, как учили многие секты. Мир существует по воле Божьей, хорош в глазах Бога и целиком и полностью зависит от Него. Бог постоянно действует в мире. Бог – можно вспомнить слова Пауля Тиллиха – это основа и бездна этого мира или, как мы уже говорили, тайна, стоящая за миром.
Итак, библейское, христианское учение о творении не претендует на то, чтобы подменять собой результаты научных исследований на тему происхождения и истории Вселенной. Научные исследования могут и должны совершаться самостоятельно, без оглядки на богословские концепции, тем более, если те базируются на устаревших моделях мироздания. Только будучи свободной, наука сможет дать нам немало поводов изумиться величию творения и, главное, величию Творца. Это же касается отдельных моментов развития мира, например, вопросов эволюции. Возникновение человека в процессе длительной эволюции отнюдь не означает того, что он не является творением Божьим. Писание не говорит нам о том, как возник и развивался мир с научной точки зрения, оно образным, поэтическим языком описывает нам смысл бытия мира и человека перед лицом Божьим, и даже, скорее, создает этот смысл. Учение о творении помогает нам правильно относиться к миру и к тому, что окружает нас в нем: относиться с уважением, любовью, но без религиозного поклонения.
А самое главное: учение о творении помогает нам воспринять мир вокруг нас, нашу с вами жизнь как добрый дар Бога. Оно помогает нам ежедневно заново изумляться милости Бога и постоянно благодарить за нее, и более того, оно является выражением этого изумления и этой радости.
Глава 6. Вопрос о человеке
Богословские рассуждения о человеке (как и в вопросе о творении вообще) нельзя путать с научными. Ошибочно было бы говорить, например: психология учит о человеке так-то, но с богословской точки зрения это неверно, поэтому христиане не могут принять такого учения. Разумеется, психология (как и другие науки о человеке) может в чем-то ошибаться, иначе не было бы столько разных, порой противоречащих друг другу теорий. Но вопрос о том, какая их них вернее, должен решаться исключительно научными методами. Богословие и тем более веру нельзя вносить в этот спор, использовать, как одну из возможных точек зрения.
Богословие не должно подменять собой естественные науки. Если ученые убедительно показывают нам, что человек возник в результате эволюции, то нам не нужно бросаться доказывать, что он был вылеплен из земли. Нам нужно подумать о том, как при помощи Писания, тех образов, которые оно нам предлагает, и нашего разума мы можем описать положение этого, возникшего в результате эволюции, человека перед Богом.
Человек является тайной сам для себя, он постоянно стоит под вопросом: «Что я такое?». Здесь можно процитировать современного богослова Юргена Мольтмана: «Если человек становится вопросом сам для себя, то он приходит к раздвоению. Он является спрашивающим и в то же время является тем, о чем спрашивают. Он спрашивающий о себе. Но если он одновременно спрашивающий и то, о чем спрашивают, то все те ответы, которые он дает самому себе или получает от других, будут недостаточны и становятся для него новыми вопросами. Как человек становится над другими вещами, чтобы познать их и использовать, так он желает и, наконец, встать над самим собой, чтобы познать себя. Но поскольку он сам есть тот, кто хочет встать над самим собой, поэтому он снова и снова ускользает у себя самого из рук. Он становится тем больше загадкой для самого себя, чем больше вариантов ответов в виде теорий о человеке ему предлагается».
Таким образом, человек никогда не может познать себя, понять, что же он такое. Для этого ему пришлось бы стать над самим собой, а это невозможно. Человек непостижим. Его нельзя определить. В другом контексте и по другому поводу, подобную мысль выразил Бахтин, когда написал, что человек не совпадает сам с собой. Тем не менее, человек может снова и снова ставить этот вопрос о себе: «Что такое человек?», – даже если ответ будет ускользать от него. При этом, по мнению того же Мольтмана, вопрос «что такое человек?» можно задать как минимум трояким образом, и каждый раз мы будем получать разные ответы. Давайте приглядимся к ним.
Во-первых, человека можно сравнить с животными. Это самый простой и очевидный подход. С момента своего возникновения человек неизбежно сравнивал себя с другими живыми существами. Он замечал свое сходство с животными и свои отличия от них. В наиболее лаконичной формуле эти сходства и различия были выражены еще в античности. Тогда и родилось высказывание: «Человек – это разумное животное». Иными словами: человек – это живое существо, такое же, как остальные, только обладающее разумом.
То, что мы называем разумом, является своего рода компенсацией для практически отсутствующей системы инстинктов. Отсутствие заложенной программы позволяет человеку быть творческим и способным к разнообразию. Его открытость миру, отсутствие своего раз и навсегда прописанного места в мире, своей твердой ниши позволяет человеку, даже подталкивает его к тому, чтобы создавать свой собственный мир, то есть культуру. И здесь наиболее заметным отличием человека от животных является язык. Язык становится важнейшим средством формирования человеческой культуры.
Да, многие животные тоже обладают развитой системой обмена информацией. Эти системы могут быть даже куда более сложными, чем нам на первый взгляд кажется. Но у человека есть уникальная способность входить в коммуникацию по поводу отсутствующих или абстрактных предметов. Это могут быть, например, прошлые истории, будущие события, этические нормы, представления о богах и так далее. Язык же создает и возможность обучения.
Особенно важным было бы дополнить сказанное тем, что человек – это единственное живое существо, обладающее самосознанием. Скажем, животное может чувствовать боль, но оно не может ощутить себя, чувствующего боль. Огрубляя и упрощая: животное может издать крик боли, но не может сказать: «Мне больно!».
Мы сейчас не будем вдаваться в те споры о различных тонкостях, которые ведутся в науке и философии. Ограничимся пока этим простым выводом: если мы сравниваем человека с другими живыми существами, то определением человека будет: «Человек – это разумное (владеющее языком, сознающее себя) живое существо».
Но теперь попробуем поразмышлять о человеке в контексте межчеловеческих отношений. Пусть разумность – это важнейшее отличие человека от животного, но ведь человек состоит не только из разумности. То, что объединяет человека с животными, оно тоже является частью его существа: наше тело с его ощущениями, наши (пусть и радикально ослабленные) инстинкты, наши эмоции – все это тоже является неотъемлемой частью человечности.
Человек – это нечто цельное, и если мы хотим дать какое-то определение человека, то оно должно включать в себя все уровни его существа, а не только его отличия от животного мира. Человека делает человеком не только то, что отличает его от животного мира, но и то общее, что есть у нас с животными.
Более того, вопрос можно поставить и острее: если человек – это разумное живое существо, то как быть с младенцами, как быть с человеческими эмбрионами, как быть с тяжелыми душевнобольными, как быть с людьми, рожденными без мозга, как быть с находящимися в коме? Являются ли они людьми? Являются ли они людьми в полном смысле этого слова? Они не обладают рациональностью, разумностью, может быть, даже вообще не обладают сознанием. Есть люди, у которых в силу болезни или от рождения сохраняются только вегетативные функции, то есть их физиология и психология развиты меньше, чем даже у низших животных.
Дитрих Бонхеффер в своей «Этике» предлагает следующее решение этой проблемы: «Вопрос имеем ли мы дело в случаях врожденного слабоумия с человеческими существами, является настолько наивным, что он и не требует ответа. Речь идет о рожденной от человека больной жизни, которая не может быть ничем иным, как, конечно, крайне несчастной, но все же человеческой жизнью».
Итак, речь идет о том, что всякая жизнь, рожденная от человека, является человеческой жизнью. Таким образом, мы не можем говорить о каком-либо человеке изолированно от всего человечества, от других людей. Понятие «человек» – это родовое понятие. То, что предлагает Бонхеффер, не является определением в строгом смысле этого слова, но оно помогает нам найти сколько-нибудь подходящий путь. Мы не можем определить человека, но мы можем увидеть его в его отношениях.
Таким образом, если мы говорим о том, что такое человек в контексте человеческих отношений, то понятие разумности теряет свое исключительное место, и нам нужно совсем другое определение человека, например, то, что предлагает Дитрих Бонхеффер. Нетрудно увидеть, что это совсем другое определение, несопоставимое с первым. Дополнить одно другим, привести их в гармоническую систему невозможно. Человек, как и отмечалось уже, словно бы ускользает от самого себя, от любых раз и навсегда данных определений.
Но главным для нас является третий вопрос о том, что же такое человек перед лицом Божьим. И здесь мы снова сталкиваемся с необходимостью иной точки зрения. Более того: из этого вопроса мы видим, что присутствие Бога, отношение Бога к человеку, как ничто другое ставит человека под вопрос. И это вопрос куда более радикальный, чем все философские и научные вопросы, которых мы только что касались. Слабо, но все же можно сравнить его с вопросом, который один любящий может поставить другому: «Что я такое, что ты полюбил или полюбила меня?». Даже если я все знаю о себе во всех смыслах, даже если я целиком и полностью понимаю себя, даже если у меня есть совершенно точное определение того, что же такое человек, то здесь я снова становлюсь для себя самого тайной.
И здесь нам с вами надо вспомнить знаменитое определение человека, которое дал Лютер. Лютер знал античное определение о том, что человек – это разумное животное и во многом признавал его. Однако Лютер отчетливо видел и его недостаточность. Разум – это определенная характеристика человека, одно из его свойств. В подлинном же определении речь должна идти о том, что охватывало бы собой исток, сущность и цель человека. Поэтому в своей Disputatio de homine Лютер говорит, что человек – это тот, кто нуждается в оправдании Божьем и может быть оправдан по вере. Итак, Лютер определяет человека, исходя из оправдания Божьего. Вот, что такое человек с богословской точки зрения. Человек – это существо, которое (актуально или потенциально) имеет отношения с Богом и притом весьма конкретные и специфические отношения, а именно: отношения оправдания по вере. Это определение совсем не похоже на определение, оно даже грамматически в оригинале построено иначе. Но именно так и корректнее всего говорить о человеке в богословии: не о том, что человек есть, а о том, как он соотносится с Богом.
Глава 7. Человек как образ Божий и цельность человеческого существа
Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Это одно из самых известных мест Библии, одно из самых важных утверждений христианского вероучения. Эти слова имеют, действительно, едва ли не решающее значение в богословской дискуссии о человеке. Они, с одной стороны, ярко и четко выделяют человека из ряда других сотворенных существ, с другой стороны, они указывают на отношение человека к ним. Но как понимать это высказывание? В чем, собственно, заключается образ и подобие Божье в человеке?
Здесь мы оказываемся буквально в непроходимых дебрях самых различных мнений и учений, что в разное время выдвигались разными богословами. Речь идет об отдельных способностях или качествах человека, которые делают его образом и подобием Божьим: образ и подобие Божье в человеке состоит в том, что человек обладает, скажем, свободой, или разумом, или волей, или памятью, или способностью любить, или сознанием, или нравственной ответственностью и так далее.
Но дело в том, что уже сама формулировка «образ и подобие Божье в человеке», – уже сама эта формулировка является в корне неверной! Нет в человеке никакого образа и подобия Божия! Человек является образом и подобием Божьим, он есть образ и подобие Божье. И здесь речь должна идти о человеке во всей его целостности. Образ и подобие Божье – это не часть человеческого существа, а весь человек в целом.
Образ и подобие означает, что человек способен вступать с Богом в отношения, может предстоять перед Богом. Бог творит Себе образ и подобие, – это значит, Он творит Себе партнера, того, с кем можно иметь отношения. Причем, опять же, имеется в виду человек в целом: и его телесный, и его животный, его витальный, и его духовный аспекты. И в телесном смысле человек – образ и подобие Божье. Это не значит, конечно, что Бог обладает телом, которое было бы подобно нашему. Это значит, что и в нашей телесной жизни мы являемся партнерами Бога, что наши отношения с Ним простираются и на эту сферу нашей жизни. И то, что в нас сохраняется от животных, что объединяет нас с ними, – оно тоже подпадает под понятие «образ и подобие Божье». Поэтому бессмысленно искать что-то в нас, что делает нас подобными Богу, и что-то, что отдаляет нас от него. Всем своим существом, всей своей жизнью, во всех ее аспектах мы призваны предстоять, и предстоим перед Богом.
В этом контексте нужно поднять вопрос о цельности человеческого существа.
Весьма распространенным в христианстве является учение о том, что человек состоит из двух (тело и душа) или трех разных частей (тело, душа и дух). Причины популярности такого учения понятны. Человек как существо, обладающее сознанием, не может примириться со смертью. Идея бессмертия души – это выражение такого естественного протеста против смерти. Тем более что короткая жизнь на земле не дает человеку всех возможностей для полного развития своей личности. Кроме того: в силу своих способностей человек может абстрагировать свою личность от своего тела. Человек понимает, что его личность, его идентичность не совпадает ни с его телом в целом, ни с какими-либо отдельными его частями.
Но как бы то ни было, все учения такого рода являются крайне проблематичными. Большая часть библейского предания не поддерживает такой картины человека. Человек, согласно библейским текстам, не обладает душой. Он душой является (Вспомним историю сотворения из второй главы книги Бытия. Там сказано: «и стал человек душою живою», а не, например, «и обрел человек душу». Кроме того, «душою живою» там именуется любое живое существо).
Дух, душа, плоть – это не три составные части человеческой природы, а три аспекта человеческой жизни, три различных точки зрения на человека – в его цельности.
Каждый человек (равно как и животное) является душой – на библейском языке это слово означает просто «жизнь» или «живое существо». Это значит, что человек является живым существом, которое подчиняется биологическим и психологическим законам. Каждый человек является плотью, то есть грешным, удаленным от Бога существом. При этом слово «плоть» в Библии подразумевает не только телесный, но и мыслительный и чувственный и даже религиозный аспекты человеческой жизни. Весь человек, включая его эмоции и разум, именуется плотью. А под словом «дух» в Ветхом Завете понимается часто просто «дыхание», то есть та же жизненность, витальность человеческого существа, в Новом же Завете «духовность» человека означает, как правило, противоположность плоти, то есть наличие правильных отношений с Богом (в том числе, и в телесной сфере). Иногда этим словом, а равно и словом «душа» обозначается идентичность человека, его личность.
Итак, человек целостен, он един. И хотя эта истина очень многим христианам незнакома, но именно она является по-настоящему христианской. Телесное в человеке не должно подвергаться никакой дискриминации, вроде той, какая существует во многих религиях. Не телесное отделяет человека от Бога, не телесное, как таковое, нужно нам побороть. Напротив, телесная сторона жизни точно также дарована Богом, и через нее мы устанавливаем отношения с Богом и пребываем в них. И в телесном смысле человек является образом и подобием Бога. Душа же – это жизненность человека, его жизнь, жизненный принцип, витальность. Или же, как уже упоминалось, этим словом можно обозначить не привязанную «намертво» ни к телу, ни к чувственной или разумной сторонам жизни, уникальную идентичность каждого человеческого существа.
Соответственно, душа ни в коем случае не является бессмертной. Со смертью человек умирает, умирает по-настоящему. Он больше не живет. Его жизнь заканчивается в полном смысле этого слова. Всякое учение о том, что какая-то часть человеческой природы продолжает свое существование ставит под вопрос христианское учение о воскресении, как об основании нашей надежды. Зачем тогда Христу было воскресать, почему именно Его Воскресение стало столь значительным событием, если самая главная часть человеческого существа (душа) и так бессмертна? Нет, Воскресение Христово являлось чем-то совершенно неожиданным, радикально новым. И именно Воскресением побеждена смерть, а не неким бессмертием души. Лютеранский богослов XX века Пауль Альтхауз пишет: «Нам нужно проститься со старой верой в душу, которая в мышлении Запада господствовала со времен Платона вплоть до настоящего времени, а именно: проститься с дуалистической идеей, что душа, как некая самостоятельная сущность, которая по своей сути ничего общего с телом не имеет, обитает в теле, может быть отделена от него и т. д. Это древнее представление не соответствует истинному отношению между душой и телом, которое мы обозначили как «телесность души». Потому мы и не можем понимать смерть человека в ключе веры в душу: будто бы самостоятельная и бессмертная душа отделяется от тела, в котором обитала до сих пор. Если мы поняли, что телесность неразделима с душой, тогда смерть и разложение тела не является таким событием, в котором душа не участвует, в котором она могла бы сохраниться; нет, смерть затрагивает и душу. «Отделение бессмертной души от тела» – это традиционное древнее определение смерти не выражает всю серьезность смерти. Если у души отнимается тело, то и она сама отнимается у себя (…) Если мы, христиане, веруем в новую жизнь, проистекающую из смерти, то это не означает: тело разлагается, а душа живет. Нет: Творец и Господь нашей жизни в смерти полагает конец современному существованию человеческой личности…».
Таким образом, все учения о том, что человек обладает душой или духом, которые можно отделить от тела, являются неверными. Они пришли не из Библии и не из специфического опыта христианской веры. Они унаследованы из античной языческой философии. Они не христианские по своему происхождению. Более того: они очень плохо согласуются с основными истинами христианского вероучения. Тем не менее, приходится признать, что они стойко укоренились в христианстве. В этих представлениях человек бессмертен по самой своей природе. В человеке по самой его природе заключено что-то высшее, что-то Божественное. И это в корне неверно, поскольку отсюда следовало бы, что человек не так уж сильно нуждается в спасении и искуплении. Но согласно Писанию человек един и целен. И как единый и целый: телесный, живой, чувственный, разумный – предстоит он перед Богом и строит свои отношения с Ним. Проводить какие-либо принципиальные разделения внутри человеческой природы и тем более объявлять какую-либо из этих предполагаемых частей человеческого существа стоящей выше и ближе к Богу невозможно и недопустимо. Человек – это земное существо, подчиняющееся всем законам этого мира. И как таковое, оно не предполагает наличия в нем сверхъестественной души. Но именно как земной, как мирской, человек и вступает в отношения с Богом.








