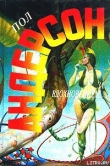Текст книги "Радуга прощения"
Автор книги: Антон Савин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Мы немного постояли друг против друга молча, и я наконец тоже натянул в ответ какую-то из улыбок и смог спросить:
– Почему же мне... повезло?
Она таким же тоном, словно я был поверженный враг, а она добивающий врага самурай, проговорила:
– Потому что первый доброволец уже нашелся.
Когда она это сказала, все сразу переменилось. Жертва вскочила и надумала обороняться, говорить быстро. Я спросил, и вопрос мой уместился в долю мгновения:
– Так это вы?
– Да.
– Не получится.
– Почему?
– Нет мотива.
– Что ж... все другие могут захотеть стать странными людьми, а я нет?
– Лекарство не испытано... Я не могу разрешить.
– Но мне надо. Я не могу больше ждать!
– Почему ждать? Вы только что от меня услышали...
– Мне нужно запечатлеться у вас в памяти. Мне нужно, чтобы вы меня помнили каждую секунду! А для этого нет средства другого... Так что давайте свой порошок.
– Но, Елизавета Павловна, милая, это опасно!..
– Никакая я вам не милая. Вот отдадите порошок – буду милая. Пока я вам никто.
– Почему же никто? Вы мне добрая знакомая и...
– Я вам обычная провинциалка, вдобавок не самая красивая. Таких, как я, можно попытаться соблазнить, а можно определить себе в подруги и знакомые. Это дело вкуса и времени. Ведь честно скажите: все так?
– Да, может, и так, но зачем вам я? И на что вам сдался я?
– Мне с вами интересно. Вы сами говорили... Это и значит, что я вас люблю.
Она склонила голову набок и спрятала лицо, как дитя. Однако не заплакала – по крайней мере я не увидел.
Когда нужно стало что-то говорить, я сказал:
– Лекарства я вам все-таки не могу дать... Это было бы совсем уж безответственно! Да вдобавок надо разобраться и подумать...
– Да, вы правы, разобраться и подумать, – спокойно, только уж слишком четко и тихо повторила она мои слова. – А я пока пойду, можно?
– Да, конечно, идите. Мы скоро увидимся.
На следующий день все было готово для инъекции Керемету. К тюрьме была вызвана медицинская сестра, которой сказали, что нужно сделать укол глюкозы. Она, сам вор и тюремная охрана ждали меня, но я так и не пришел.
Потому что впрыскивать стало нечего.
Потому что я понял, почему так спокойно и четко проговорила Свешницкая последние слова. Понял это за час до предполагаемого действа – когда открыл ящик стола и не нашел там пакета. Когда вспоминал, что вчера, еще до всех этих странных признаний, я подводил Елизавету Павловну к столу полюбопытствовать на внешне безобидный вид белого порошочка, способного изменить мир.
В тот момент, когда я глупо стоял над столом, скрипнула калитка – это хозяйка вернулась от соседки. Я расспросил ее и узнал, что "сегодня к вам та же барышня была... Я ей сказала, что вы на службе, а она сказала, что вы сейчас придете и она к вам по делу... Я ее тогда и запустила к вам в кабинет, ибо знаю, что вы с ней в дружбе... Не в коридоре же ей стоять".
Фраза явно имела характер осуждающий, в глазах читалось "а еще дочь учителя", но мысли хозяйки совершенно изменились, когда, вместо того чтобы устыдится, я заорал:
– Ко мне никогда и никого не пускать в мое отсутствие! Я фактический глава энской прокуратуры и... Вы знаете, что будет?!
В последний вопль я вложил довольно расплывчатый смысл: я даже сам не очень понимал, что имел подразумевал под словом "будет". Но старушка побелела, затряслась и готова была бухнуться мне в ноги, ибо посчитала, что я грозил именно ей.
– Эти двое же приходили к вам... А учительская дочка – что от нее может быть?! Я не знала, не знала, что она контра!
– Да никакая она не контра. Успокойтесь! – сказал я и сам немного успокоился. – Я только имею в виду, что ко мне просто так никого не допускать! Простая мера предосторожности...
– Но у вас ведь пропало что? – высказала хозяйка по-простонародному прозорливую мысль.
– С чего вы взяли? Что за подозрения на уважаемую женщину? Я просто указываю вам, как впредь быть в таких случаях... И никого никогда не пускать.
Оставив хозяйку, я вышел на улицу. В доме Свешницких Елизаветы не оказалась. Сам хозяин был не очень в духе.
– Знаете, Александр Федорович... Может, мне и не стоит говорить об этом, но я все-таки отец! Вы много времени проводили с моей дочерью раньше, и я невольно ожидал какого-то решения с вашей стороны...
На секунду я смешался. А потом вдруг перестал чувствовать себя, мною стал управлять кто-то неведомый. Я усмехнулся и сказал:
– Павел Андреевич! Ваша мысль устремлена к звездам, к будущему человечества, а вы отвлекаете ее на рассуждения, достойные старорежимных мещан. Вы мне сами говорили, что в космических колониях на людях даже не будет одежд, поскольку они могут только стеснять движения. Неужели вы говорили неискренне, неужели для вас все это только игра воображения, а не смысл существования?!
Старик задрожал, болезненная морщинистая складка прорезала его лицо.
– Вы правы, – сказал он, – вы правы.
Тогда я сразу ушел, но на другой день получил сведения, что Лиза вернулась и ей нехорошо. И вот я впервые увидел ее после того поступка. Она полулежала, и мы были наедине.
– Лиза, как вы посмели? – сказал я нарочито грубо, хотя мне было страшно и стыдно. – Вы низвели, может быть, последнюю идею в моей жизни до какого-то выяснения личных отношений...
Я осекся. Она ничего не ответила.
– Ну я ни о том. Вам... плохо?
– Да. Но я... не жалею. И вам не советую, Александр Федорович.
– Как же, как же, вам ведь плохо!.. Я говорил с нашими врачами, но они ничего не могут объяснить. Я... привезу вам того доктора. Я его за шиворот притащу! Я сегодня же выезжаю.
– Не надо. Он не виноват... Это только мы с вами.
– Это только я!
– Нет, только я. Я к вам влезла в дом, как воровка. Вы меня простите... простите, простите...
Она говорила это слово, как будто обсасывая его со всех сторон, как леденец. Она находила в этом удовольствие – я впервые увидел, как действует мое лекарство, и волосы зашевелились у меня на голове. Тут не было бессмыслицы – тут был именно тот странный смысл, который я жаждал видеть у своих испытуемых. Повторяя любое слово много раз подряд, вы, как в детстве, опускаетесь куда-то в удушливую и заманчивую глубь. Но намерения Лизы были еще хитрее: она пугала меня и даже издевалась надо мной, она нашла алмаз, называемый властью над другим человеком, и не собиралась отдавать его.
Да, с того дня общая странность и нелепость мира приобрела для меня человеческое лицо, лицо Лизы.
Я сбежал по лестнице. Вскоре я узнал, что Лиза в беспамятстве, и сразу же оказался на вокзале.
Не помню, как я ехал, но доктора в его городе я не застал. Доктор уехал в большевистскую столицу. Я воспользовался прошлой бумагой и при помощи местного "дзержинского" устроил повальный розыск, допросил всех врачей. Я знал, что, когда доктор вернется, шуму будет много, поскольку он, как и наш Свешницкий, тоже был весьма известен в Москве. Но я давно уже жил с самоубийственным ощущением и теперь был даже рад растравить его.
Однако доктор как будто чувствовал возможную слежку и умудрился уехать именно частным порядком, не выписав себе командировки и не поставив в известность о будущем месте пребывания никого из сотрудников, семьи же не имел. Потому я сообразил, что лучше вернуться в Энск: если я все же решусь ринуться в Москву на поезде, наш город все равно ближе.
Две мысли мучительно боролись в моем мозгу все это время: одна мысль, что все случившееся есть воздаяние мне, и другая – что все, напротив, идет наилучшим путем, затронув дорогого мне человека и тем самым позволив видеть и чувствовать претворение в жизнь своей идеи ближе всего, сделав опыт фактически над собой. То я уже подходил к тому, чтобы с облегчением посчитать себя слабым и подлым, – оказывается, и это может служить успокоением в определенных обстоятельствах! – то, наоборот, готов был убедиться в спасительной правильности судьбы подобно утопающему, который видит сквозь водную толщу тянущуюся к нему руку спасителя. Но ни то, ни другое не могло победить, и я сумел отвлечься только тогда, когда случайно поднял голову и увидел сквозь открытую дверь купе двигающегося по коридору Керемета.
Он шел в мою сторону, еще не заметив меня. Когда мы поровнялись, я сумел быстро наклониться к нему и шепнуть: "Я не выдам!"
Он отшатнулся. Я сказал: "Какая встреча! Пойдем прогуляемся".
Через две секунды мы оба стояли в тамбуре. Я знал, что суд не мог состояться сегодня, и, следовательно, Керемет бежал из тюрьмы. Я знал, что он хорошо владеет ножом, и хотя, у меня был револьвер, в узком тамбуре у него, специалиста, были все преимущества.
– Легко ушел-то?
– Легко, – ответил он и улыбнулся. Я видел рядом его глаза-маслины.
– Мне нет никакой нужды тебя сдавать. Эксперимент свой я уже проделал, и ты мне больше не понадобишься.
– Верю, ваше благородие, – еще шире ухмыльнулся он, и я увидел его белоснежные зубы.
На улице была уже ночь, вагон качался, и единственный фонарь описывал дуги, словно луна на небе в день Апокалипсиса.
– Так вы что же, – продолжал он, – теперь как я?
– Еще нет, – просто ответил я ему.
– А скоро? – Он засмеялся, и в его смехе не было издевки.
– Думаю, скоро, – наконец догадался я улыбнуться в ответ.
Он обнял меня и захохотал.
Наверное, только бешеным событиям последних дней я обязан тем, что у меня так обострилась реакция. Поэтому, когда, обнимая меня правой рукой, он замахнулся ножом в левой, я успел перевернуть его от себя и подставить подсечку, так что Керемет упал на пол, после чего я выхватил револьвер и застрелил его. Это было первое убийство в моей жизни.
Почему так случилось? По всем обстоятельствам именно я должен был лежать убитым на железном полу тамбура. Что – или кто – спасло меня? Счастливая случайность, пренебрежение к собственной жизни, твердость в стремлении к чуду, которое я пытался осуществить с помощью белого порошка, или, наоборот, страстное желание отречься от этого чуда и поскорее увидеть Лизу? Не знаю – знаю лишь то, что я увидел ее на полчаса позже из-за того, что милиция возилась и составляла всяческие протоколы. Мы бы опоздали и на большее, если б не моя должность и то, что я пообещал транспортным милиционерам всю славу поимки опасного преступника, бежавшего от народного правосудия.
Я прибыл в дом учителя в два часа ночи, и никого это не удивило. Растрепанный, как большая курица, Свешницкий поразил меня: Лиза при смерти, хотя час назад она пришла в сознание.
– Она снова в беспамятстве, – сказал сверху знакомый голос.
По лестнице со второго этажа, где была комната Лизы, спускался иерей Арсений Медякин. Подойдя к нам, священник добавил:
– Но я успел причастить ее Святых Даров.
Чувствовалось, что он чего-то не договаривает и смотрит почему-то на меня.
Когда Медякин ушел, Свешницкий жалобно заговорил:
– Я не хотел этого... религиозного дурмана... И я не думал, что захочет она, но Лиза как очнулась днем, так все требовала священника... И я ей не мог уже ни в чем отказать...
– Мне тоже казалось, что Елизавета Павловна не религиозна, – сказал я.
– Конечно, нет, что за чушь! Это просто бред... бред этой неведомой болезни... Непонятно, что такое!.. Я телеграфировал... – Тут Свешницкий назвал имя доктора.
– Он не приедет, Павел Андреевич, поскольку я его уже искал весь день и доставил бы... А скажите, Елизавета Павловна настаивала именно на кандидатуре Медякина?
– Нет, она говорила – любого, только чтобы православного... А он не приедет? Я так и знал... – сказал Свешницкий и бессмысленно провел рукой по голове, взъерошив и без того беспорядочные волосы, прилично сохранившиеся для его лет. – А насчет попов – я их не очень знаю, а этот из ближайшего прихода.
И вдруг я словно вышел из столбняка: я понял, почему так дико смотрел на меня отец Арсений и зачем Лиза решила причаститься. Все это продолжение ее мести за то, что она поняла, что я не смогу ее полюбить.
Она рассказала на исповеди все – или почти все. Она выставила свою ложную жертву на всеобщее обозрение, а меня на ненависть и поругание.
Воистину – почему воспитание вытравливает из женщин последние капли самолюбия? Откуда эта любовь к уничижению? Или, может быть, не любовь, а просто безразличие? Тогда они стократ умнее нас, о чем я, впрочем, смутно догадывался еще с детства. А ведь уже тогда меня начали убеждать, что величие женщины в материнстве и целомудрии. Ложь! Это величие – презрение к самоуничижению. У мужчин оно бывает крайне редко, разве что у православных святых да у самого Христа.
Я посмотрел на Свешницкого: детский огонь в его глазах погас, они стали тусклы, как никогда. Потеря детства – это неизбежное следствие ответственности за человека, и мне стало жалко отца больше, чем дочь. И вдвойне неприятнее сознавать, что именно я всему виной.
Я не пошел дежурить у постели умирающей. Я не видел Елизавету Павловну до полного и неожиданного выздоровления, которого никто уже не ожидал.
То есть назвать выздоровление Лизы полным можно было, конечно, с известной оговоркой. Таинственная dementia, что свила гнездо в ее теле, давала о себе знать. Да и какой-то физический ступор чувствовался почти месяц, и довольно странно было, наверное, видеть со стороны, как Лиза вышагивает походкой игрушечного солдатика в свадебной фате.
Мы поженились через неделю после ее выздоровления. Я не предложил церковного венчания, и она не намекнула о своем желании совершить этот обряд.
После свадьбы, на которую она согласилась, как ребенок слушается своих родителей, некоторое время Лиза сохраняла какую-то апатию. Я вывел свою жену из этого состояния, выпросив у тестя модель какого-то судна величиной со среднюю щуку. Внешне модель была совершенно некрасивой, как и полагается экспериментальному образцу, но мы раскрашивали этот корабль вечерами, и он стал просто сказочным.
Потом Лиза придумала наладить сообщение с разумом иных космических миров посредством белых щитов, воздвигаемых на свежевспаханном поле, чем привела своего отца в полный восторг. Мы даже решили попытаться установить их на сжатых нивах, чтобы не дожидаться весны, и хотя крестьяне с большим трудом согласились на новую барскую выдумку, а желтый цвет не очень оттенял белый, щиты, которые носили на своих спинах мы с неожиданно помолодевшим учителем, простояли на полях Энской губернии целый месяц.
А дома мы постоянно вместе играли в шахматы, хотя до сих пор ни я, ни тем более Елизавета не увлекались этой игрой. Теперь у нас обоих обнаружился талант недюжинных гроссмейстеров, по крайней мере в масштабе Центрально-Черноземной области, включившей в свой состав несколько старых губерний.
Службу моей жене пришлось оставить, она начала боятся выходить на улицу. Да и я стал выполнять служебные обязанности спустя рукава, поскольку мне нужно было почаще возвращаться в свой дом, спасать Лизу от одиночества, а потом вновь бежать в присутствие. Часто, особенно вечером, по своему приходу я заставал свою жену в слезах: испуганная чем-то, она бросалась ко мне в объятия, словно малый воробушек.
Теперь я не мог сидеть длинными осенними вечерами в полутьме, как делал это всю свою прошлую жизнь, – ради Лизы приходилось зажигать свет пораньше, как только появлялся намек на сумерки.
Однажды я шел на почту, горя желанием поскорее узнать ответные ходы наших шахматных противников: мы одновременно играли с несколькими десятками человек по всей Советской республике. Путь мой пролегал мимо обновленческой церкви. На подходе к ней я услышал крики и шум. Немалая кучка прихожан волновалась у входа.
– А в чем тут дело? – спросил я у одного старика раскольничьего вида, подойдя поближе. Я надеялся, что он меня не знает, – так и оказалось.
– Вонь антихристова! До чего дошел, бесстыдник, поп-расстрига! Папежной ересью смущать православных...
В этот момент на высоком церковном крыльце появился бледный отец Медякин. Он поднял было руку, желая не то успокоить, не то благословить народ, но его жест толпа восприняла как богохульственный, и к крикам прибавилось несколько со свистом пущенных камней. Я с ужасом заметил, как один из них попал в голову священника, как Арсений зашатался и побледнел.
Я достал револьвер и выстрелил под ноги старику-раскольнику, потом дал еще несколько залпов поверх голов. Толпа, как по команде, рванулась в ближайшие переулки. С дымящимся револьвером в руке я пробивался в противоположном направлении.
Наконец я взбежал на крыльцо и принял на свои руки несчастного иерея. Мои опасения еще более увеличились, когда я увидел, что камень угодил почти в висок. Длинные волосы Медякина, и так не особенно чистые, рядом с раной совсем спутались от крови.
Я не очень представлял, что делать в таком случае. Втащив Медякина в храм, я рявкнул:
– Спирт... спирт есть у тебя... к ране приложить?
– Нет... нету спирта.
Какой-то из пономарят понял мое желание по-своему и принес бутылку церковного кагора. Делать нечего – я сунул горлышко в рот священнику да и сам отхлебнул немного.
Слава Богу, отец Арсений сознания терять не собирался и даже не очень страдал от боли. Видя, как после хорошего глотка кагора на его щеки возвращается румянец, я спросил:
– Что же вы сделали, отче Арсение, что вызвало такую ярость этих недобрых людей?
– У меня появилась мысль: ради символического обозначения всемирной роли христианства... и вселенскости церкви... ввести в литургию немного католических песнопений на латинском языке – всего пару псалмов, как вспомогательных элементов...
– Эх, отче, отче, экспериментатор вы! Мученик природы и прелюбодей мысли, как говорил Достоевский. Экуменист энский... Кто ж такое творит в уездном соборе? В нашем городе и реформы Никона-то с трудом признаются...
Широко распахнулась дубовая дверь, в проеме появился маленький милиционер, весь перетянутый ремнями, так что являлась мысль: может, это не человек вовсе, а один кокон? С ним были двое его долговязых помощников, так что в комплекте они напоминали композицию магометанской мечети с двумя минаретами по бокам.
Милицейский вошел очень начальственно, но, увидев меня, немного смутился. Однако говорить начал громко, на прежнем запале:
– Что здесь произошло? – И сам же себе ответил: – Препятствование свободному отправлению культа совести?.. Ничего, изловим всех этих белогвардейских недобитков-тихоновцев!
Милиционер кивнул одному из помощников, и тот немедля подал ручку и бумагу.
– Вы, гражданин Медякин, кого из них запомнили?
– Не надо... протокола, – нерешительно махнул рукой отец Арсений.
– Как это – не надо?! Это как это, я вас спрашиваю, не надо? Вы подверглись нападению контрреволюционных элементов, и теперь ваш долг...
– Не надо.
Милиционер осекся, гневно посмотрел на Медякина, однако потихоньку перевел глаза на меня – и гнев сменился вопросом. Я заметил, что сам отец Арсений тоже обратился ко мне.
– Не надо протокола, – подтвердил я.
– Тогда разрешите откланяться...
Носитель социалистической законности откозырял нам, и мне показалось, что он с трудом удержался от слов "ваше высокоблагородие". В дверях милицейские столкнулись с фельдшером и долго не пропускали его, пока не вышли всей группой.
Фельдшер наложил перевязку и констатировал, что никакой опасности нет. Я отправил его восвояси, а отец Арсений отослал пономарят. Когда мы остались одни, через минуту он вдруг спросил:
– Александр Федорович, почему вы не захотели венчаться?..
Я сказал нечто невразумительное по смыслу и примирительное по тону. Однако священник сам не собирался заострять внимание на этом вопросе – ему просто нужно было начать разговор.
– Слушайте, а вы не могли бы достать мне немного... того порошка? Да, я понимаю, вы спросите – зачем?
– Действительно, спрошу. Вы, по-моему, и так человек вполне не от мира сего!
– Может быть... Но не в большой степени. Вы видите нелепость всех моих ничтожных попыток, и это не нелепость юродивого, а карикатурность обычного, только жалкого человека.
– А вы хотели бы приблизиться к идеалу юродивого?
– Да. Видите ли... Я служу делу церковного обновления, но не могу обновиться сам! Если бы вы знали, сколько во мне серого, теплого, ненастоящего, насколько я хочу казаться другим... Людям можно казаться-то, но себя не обманешь.. Дерзание мое слишком мало. Вам хорошо, вы человек столичный, вам позволяли пестовать вашу неотмирность, относясь к ней мило и со снисхождением, как к забавам ребенка. А у нас тут другие порядки... Жестокие, знаете ли, порядки! Слишком рано заставляют окунуться в мир, можно сказать, как вы тогда на лодке... Не спрашивая, сразу вниз головой.
– Но вы видели состояние моей жены тогда, на исповеди! Неужели вы хотите пройти через то же?..
– Нет, я не боюсь. Сейчас у меня краткая минута решимости, может, в первый раз за всю мою глупую жизнь... – сказал он, комично потирая висок, однако было не до смеха. – И я готов пройти через все. К тому же Елизавета Павловна говорила мне, что обычно все проходит проще... И в любом случае лучше испытать муки один раз, но потом иметь твердость к презрению человеческому.
Он еще долго говорил, пока я не ответил:
– Приходите ко мне через три дня, и, если ваша минута решимости продлится это время, я дам вам то, что вы просите.
Медякин не возражал – он благодарил.
Но не пришел. И вскоре город потрясло невиданное событие, начавшееся с того, что на новой проповеди отец Арсений поклонился своей пастве в ноги, попросил у нее прощения и порвал с ересью. Через несколько дней в город прибыл новый священник, присланный обновленческой "Живой Церковью", однако Арсений Медякин вместе с наиболее ревностными верующими не пожелали впустить их храм и выдерживали осаду двое суток, пока не вмешался Зипунов и собор не был взят милицией штурмом.
Несмотря на то что отец Арсений и его паства не оказали хоть сколь-нибудь серьезного сопротивления, все они были арестованы и помещены в ту самую тюрьму, где недавно сидел вор Керемет.
Разбирать это дело приехал Полторацкий. Мой бывший университетский друг давно уже покинул Энск и служил, как я знал, в губернской ЧК.
Наша встреча была в сдержанных тонах.
– Значит, раскольничьи бунты практикуете? – спросил он меня, но я нахмурился и не ответил.
– Должен предупредить тебя... Скоро грядет новая чистка, направленная против дворянских элементов. А ведь ты на нашем небосклоне подлинный граф Серебряный...
– Спасибо за столь лестное мнение обо мне. Что же касается чистки – как говорится, Бог дал, Бог и взял. По крайней мере я уже и так неплохо пожил.
– Вот как... А на вид вроде молод.
Но я опять не принял шутки. Сам даже не знаю почему я почувствовал тогда физическую ненависть к этому человеку.
Однако он не оставил своих попыток и вечером без приглашения пришел ко мне в дом.
– На что злобу затаил, Датнов? – прямо спросил он.
– Как ты сам верно сегодня заметил, у ЧК я не вызываю особенных симпатий... И ее сотрудники у меня тоже.
– Зря, Датнов. Мелко! Ты на меня – за то, что я тебя сюда затащил?
– Нет.
– А почему?
– Не знаю. Может быть, за то, что ты будешь вершить расправу над Медякиным...
– Я еще плохо ознакомился с делом, а по Энску этого попа помню смутно... Но ведь он, кажется, дурак!
– Все может быть. А, знаешь, с некоторого времени дурак, горячо желающий стать подлинным человеком, мне как-то дороже умного, но скучного в своей подлости.
Полторацкий мог повлиять на судьбу Медякина – более того, и на мою. Но выбор нелепого экс-семинариста, препоясанного туго, как Ванька-Встанька, мне казался в этот момент лучшим и честнейшим.
Полторацкий зашагал по моему кабинету.
– Обвинение серьезное, – сказал он, – и, признаюсь, правое. Я обещал тебе право на эксперимент... но сам не смог реализовать его. Я не знал тогда, какая сила нужна для этого, не знал, какие морды, какие рожи встретятся на моем пути и что нужно сделать, чтобы отыскать в них хотя бы малую черту – пусть не Бога, пусть хоть дьявола! И силы теперь нет у меня. Я вспоминаю эти твои мессы... Я не смог сделать даже сильней этого! А мессы... продолжаются?
– Нет.
– А эта девушка... которая там была?
– Она вышла замуж и уехала из города. Поэтому мессы и прекратились.
– Знаешь, мне с тех пор так и мерещится ее спокойное лицо... и льющееся тело. А где она сейчас?
– Не знаю.
– Замуж, говоришь? Ну это можно и назад. А ты, я слышал, тоже женился?
– Да. Хочешь, жену позову?
Я не стал дожидаться ответа, раскрыл дверь кабинета и крикнул:
– Лиза! Иди к нам, не бойся. Здесь господин Полторацкий... Я его давно знаю.
Я не очень ожидал, что Лиза услышит и тем более придет. Но она поднялась к нам и села в углу на табурете.
– Какая-то у тебя жена... странная.
– Елизавета Павловна Датнова, урожденная Свешницкая.
– А, да, Свешницкий! Это же теперь ваша знаменитость. У нас в черезвычайке ходят слухи, что им сам Ульянов-Ленин интересуется... и желает его принять.
Меня поразило, как Полторацкий сразу понял состояние Лизы и то, что в ее присутствии можно говорить так, как будто ее и нет в комнате.
– Все же интересно было бы узнать: какова конкретно будет наша смерть? – задумчиво продолжил он. – Вот, например, твой друг, этот поэт... как его... я недавно читал в газете, что он умер в лесу от воспаления легких.
– О ужас!!! А его жена?!
– Она, кажется, попала в больницу какого-то забытого Богом городка даже по сравнению с вашим Энском – и находилась там между жизнью и смертью... А откуда ты знаешь, что поэт отправился странствовать с супругой?
...Больше я никогда не видел Полторацкого. Через месяц арестовали и меня, когда я мастерил для своей жены качели во дворе нашего дома. Лиза очень хотела их, и мне было бы приятно отправлять ее легкое тело туда, чуть ближе к небу.
Трое суток я находился в пустой камере, в той же, где перебывали и Медякин, и убитый мною Керемет. По своему обыкновению большевики не торопились выдвигать против меня обвинения, и я просто ждал этапа в губернскую тюрьму. Через знакомого сторожа я раздобыл черный мелок и покрыл все стены и пол шахматными диаграммами – это был единственный способ не лишиться разума.
Затем меня выпустили, тоже не разъяснив причины. И лишь путями косвенными, но верными я узнал, что Свешницкий действительно был приглашен к Ленину и что среди бурных изъяснений своих планов колонизации космоса Павел Андреевич счел нужным похлопотать и за меня.
На обратной дороге он внезапно серьезно заболел, и врачи даже не пустили меня к нему со словами благодарности. В эти дни в адрес Свешницкого тысячами шли письма со всей страны, сотнями – из-за рубежа. Я действительно понял, что энский учитель пользуется взаимностью в своей любви ко всему чудному человечеству.
Но любовь эта не могла перемолить смерть. Видимо, продолжая свое земное существование, Павел Андреевич мог бы опрокинуть весы какой-нибудь вселенской гармонии. Я так и не увидел его живым – да не очень и стремился, находясь в состоянии какой-то глобальной бессмыслицы, всегда предшествующем новому кардинальному повороту судьбы.
Похороны Свешницкого были даже более пышным торжеством, чем установка памятника Иуды два года назад, – ведь теперь в действо были вовлечены силы не только уездного, но и гораздо более высокого уровня. Одних иностранных подданных приехало в Энск несколько десятков.
А через два месяца высочайшим большевистским повелением наш город был переименован в Свешницкий. Я снова служил в прокуратуре и накануне известия о переназвании Энска увидел Павла Андреевича во сне.
Я встретил Свешницкого на том самом месте, где он, бывало, запускал в небо искусственного орла. Это происходило в те блаженные старые времена, когда городские бездельники еще подходили и спрашивали: чем кормишь птицу?
Маленький аэроплан парил над рекой, а учитель говорил со мной, подергивая за веревку.
– Зачем вы спасли меня?
– Чтобы вы работали, Александр Федорович.
– Но разве вы не знаете, что я отравил вашу дочь?
– Я узнал об этом прямо перед тем, как поехал в Горки. Мое сердце разрывалось... но я все же решил простить вас.
– Почему?
– Потому что вы живете. Вы живете, а я уже умер! Вы должны работать. И потом... вы видите облако над рекой?
– И что?
Свешницкий дернул за веревку, притянув деревянную птицу к себе, а потом так же резко отпустил ее. И вдруг я увидел, что там, где пролетел освобожденный на мгновение орел, появилась радуга.
Радуга! Я понял, я вспомнил, как после всемирного потопа Бог обещал дать ее человеку в залог своей милости. Поэтому, если Он все-таки не стерпит человеческой гордыни, пошлости и задумает навести на нас новую погибель, тогда, в тот самый момент, когда смертельные тучи соберутся над землей, вдруг между ними проскользнет радуга, и Бог вспомнит свой завет, вспомнит слабость и юность рода человеческого, вспомнит свое обещание любить человека таким, какой он есть, и разведет черные облака.
Я завороженно смотрел на радугу Свешницкого, пока учитель не протянул руку, не снял ее с небес, не завернул, как ковер, не сунул себе под мышку и не пошел прочь. Тогда я отчаянно побежал за ним...
Когда проснулся, я день сидел, решал, говорил с Лизой. Наконец я взял dementia praecox и принял его. Ведь я обманывал себя раньше, я просто боялся. А теперь во мне наступила, говоря словами мученика Медякина, краткая минута решимости. Я должен был сделать это, чтобы получить радугу из рук учителя.
И сладко мне быть не от мира сего.