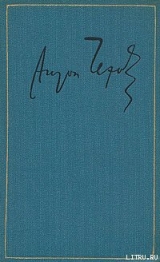
Текст книги "Рассказы. Повести. 1888-1891"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 49 страниц)
Вскоре после выхода первого издания Чертков предполагал издать сборник рассказов Чехова, куда должна была войти и «Жена». Но Чехов написал Горбунову-Посадову, что он «решительно против нового сборника», так как почти все рассказы, которые хотел включить туда Чертков, выходили отдельно. Издание не состоялось.
Исправления в текст рассказа Чехов внес только в 1901 году при подготовке издания А. Ф. Маркса. Были исключены все места, где главный герой говорит или думает о своем «равнодушии», «хладнокровии»: высказывание в главе VII о «полнейшем равнодушии», заключительные фразы об «одном полку с равнодушными» в финале, эпизод с кулаком Абрамом в рассказе Брагина. В журнальном варианте герой был язвительнее, его высказывания – значительно нетерпимее; местами они носили сильную консервативную окраску. У Натальи Гавриловны в манерах и характере было тоже гораздо больше резких черт, напоминающих рассказчику «ее родину – Одессу». В связи с этим «война» между ними отличалась большим эмоциональным накалом. В окончательном варианте многие фразы, эпизоды – иногда с выпадами почти грубыми – были устранены. Была притушена внешняя сторона «войны», и, таким образом, отчетливее выступили «внутренние противоречия» во взаимоотношениях героев. В издании Маркса было снято сравнение ситуации возможной измены героини с сюжетом «Крейцеровой сонаты».
Из дошедших до нас отзывов о «Жене» положительные принадлежат только читателям. Так, 12 февраля 1892 г. А. И. Смагин писал М. П. Чеховой: «Сегодня прочел в „Сев<ерном> вестнике“ „Жену“. Удивительная это вещь! Читая ее, я видел выражение глаз Натальи Гавриловны, слыхал тон ее разговоров. По моему впечатлению, есть два подобных произведения – „Крейцерова соната“ и „Жена“» (ГБЛ). В письме к Горбунову-Посадову Чертков писал, что он получает «с разных сторон <…> отзывы о том, что из всех рассказов нашей первой серии многим „Жена“ нравится больше всего» (11 апреля 1893 г. – ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 1480). Сами редакторы «Посредника» тоже высоко оценивали повесть. Правда, их восторженные отзывы в письмах к самому Чехову отчасти были вызваны и внелитературными соображениями, а во внутренней переписке были несколько другими (ср., например, отзыв Черткова в письме к Горбунову-Посадову от 11 апреля 1893 г., где он пишет, что «„Жена“ и „Именины“ недостаточно по идее содержательны»). Но само за себя говорит уже их упорное желание во что бы то ни стало напечатать повесть.
Отношение критики было иным. Отмечалась злободневность темы, отдельные частные удачи (в некоторых поздних статьях), общая «симпатичность» замысла. В целом же критика и либерального и консервативного лагерей оценила повесть отрицательно. Ю. Николаевым «Жена» была названа в группе «вычурных, придуманных, безжизненных» вещей Чехова, написанных после «Степи» («Московские ведомости», 1892, № 335, 3 декабря); в числе «невыдержанных и неудачных» она фигурировала в статье В. Голосова («Новое слово», 1894, № 1); столь же резко отозвались о ней еще раньше, в момент выхода, обозреватели «Русском мысли», «Гражданина», «Новостей и биржевой газеты». Только критик «Русских ведомостей», отметив, что «сама по себе прекрасная цель на первый раз не удалась автору», обнадеживал: «Но это только начало: оно, несмотря на неудачу, неразлучную со всяким началом, заслуживает всяких приветствий» (И. Иванов. Заметки читателя. – «Русские ведомости», 1892, № 19, 20 января).
Наиболее последовательно неприемлющую позицию занял М. Протопопов («Письма о литературе. Письмо третье». – «Русская мысль», 1892, кн. 2). В отличие от некоторых других критиков, отрицавших повесть голословно, он свою точку зрения подробно аргументировал. Неудачным же он признавал и общий идейный замысел, и обрисовку отдельных персонажей. Главное, в чем критик обвинял Чехова, – что автор не привязал «свой бедный челн к корме большого корабля», не отдался «какой-нибудь определенной идее»; в повести отчетливо проявилась «беспринципность, возводимая в принцип». Подробно выписав формулировки из рассуждений героя, Протопопов заключал: «„Да это мы: я и мои сверстники! – воскликнет любой из так называемых шестидесятников или семидесятников. – Это наши понятия, это даже наши выражения, наши обычные термины!“ Это живая и остроумная сатира, но… на кого? По ходу и по существу дела, конечно, на Паншиных и на Курнатовских, а по намерениям автора – на людей, требующих „направления“ и толкующих об идеалах. Это такое смешение понятий и явлений, которое слишком грубо и элементарно, чтобы мы могли допустить его непроизвольность, его непреднамеренность со стороны автора» (стр. 208–210).
Главный упрек, который был предъявлен автору, это проповедь некоей «философии равнодушия» (Р-ий. Смелый талант. – «Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля; А. Скабичевский. Литературная хроника. – «Новости и биржевая газета», 1892, № 50, 20 февраля). Подробнее других эти обвинения были развиты опять же М. Протопоповым. Приводя слова Брагина («Надо быть равнодушным <…> Будь только справедлив перед богом и людьми»), критик иронически замечает: «Благородство этих рассуждений может равняться только их своевременности. Своевременность очевидна: в то время, как тяжелое на подъем русское общество только что начинает ясно сознавать свою обязанность прийти на помощь обездоленному народу, ничего не может быть тактичнее, как пуститься уверять его, что надо быть равнодушным» (стр. 213).
Произошла нередкая в чеховской критике подмена. Обвинение строилось на двух выдержках из повести – рассказе Ивана Ивановича Брагина о «беспокойном» и «неравнодушном» кулаке Абрамке, завершаемом словами «надо быть равнодушным», и финальном высказывании героя-рассказчика об «одном полку с равнодушными». В чеховском тексте под словом «равнодушие» понимается спокойствие, ощущение внутренней правоты «перед богом и людьми», «чистая совесть» – в противоположность беспокойству и суете виноватого, смятению в душе того, в ком «совесть не чиста». Критика же исходила из внеконтекстного употребления этого слова, понимая его как равнодушие к делу помощи голодающим. Тем не менее при подготовке издания А. Ф. Маркса Чехов снял оба эти места (см. варианты), приведшие к такому толкованию повести.
Большие возражения вызвал способ изображения внутренней жизни персонажей. «Психология повести идет путем мало ясным, по-видимому, для самого автора», – писал Иванов («Заметки читателя». – «Русские ведомости», 1892, № 19, 20 января). Непривычно было отсутствие предыстории героев, подробных объяснений. Критик Р-ий недоумевал: «О прошлом супругов, о причинах, выработавших в них эти крайние черты и ненависть друг к другу – ни слова. Муж и жена ненавидят друг друга с первых слов повести, и ненависть эта, какая-то болезненная и давящая на нервы читателя, вследствие ее необъяснимости, служит канвой для всей повести». Сопоставляя «Жену» с «Крейцеровой сонатой», критик писал, что, в противоположность Толстому, Чехов «решил не доказывать, а просто утверждать» («Гражданин», 1892, № 34, 3 февраля).
С этим тесно связан оживленно обсуждавшийся вопрос о «возрождении» главного героя. Асорин единодушно был определен критикой как «эгоист», «человеконенавистник», «черствая натура», «фанатик форм» и т. п. (Иванов, Протопопов, М. Южный, Скабичевский; см. также: Ю. Николаев. Черты нравов. – «Московские ведомости», 1892, № 18, 18 января; В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова… – «Мир божий», 1903, № 1; Евг. Ляцкий. А. П. Чехов и его рассказы… – «Вестник Европы», 1904, № 1). Отмечалась «возвышенность» и благородство самой идеи «возрождения» (Иванов, Р-ий). Но возможность его для героя повести, как и по отношению к герою «Дуэли», отрицалась.
Решительно отвергалась способность героя к духовной эволюции критикой «Гражданина». Как и в «Дуэли», писал М. Южный, процесс «возрождения от нас скрыт» («Новые произведения Чехова». – «Гражданин», 1892, № 21, 21 января). Приблизительно такого же взгляда придерживался и Р-ий, также сопоставлявший с этой точки зрения «Жену» с «Дуэлью». Эти произведения сравнивал и Скабичевский. Считая «фальшивым» конец «Дуэли», «нечто подобное» он видел и в «Жене»: «Воля Ваша, это было бы чудо из чудес. Такие люди не меняются даже в цветущей молодости, а тем более под 50 лет». То же утверждал и Протопопов («Русская мысль», 1892, кн. 2, стр. 214).
Не менее сурово отнеслась критика к героине повести. «Если есть в рассказе лицо, которое нуждается в возрождении, то это скорей всех – эта самая жена, рисующаяся автору в столь пленительном свете», – считал М. Южный. Ю. Николаев на примере изображения Натальи Гавриловны противопоставлял Чехова «настоящим реалистам», в частности Толстому.
Еще отчетливее противопоставила критика собственное толкование авторскому в оценке прочих персонажей «Жены». Брагину, напоминающему, по мнению сразу нескольких критиков, гоголевского Петра Петровича Петуха (Р-ий, Ю. Николаев, М. Южный), доктору Соболю и другим лицам «без направления» было отказано в каких-либо положительных чертах. Отрицательно было оценено и все уездное общество, занимающееся вместе с Натальей Гавриловной сбором средств для голодающих. По мнению Ю. Николаева, «интеллигенция», изображаемая Чеховым, ничем не отличается от общества, описанного Гоголем в «Мертвых душах». Это мнение разделяли и Протопопов, и М. Южный.
В позднейшей критике рассказ упоминается редко.
При жизни Чехова рассказ «Жена» был переведен на болгарский, немецкий, сербскохорватский и шведский языки.
В Москве
Впервые – «Новое время», 1891, № 5667, 7 декабря, стр. 2. Подпись: Кисляев.
Печатается по тексту газеты.
Авторство устанавливается по письмам Чехова А. С. Суворину. «Вы ничего не будете иметь против, – спрашивал он 30 ноября 1891 г., – если к будущей субботе я напишу московский фельетон? Хочется тряхнуть стариной!» 4 декабря «московский фельетон», т. е. предназначенный для раздела «Нового времени», где периодически печатались «Письма из Москвы», фельетоны «Из московских писем» и т. п., – был уже готов. В сопроводительной записке Чехов писал: «Хотел изобразить кратко московского интеллигента. Сел вчера писать, но мешали посетители, так что писал сегодня и спешил. Не знаю, что вышло. Должно быть, неважно. Если бросите, в претензии не буду. Но никому не говорите, что я автор».
Но, очевидно, в кругу литераторов авторство Чехова было узнано. «Все уверены, что это – ты», – писал 10 декабря 1891 г. Ал. П. Чехов (Письма Ал. Чехова, стр. 252). Вл. И. Немирович-Данченко, особо выделяя «В Москве» из всех фельетонов газеты последнего времени, в письме к Чехову утверждал: «Это был совершенно замечательный фельетон, и по-моему, его никто не мог написать, кроме Вас» (конец декабря 1891 г. – «Ежегодник МХТ», 1944, т. I. M., 1946, стр. 96). 20 декабря И. Л. Леонтьев (Щеглов) писал Чехову: «Ваша „Дуэль“ очень явный и очень знаменательный шаг вперед в развитии Вашего творчества, московский фельетон Кисляева – сама прелесть, даже несмотря на некоторую небрежность» (Записки ГБЛ, вып. 8, М., 1941, стр. 78). Известен отзыв адвоката и литератора С. А. Андреевского: «Сущность москвича понята прекрасно и широко захвачена. Однако форма, выбранная Кисляковым <Кисляевым>, слишком прихотлива и не настолько забавна, чтобы увлечь простую публику. Прибаутка в начале и конце фельетона: „повеситься на телефонном шнурке“ едва ли кому понравилась, хотя для Москвы она очень характерна, п<отому> ч<то> там поминутно говорят в телефон. Словом, Кислякову <Кисляеву> нужно будет или снять маску или опошлиться до того, чтобы его читали» (письмо к Суворину от 16 декабря 1891 г. – Летопись, стр. 304).
В обобщенной фигуре «московского Гамлета» прослеживаются черты сходства с персонажами чеховских произведений 80-х годов – такими, как либеральный журналист – герой рассказа «Хорошие люди» (см. газетный вариант; ср. концовки обоих рассказов) или «человек шестидесятых годов» из журнальной редакции «Именин». В письме к А. Н. Плещееву от 9 октября 1888 г. Чехов так определял свое отношение к типу людей этого склада: «Он надоел мне еще в гимназии, надоедает и теперь». В письмах этого времени Чехов многократно писал о «сволочном духе», живущем «в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба» (Плещееву, 14 мая 1889 г.), отрицающем «всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать» (Суворину, 27 декабря 1889 г.), об «узкости, больших претензиях, чрезмерном самолюбии и полном отсутствии литературной и общественной совести» современного русского либерала, его сплетничестве и завистничестве, его склонности к высоким словам (Леонтьеву (Щеглову) 3 мая 1888 г.), о делении на «наших» и «ваших» (К. С. Баранцевичу, 14 апреля 1888 г.), об отсутствии знаний, вместо которых – «нахальство и самомнение паче меры» (Суворину, 9 декабря 1890 г.), о «духоте» общей атмосферы, создаваемой такими людьми. В сатирическом изображении требований к журналам, в перечислении имен критиков (М. Протопопов, И. Иванов) выразились взгляды Чехова на либеральную и «направленческую» публицистику «восьмидесятников». В описании «девиц и дам», знакомых «московского Гамлета», возможно, использованы впечатления от круга В. В. Билибина и его жены, ищущих «каких-то типов необычайно ученых женщин, ни о чем больше не разговаривающих, как о Белинском, Добролюбове…» (Н. А. Лейкин – Чехову, 24 января 1887 г.; ГБЛ).
В очерке нашли отражение общественно-эстетические и этические идеи Чехова, высказывавшиеся им в письмах конца 80-х годов. Особенное сходство обнаруживается с известным письмом брату Николаю Павловичу (март 1886 г.), где Чехов развернуто изложил свою этическую программу. Наиболее неожиданными для сочинений такого рода в ней были гигиенические требования; для Чехова же они были чрезвычайно характерны и составляли неотъемлемую и существенную часть его этического идеала. «Грязь, вонь, плач, лганье» – эти вещи в отрицательной характеристике образа жизни для Чехова равноважны (из письма Чеховым от 3 декабря 1887 г.). В известном чеховском высказывании о свободе художника (в письме к А. Н. Плещееву от 4 октября 1888 г.) о «человеческом теле» и «здоровье» говорится прежде всего: «Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи…» Существеннейшее место детали общегигиенического свойства занимают в чеховской оценке современной интеллигенции: «Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция <…>, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопеечный бордель <…> Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях <…> Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там несправедливость во всей своей форме» (письмо Суворину от 27 декабря 1889 г.; ср. в «Записных книжках» Чехова: «Интеллигенция никуда не годна, потому что много пьет чаю, много говорит, в комнате накурено, пустые бутылки…» – I зап. кн., стр. 136. 8).
Слова героев о «воздухе и экспрессии» – излюбленная чеховская формула при ироническом изображении суждений об искусстве (ср. «Талант», «Произведение искусства»).
Неопубликованное. Неоконченное
КрасавицыВпервые – Слово, сб. 2, стр. 53–55, в качестве неоконченного отрывка, который был «найден в бумагах» Чехова.
Печатается по тексту автографа (ЦГАЛИ, ф. 549, 1.188).
Представляет собой черновой отрывок, без конца, с авторской правкой чернилами и красным карандашом. Обе правки производились во время написания, что видно из содержания правки, а также из того, что под красным карандашом размазались чернила, то есть вычерк производился по только что написанному. В правом углу автографа помета Чехова: «Михаил Матвеевич».
В письмах Чехова не сохранилось никаких упоминаний о работе над этим произведением. Почерк отрывка похож скорее на почерк Чехова конца 80-х годов, чем 90-х годов. Возможно, он был черновым наброском к еще одной, неосуществленной, главке рассказа под тем же названием «Красавицы», 1888 года (см. наст. том), повествование в котором также велось от первого лица.
I. У Зелениных. III. Письмо«I. У Зелениных» – впервые: «Русская мысль», 1905, кн. I, стр. 151–152, вместе с двумя другими произведениями («Калека» и «Волк») под общим заглавием «Из набросков А. П. Чехова».
Печатается по автографу (ГБЛ).
«III. Письмо» – впервые: «Трудовой путь», 1907, № 7, стр. 1.
Печатается по автографу (ИРЛИ).
Отрывок «У Зелениных» и законченный, но не опубликованный при жизни Чехова рассказ «Письмо» могут быть отнесены к концу 80-х – началу 90-х гг. и связаны, вероятно, с замыслом неосуществленного романа.
Рукописи датируются по бумаге и по почерку. Они написаны на такой же, ныне сильно пожелтевшей бумаге, как вставки в IV действие пьесы «Иванов», сделанные в конце 1888 – начале 1889 г., и водевиль «Свадьба», на титульном листе которого штамп Главного управления по делам печати: «31 октября 1889 года». При этом в «Свадьбе» и «Письме» листы в мелкую сетку 35,7 на 22,1 см разрезаны пополам. Совпадение почерка в «Свадьбе» и «Письме» практически полное. Как можно судить по сохранившимся рукописям Чехова, этот крупный, круглый почерк существенно отличается и от более продолговатого, ясного начертания букв в рассказах начала 80-х годов, и от менее четкого, с деформированными элементами букв, неустойчивым наклоном и местами значительным нажимом почерка второй половины 90-х годов.[77]77
На обороте седьмого листа «Письма» обрывок фразы, не относящейся к тексту рассказа: «погружается он в кромеш<ную тьму>». Если бы удалось эту запись приурочить к какому-то известному нам произведению, появился бы еще один аргумент для датировки.
[Закрыть]
Отрывок «У Зелениных» появился в журнале «Русская мысль» с редакционным примечанием: «В разобранных покуда семьею А. П. Чехова бумагах оказалось несколько набросков и три маленьких рассказа, давно написанные. Часть этих рукописей мы и печатаем» («Русская мысль», 1905, кн. I, стр. 151).
На первом листе автографа «Письма» пометы рукою В. С. Миролюбова: «Чехов», «Корпус», «Из бумаг и набросков Антона Павловича Чехова». На каждом листе штемпелем указана дата «26 июня 1907». Но еще в январской книжке издававшегося Миролюбовым «Журнала для всех» за 1906 г. было напечатано уведомление: «В наступающем году предполагается к напечатанию <…> Письмо. Недоконченный рассказ Антона Чехова». Вплоть до административного закрытия журнала на сентябрьском номере 1906 г. рассказ так и не появился. Судя по переписке Миролюбова с М. П. Чеховой, рукопись поступила к нему не ранее декабря 1906 г. (см.: Д. Н. Медриш. История одной чеховской рукописи. – В сб.: Вопросы русской литературы, вып. 2 (26), Львов, 1975, стр. 81–86). Журнал «Трудовой путь», где она была опубликована, – фактический преемник «Журнала для всех» и продолжившего его журнала «Народная весть». Существенно, что в уведомлении о предстоящей публикации («Трудовой путь», 1907, № 6) рассказ уже не называется «недоконченным». Видимо, ближе познакомившись с текстом, Миролюбов отказался от мнения, что рассказ не завершен. Сохранившаяся, явно беловая, рукопись это подтверждает: свободная строка в конце последней, восьмой страницы свидетельствует о том, что текст рассказа сохранился полностью.
Со ссылкой на «Трудовой путь» рассказ был перепечатан в XXII томе издания А. Ф. Маркса (СПб., 1911), с примечанием: «Из посмертных бумаг и набросков» (стр. 73–78).
«У Зелениных», «Письмо» и опубликованный в 1892 г. рассказ «Радость» («После театра») – части одного замысла, по всей видимости – неосуществленного романа, который уже в ходе работы получил заглавие «Рассказы из жизни моих друзей». О том, что здесь «мы имеем возможно дело с каким-то обширным замыслом Чехова», писал В. Я. Лакшин, не связывая, впрочем, отрывки с чем-либо конкретным и традиционно датируя их концом 90-х годов (см. В. Я. Лакшин. Толстой и Чехов. М., 1963, стр. 85).
На принадлежность рассказов к общему замыслу указывает ряд признаков. Во всех трех рассказах упоминается семейство Зелениных. В автографе перед заглавием «У Зелениных» стоит цифра «I», а перед словом «Письмо» в заглавии другого рассказа – цифра «III» (зачеркнутая не Чеховым, а кем-то другим, видимо В. С. Миролюбовым при публикации). В рукописях Чехова нет больше примеров подобной нумерации. Исключение составляет рукопись рассказа «Волк», однако здесь цифра II стоит не перед заглавием, а над ним, текст же представляет собою новую редакцию рассказа, опубликованного под названием «Водобоязнь» еще в 1886 году, задолго до начала работы над романом.
Обращает на себя внимание жанровое сходство: во всех трех рассказах основные события излагаются в форме письма, которое герой в момент повествования получает или же собирается отправить.
О том, что «Письмо» – часть большого замысла, свидетельствует и само его заглавие. Под названием «Письмо» Чехов поместил в 1888 г. в сборнике «Рассказы» другое произведение (в первой публикации – «Миряне»); 10 сентября 1888 г. в «Новом времени» напечатан рассказ его брата Александра – с таким же заглавием. Сомнительно, чтобы после всего этого Чехов вновь мог назвать так самостоятельное произведение. В качестве же названия главы романа такое заглавие было вполне возможным.
Первые сведения о романе находятся в письме Чехова к брату Ал. П. Чехову от 10 или 12 октября 1887 г.: «Спроси Суворина или Буренина: возьмутся ли они напечатать вещь в 1500 строк? <…> У меня есть роман в 1500 строк, не скучный, но в толстый журнал не годится, ибо в нем фигурируют председатель и члены военно-окружного суда, т. е. люди нелиберальные. Спроси и поскорей отвечай. После твоего ответа я быстро перепишу начисто и пошлю». И хотя Ал. П. Чехов тотчас ответил, что А. С. Суворин, конечно, готов напечатать роман в «Новом времени», Чехов не послал ни этих «1500 строк» (т. е. примерно 2,5 листа), ни других строк романа ни в 1887 г., ни позднее.
Работа продолжалась урывками. «Прерванный роман буду продолжать летом», – писал Чехов Д. В. Григоровичу 12 января 1888 г., а 9 октября того же года сообщал ему: «Хочется писать роман, есть чудесный сюжет, временами охватывает страстное желание сесть и приняться за него, но не хватает, по-видимому, сил. Начал и боюсь продолжать. Я решил, что буду писать его не спеша, только в хорошие часы, исправляя и шлифуя: потрачу на него несколько лет <…> Те мысли, женщины, мужчины, картины природы, которые скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы. Я не растранжирю их на мелочи и обещаю Вам это». Уже осенью 1888 г. наступил, по-видимому, момент, когда Чехов решил было расстаться со своим замыслом. «Напрасно бросаете большие вещи. Отчего и не написать между делом большой вещи?» – упрекал его В. В. Билибин в письме от 19 сентября 1888 г. (ГБЛ).
Весной 1889 г. в работе над романом произошел новый сдвиг. 10 марта 1889 г. Чехов уведомил A. M. Евреинову о том, что «окончил и переписал начисто рассказ, но для своего романа». Несколько подробнее о том же сообщил он на следующий день Суворину: «Пишу, пишу, и конца не видать моему писанью. Начал его, т. е. роман, сначала, сильно исправив и сократив то, что уже было написано. Очертил уже ясно девять физиономий. Какая интрига! Назвал я его так: „Рассказы из жизни моих друзей“ и пишу его в форме отдельных, законченных рассказов, тесно связанных между собою общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие. Не думайте, что роман будет состоять из клочьев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело, где каждое лицо будет органически необходимо». После этой перестройки работа снова приостановилась. Извещая А. Н. Плещеева о своем намерении посвятить ему будущее произведение, Чехов 9 апреля 1889 г. писал, что роман, хотя и «значительно подвинулся вперед», теперь «сел на мель в ожидании прилива».
В мае того же года жизнь у Линтваревых на реке Псел, новые впечатления и новые искания оживили работу над романом: «Пишу и роман, который мне больше симпатичен и ближе к сердцу, чем „Леший“». В письмах к Плещееву и Суворину от 14 мая Чехов обещал: «В ноябре привезу в Питер продавать свой роман». И, наконец, 22 мая 1889 г. – в письме к Н. А. Лейкину: «Пишу маленькие рассказы, которые соединю воедино нумерацией, дам им общее заглавие и напечатаю в „Вестнике Европы“».
В журнале «Вестник Европы» никаких публикации Чехова не появилось.
Между тем 24 августа 1889 г. в письме к В. Г. Короленко Плещеев, сожалея о том, что Чехов не продолжает романа, сообщал, что первые три главы он читал, и они ему «очень понравились» (ЛН, т. 68, стр. 300–301). Сам Чехов 30 сентября того же года писал Плещееву: «„Лешего“ кончу к 20 октября <…> а затем отдыхаю неделю и сажусь за продолжение своего романа». В письмах Чехова это последнее упоминание о романе. Есть основания полагать, что работа продолжалась до весны 1890 г., до поездки на Сахалин.
В письмах 1888 и 1889 годов Чехов изложил основное содержание романа. «Роман этот захватывает целый уезд (дворянский и земский), домашнюю жизнь нескольких семейств <…> взяты люди обыкновенные, интеллигентные, женщины, любовь, брак, дети»; «Роман захватывает у меня несколько семейств и весь уезд с лесами, реками, паромами, железной дорогой. В центре уезда две главные фигуры, мужская и женская, около которых группируются другие шашки» (письма Григоровичу от 12 января и 9 октября 1888 г.). 9 апреля следующего года Чехов делился своими планами с Плещеевым: «В основу сего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы». В мартовских письмах 1889 г. к Евреиновой и Суворину находятся сведения о задуманных персонажах романа: «Половина действующих лиц говорит: „Я не верую в бога“, есть один отец, сын которого пошел в каторжные работы без срока за вооруженное сопротивление, есть исправник, стыдящийся своего полицейского мундира, есть председатель, которого ненавидят, и т. д. Материал для красного карандаша богатый» (Евреиновой, 10 марта 1889 г.); «Григорович, которому Вы передали содержание первой главы, испугался, что у меня взят студент, который умрет и, таким образом, не пройдет сквозь весь роман, т. е. будет лишним. Но у меня этот студент – гвоздь из большого сапога. Он деталь» (Суворину, 11 марта 1889 г.).
Некоторые сцены и ситуации в рассказах «У Зелениных» и «Письмо» перекликаются с этими высказываниями Чехова о задуманном романе. Так, в рассказе «У Зелениных» мать, Наталья Зеленина, печалится о сыне: «У Васи <…> поражена верхушка левого легкого. <…> <Доктор> велел оставить университет». Далее в рассказе назван полковник Поль, о котором Зеленина напоминает дочери: «В бригаде твоего отца был батарейным командиром». Как вспоминал А. С. Лазарев (Грузинский), по пути в Бабкино (летом 1887 г.) Чехов изложил ему содержание первой главы будущего романа. Мемуарист запомнил начало: к платформе подают товарный вагон, «в вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши» («Русская правда», 1904, 11 июля). В рукописи рассказа ясно читается зачеркнутая фраза: «Напомни Л<юбови> М<ихайловне>, что 22 марта день рождения покойного». Ясно, что Маша, к которой адресовано письмо, и Вася, больной, обреченный студент, – дети «вдовы-генеральши» Натальи Зелениной.[78]78
В рассказе «После театра» состав семьи Зелениных иной и героиня не Маша, а Надя; по всей вероятности, Чехов исправил текст, отдавая рассказ в печать.
[Закрыть]
Об одном из персонажей «Письма», Травникове, сказано: «Он хотел и ищет бога … и находит одну только пропасть…» Это соотносится с цензурными опасениями Чехова по поводу атеизма героев, высказанными в письме к Евреиновой. Игнатий Баштанов рассказывает о своем отце-страдальце, о брате-каторжнике и брате-монахе. Вероятно, это упомянутый в том же письме к Евреиновой «отец, сын которого пошел в каторжные работы без срока за вооруженное сопротивление».
Начало письма Игнатия Баштанова, как заметил еще И. С. Ежов, перекликается с высказыванием Чехова о Л. Н. Толстом, известным в изложении С. Н. Щукина: «Вы обращали внимание на язык Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда. Эти периоды производят впечатление силы» (С. Н. Щукин. Из воспоминаний об А. П. Чехове. – «Русская мысль», 1911, кн. X, стр. 45). Очевидно, что Игнатий Баштанов посылает Марии Сергеевне Волчаниновой[79]79
Фамилия Волчаниновы была использована в рассказе «Дом с мезонином», опубликованном в 1896 г. Возможно, она подсказана фамилией владельца типографии, указанной на обложках изданий Л. Толстого второй половины 80-х годов.
[Закрыть] только что прочтенную им новую книгу Толстого. Названия нет, скорее всего оттого, что речь идет о сочинении, не пропущенном в печать и ходившем по рукам (в рассказе «После театра» опера названа). Вместе с тем ясно, что это художественное произведение, так как по его поводу между героями рассказа заходит спор о красоте, о силе искусства, о его воздействии на людей. Это могло быть и эстетическое сочинение или художественное произведение, касающееся проблем искусства.
Из всех книг Толстого ближе всего подходит к описанной в рассказе «Крейцерова соната». В России она увидела свет лишь в июне 1891 г. (XIII часть «Сочинений гр. Л. Н. Толстого»), в 1890 г. была выпущена за границей, но уже начиная с октября 1889 г. широко распространилась в литографированных изданиях. По одному из таких литографированных изданий познакомился с новой повестью Толстого и Чехов. 17 января 1890 г. он отправил М. И. Чайковскому записку следующего содержания: «Дорогой Модест Ильич, посылаю Вам „Крейц<ерову> сонату“. Прочитав, благоволите послать ее Н. М. Соковнину…»
Сохранились многочисленные свидетельства современников о том, как взволновала в 1889 г. читающую публику новая повесть Толстого. См. высказывания Ю. О. Якубовского (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 27. М. – Л., 1933, стр. 588, комментарии Н. К. Гудзия), А. А. Толстой (там же). Но и в феврале 1890 г. «Неделя» сообщала: «В Петербурге идут нескончаемые толки о „Крейцеровой сонате“» («Неделя», 1890, № 6, стлб. 198–199). Эту атмосферу возбуждения от нового создания Толстого и передает «Письмо».
Чехов встретил «Крейцерову сонату» почти столь же восторженно, как и его юный герой, хотя и более критически: «В массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: „Это правда!“ или „Это нелепо!“» (письмо к Плещееву от 15 февраля 1890 г.).
Поездка на Сахалин изменила отношение Чехова к толстовской повести: «До поездки „Крейцерова соната“ была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой» (письмо к Суворину от 17 декабря 1890 г.). Появившееся «Послесловие к „Крейцеровой сонате“» Чехов осудил в очень резких выражениях (письмо к Суворину от 8 сентября 1£91 г.). На основании этих высказываний «Письмо» следует датировать временем не позднее первых месяцев 1890 г., до поездки на Сахалин. Возможно, Чехов не отдал в печать переписанный набело рассказ (в отличие от рассказа «После театра»), потому что резко изменилось его отношение к «Крейцеровой сонате» (появись «Письмо» в начале 90-х годов, современники не без основания посчитали бы, что речь идет о Толстом и его «Крейцеровой сонате»).








