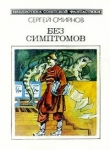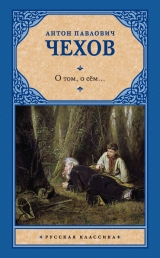
Текст книги "О том, о сём… (сборник)"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Антон Павлович Чехов
О том, о сём…: сборник
Канитель
На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончая темно-синим. Перед ним на рыжем переплете Цветной триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой – «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен… Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.
– Дальше кого? – спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. – Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.
– Сейчас, батюшка… Ну, пиши… О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи со чады… Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи…
– Постой, не шибко… Не за зайцем скачешь, успеешь.
– Написал Марию? Ну, теперя Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея… Записал усопшего Пантелея?
– Постой… Пантелей помер?
– Помер… – вздыхает старуха.
– Так как же ты велишь о здравии записывать? – сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. – Вот тоже еще… Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?
– За упокой? Сейчас… постой… Ну, пиши… Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора… Запиши… воина Захара… Как пошел на службу в четвертом годе, так с той поры и не слыхать…
– Стало быть, он помер?
– А кто ж его знает? Может, помер, а может, и жив… Ты пиши…
– Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии… Пойми вот вашего брата!
– Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий человек… пропащий… Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арину… ну, и Кузьму с Анной… болящую Федосью…
– Болящую-то Федосью за упокой? Тю!
– Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?
– Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в за упокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать… всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту… О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер… Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг – о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!
Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.
– Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии… Кого еще?
– Авдотью записал?
– Авдотью? Гм… Авдотью… Евдокию… – пересматривает дьячок обе бумажки. – Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает… никак не найдешь… Вот она! За упокой записана!
– Авдотью-то за упокой? – удивляется старуха. – Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь!.. Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься.
Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает…
– Постой, не мешай…
Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.
– Авдотью, стало быть, долой отсюда… – бормочет он смущенно, – а записать ее туда… Так? Постой… Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой… Со всем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда… Шут его принес… Ничего не разберу! Надо сызнова…
Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.
– Выкинь Захарию, коли так… – говорит старуха. – Уж бог с ним, выкинь…
– Молчи!
Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.
– Я их всех гуртом запишу, – говорит он, – а ты неси к отцу дьякону… Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов… хоть убей, ничего не понимаю.
Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.
Жизнь прекрасна! (Покушающимся на самоубийство)
Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным – все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно:
Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.
Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»
Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!»
Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт.
Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп… Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный… Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой.
Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?
Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы.
Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на трех…
Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.
Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»
Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.
И так далее… Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования.
На гулянье в Сокольниках
День 1 мая клонился к вечеру. Шепот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов Старого Гулянья сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Пред ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсинные корки и проч. Мужчина пьян жестоко… Он сосредоточенно глядит на апельсинную корку и бессмысленно улыбается.
– Натрескался, идол! – бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. – Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы, бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты и себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса – все равно… А я-то старалась, брала чего бы получше…
Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби.
– М-маша, куда это людей ведут?
– Никуда их не ведут, а они сами гуляют.
– А зачем городовой идет?
– Городовой? Для порядка, а может быть, и гуляет… Эка, до чего допился, уж ничего и не смыслит!
– Я… я ничего… Я художник… жанрист…
– Молчи! Натрескался, ну и молчи… Ты, чем бормотать, рассуди лучше… Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные голоса… А ты без внимания, словно тебя и нет тут… Глядишь и как в тумане… Художники норовят теперь природу подмечать, а ты – как зюзя…
– Природа… – говорит мужчина и крутит головой. – Пр-рирода… Птички поют… крокодилы ползают… львы… тигры…
– Мели, мели… Все люди как люди… под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда это ты успел? Как это я недоглядела?
– М-маша, – бормочет цилиндр, бледнея. – Скорей…
– Чего тебе?
– Домой желаю… Скорей…
– Погоди… Потемнеет, тогда и пойдем, а теперь совестно идти: качаться будешь… Люди смеяться станут… Сиди и жди…
– Н-не могу! Я… я домой…
Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться… Дама конфузится…
– Убей меня бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду, – бормочет она, поддерживая мужчину. – Один срам только… Добро бы законный был, а то так… с ветру…
– М-маша, где мы?
– Молчи! Постыдился бы, все люди пальцами показывают. Тебе-то, как с гуся вода, а мне-то каково? Добро бы законный был, а то… так… Даст рубль и месяц попрекает: «Я тебя кормлю! Я тебя содержу!» Очень мне нужно! Да плевать я хотела на твои деньги! Возьму и уйду к Павлу Иванычу…
– М-маша… домой… Извозчика найми…
– Ну, иди… Ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке… Мне с тобой совестно идти… Иди прямо!
Дама ставит своего «незаконного» лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина подается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих и скамьи, спешит вперед… Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена.
– Палочек, сударь, не желаете ли? – обращается к ша гающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей. – Самые лучшие… перцовые… бамбук-с…
Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса.
– Куда это тебя нелегкая несет? – останавливает его дама, хватая за рукав. – Ну, куда?
– Где Маша?.. М-маша ушла…
– А я-то кто?
Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно.
– Убей меня бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду… – бормочет она, вся красная от стыда. – Последний раз терплю такой срам… Накажи меня бог… Завтра же уйду к Павлу Иванычу!
Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче.
Женщина с точки зрения пьяницы
Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить акцизным сбором. На случай, если когда-нибудь догадаются, предлагаю смету крепости означенного продукта в различные периоды его существования, беря в основу не количество градусов, а сравнение его с более или менее известными напитками:
Женщина до 16 лет – дистиллированная вода.
16 лет – ланинская фруктовая.
От 17 до 20 – шабли и шато д’икем.
От 20 до 23 – токайское.
От 23 до 26 – шампанское.
26 и 27 лет – мадера и херес.
28 – коньяк с лимоном.
29-30-31-32 – ликеры
От 32 до 35 – пиво завода «Вена».
От 35 до 40 – квас.
От 40 до 100 лет – сивушное масло.
Если же единицей меры взять не возраст, а семейное положение, то:
Жена – зельтерская вода.
Теща – огуречный рассол.
Прелестная незнакомка – рюмка водки перед завтраком.
Вдовушка от 23 до 28 лет – мускат-люнель и марсала.
Вдовушка от 28 и далее – портер.
Старая дева – лимон без коньяка.
Невеста – розовая вода.
Тетенька – уксус.
Все женщины, взятые вместе – подкисленное, подсахаренное, подкрашенное суриком и сильно разбавленное «кахетинское» братьев Елисеевых.
Драма на охоте (Истинное происшествие)
В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.
– Должно быть, чиновник-с, – добавил Андрей, – с кокардой…
– Попроси его прийти в другое время, – сказал я. – Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам.
– Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно… Прикажете принять?
Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой – фуражку с кокардой.
Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность.
Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Все его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм.
На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главнее всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, – он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее… У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз.
От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой… Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари.
Проиграл бы я пари или нет – читатель увидит далее.
Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шелковой» души… Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет – читатель опять-таки увидит далее… Ни выражение лица, ни борода – ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже – простите за выражение – некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреям. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации.
Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид.
– Извините, ради бога! – начал он мягким, сочным баритоном. – Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, г. редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу… Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок…
«Как, однако, он много говорит!» – подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда посетители!)
– Я отниму у вас одну только минуту! – продолжал мой герой извиняющимся голосом. – Но прежде всего позволь те представиться… Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь… К пишущим людям не имею чести принадлежать, но, тем не менее, явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит же лающий попасть в начинающие, несмотря на свои под со рок. Но лучше поздно, чем никогда.
– Очень рад… Чем могу быть полезен? Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами:
– Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких… Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений… Заработать хочется… Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С-м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил…
Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся.
– Надоедная служба… Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего… И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение… Вы поможете мне… Газета не богадельня, не странноприимный дом… Я это знаю, но… уж вы будьте так добры…
«Лжешь»! – подумал я.
Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей.
– Какой сюжет вашей повести? – спросил я.
– Сюжет… Как бы вам сказать? Сюжет не новый… Любовь, убийство… Да вы прочтете, увидите… «Из записок судебного следователя»…
Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро:
– Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но… в ней вы найдете быль, правду… Все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах… Я был и очевидцем и даже действующим лицом.
– Дело не в правде… Не нужно непременно видеть, чтоб описать… Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?
– «Драма на охоте».
– Гм… Несерьезно, знаете ли… Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах…
– А уж мою-то вещь примите, пожалуйста… Вы говорите, что несерьезно, но… трудно ведь назвать вещь, не видавши ее… И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?
Все это проговорил Камышев заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе в ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его.
– Хорошо, оставьте, – сказал я. – Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать…
– Долго?
– Не знаю… Зайдите месяца… этак через два, через три…
– Долгонько… Но не смею настаивать… Пусть будет по-вашему…
Камышев поднялся и взялся за фуражку.
– Спасибо за аудиенцию, – сказал он. – Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться!
– Позвольте, одно только слово, – сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. – Вы пишете здесь от первого лица… Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?
– Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна… Неловко же под своей фамилией… Так через три месяца?
– Да, пожалуй, не ранее…
– Будьте здоровехоньки!
Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол.
Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою.
Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль… А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая… Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела… Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию…
Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева.
Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей… Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам… Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной… Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется, sui generis [1] . Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит… Вот она:
Драма на охоте (Из записок судебного следователя)
Глава I
– Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару!
Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание… Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе все тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.
– Муж убил свою жену!
– Полно тебе врать, Иван Демьяныч! – сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. – Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или проживательство по чужому виду.
– Кражи со взломом… – процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. – Ах, как вы глупы!
– Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при этакой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары.
Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой… Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище: он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины, как «следователев попугай».
Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Поспелова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубовою мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью все еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз все время, пока я лежу на его кровати… Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря – я оставил квартиру такой же, какою и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают [2] .
Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Поспелова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях… Бедняжка казался очень несчастным…
– А в котором часу они просыпаются? – донесся до меня чей-то бас из передней…
– Как когда! – отвечал голос Поликарпа. – Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет… Известно, делать нечего…
– Вы ихний камердинер будете?
– Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи… Нешто не видишь, что я читаю?
Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп состроил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся..
– Что тебе нужно? – обратился я к мужику.
– Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с…
– Разве граф приехал? – удивился я.
– Точно так, ваше благородие… Вчерась ночью приехали… Письмо вот извольте-с…
– Опять черти принесли! – проговорил мой Поликарп. – Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься.
– Молчи, тебя не спрашивают!
– Меня и спрашивать не надо… Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме… Чисть потом! И за три дня не вычистишь!
– Что теперь граф делает? – спросил я мужика.
– Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали… До обеда рыбку удили в купальне-с… Как прикажете отвечать?
Я распечатал письмо и прочел в нем следующее:
«Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облекайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлою ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Все еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай.
Твой А. К.»
Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо.
В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены деепричастия – то и другое редко удается графу в один присест.
– Как прикажете ответить? – повторил мужик.
Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу – значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во все время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии… Я популярен… Рассудок говорил мне всю сущую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я не долго колебался. Борьба продолжалась не более минуты.
– Кланяйся графу, – сказал я посланному, – и поблагодари за память… Скажи, что я занят и что…. Скажи, что я…
И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство… Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества…
Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, заброшенных аллей… Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек-лип, знают меня… Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака… Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные… Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границ в своей шири, сатанинской гордости и презрении к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений…
– Скажи, что я буду! Мужик поклонился и вышел.
– Знал бы, не впускал его, черта! – проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу.
– Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! – сказал я строго. – Живо!
– Живо… Как же, беспременно… Так вот возьму и побегу… Добро бы за делом ехал, а то поедет черту рога ломать!
Это было сказано полушепотом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание – лучшее и острейшее орудие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно как наказание действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов… Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать… Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма… Мой цивилизованный дурак читает все, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контом, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же – ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать… Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера… Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару.