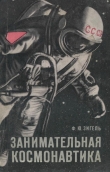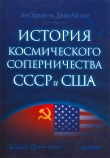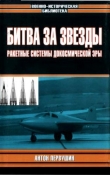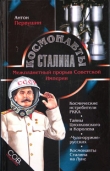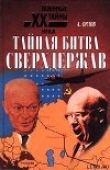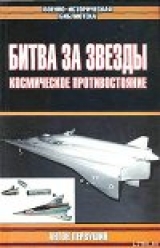
Текст книги "Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II)"
Автор книги: Антон Первушин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Звезда по имени КЭЦ
Константин Эдуардович Циолковский полагал, что космическая экспансия человечества неизбежна и предопределена самой природой разума. При этом ракеты и ракетные поезда должны стать инструментом этой экспансии, а космические колонии – ее опорой.
Наиболее подробно проект такой колонии и процесс ее строительства описаны в популярном романе Циолковского «Вне Земли» (1920 год). Приведу здесь это описание с некоторыми сокращениями.
«…Ракеты были устроены и снаряжены по описанному уже образцу. Тысячи их летели с Земли одна за другой – с гулом, громом, выбрасывая снопы света и вызывая восторг толпы.
Сначала были в них отправлены только ученые, техники, инженеры и мастера: народ отменно здоровый, молодой и энергичный, – все строители.
По совету ученых рой этих ракет расположился на расстоянии 5 % радиусов Земли от ее поверхности, или на расстоянии 33 тысяч километров. Время оборота их кругом планеты как раз сравнялось с земными сутками. День был почти вечный, сменяясь каждые 24 часа коротким солнечным затмением, никак не могущим сойти за ночь. […] Попавшие в этот новый мир сначала недоумевали, потом приходили в восторг, но скоро успокаивались, осваивались с положением и принимались за работу. […] Они извлекли запасные части и соорудили из них ряд оранжерей. Но решили их сделать в то же время и жилищем людей. Поэтому давление газов в них достигало одной пятой атмосферы.
Главная составная часть ее состояла из кислорода, именно – 80 %; остальные 20 % приходились на углекислый газ, водяной пар и т. д. Абсолютное количество кислорода было только чуть меньше, чем на Земле на уровне моря. […] Такой состав дыхательной среды был выгоден не только в отношении живительного действия кислорода, но и в отношении малой массивности и большой прочности оранжерей. […] Тысячи ракет выгружали на небесах свой материал, спускались опять на Землю, нагружались там вновь и возвращались обратно. Часть их оставалась постоянно вне Земли, так как они служили жилищем для строителей, хотя и были всегда готовы для спуска на родную планету. […] Контингент рабочих оставался почти неизменным, так как начинались почти первые опыты устройства колоний, да и работа была очень легкая и чистая. Сплавление частей, или сваривание, шло быстро, безопасно и аккуратно и производилось теплотою солнечных лучей, сосредоточенных в фокусе параболического зеркала.
Первая оранжерея была готова через 20 дней. Это была длинная труба по образцу описанной оранжереи. Длина ее достигала 1000 метров, а ширина имела 10 метров. Она предназначалась для жизни и питания ста человек. На каждого приходилось 100 квадратных метров продольного сечения цилиндра или 100 квадратных метров поверхности, непрерывно (не считая затмения) освещаемой нормальными солнечными лучами. Передняя часть, обращенная всегда к Солнцу, была прозрачна на треть окружности. Задняя, металлическая, непрозрачная, – с крохотными окошечками. Прозрачная часть благодаря вплавленной в нее необычайно крепкой и блестящей, как серебро, проволочной сетке могла выдерживать совершенно безопасно давление дыхательной газовой среды и очень сильные удары. Непрозрачная была еще прочнее. Температура в трубе регулировалась снаружи и внутри и изменялась по желанию от 200° холода до 100° тепла по Цельсию. Главное основание для этого: перемена в лучеиспускательной силе наружной оболочки цилиндра. Непрозрачная часть его была черной, но имела другую оболочку, створчатую, блестящую снаружи и внутри, т. е. с обеих сторон. Если она надвигалась на черную оболочку, то потеря теплоты лучеиспусканием двумя третями поверхности цилиндра почти прекращалась, между тем как поток солнечных лучей затоплял оранжерею и температура ее доходила до 100°. Обратное было, когда вторая серебряная оболочка скатывалась, собиралась, как штора; тогда снаружи оказывалась черная металлическая оболочка, которая обильно лучеиспускала в звездное пространство, и температура оранжереи понижалась. Она еще больше понижалась, когда блестящая металлическая оболочка захватывала снаружи стекла и прекращала доступ солнечной теплоты. Тогда уже температура понижалась до 200° ниже нуля. Она еще больше падала или повышалась, когда совместно работала третья внутренняя поверхность. […] Центр цилиндра, собственно его ось, был занят трубой с почвой; в этой почве были заложены еще две трубы, которые доставляли непрерывно почве воздух, удобрение и влагу. В бесчисленные отверстия почвенной трубы были посажены семена и ростки плодовитых фруктов и овощей. Цилиндр был разгорожен вдоль (по оси) на два полуцилиндрических отделения серебристой сеткой. Передняя, наиболее светлая половина была только отчасти затемнена вьющимся перед окнами виноградом и другими плодовыми растениями. Она служила для всех без различия пола и возраста.
Другая половина была затенена толстым слоем богатой растительности. В ней были редкие окна, из которых можно было видеть только звездное небо, Луну и Землю, дававшую свет в 1000 раз сильнее лунного. К этим редким окнам, т. е. к чисто металлической части оранжереи, прилегал ряд номеров, или отдельных камер. Число их было 200. Сто камер полагалось для семейных. Далее 50 камер для холостых и вдовцов и, наконец, 50 камер для незамужних и вдов.
Каждому семейству полагалось не менее двух камер рядом.
В одной помещался муж, в другой, соседней – мать с детьми.
Для одиноких полагалось по одной камере; но, так как число камер было в два раза больше, чем нужно, то камеры одиноких разделялись обыкновенно незанятыми, пустыми камерами.
Далее был ряд помещений для семейных, потом ряд номеров для девушек и, наконец, – для юношей. Между этими номерами и огромной залой было еще шесть длинных зал.
Против семейных было три залы: одна для собраний женатых, другая – для собраний и деятельности замужних женщин, а также детей, третья – для общих собраний жен и мужей.
Также и против номеров одиночек были три длинные залы: две – для собраний по отдельности юношей и девушек, посредине же была зала для их совместных собраний. […] Кроме детских, ни одна камера не была проходной: камера имела одну дверь, которая запиралась по желанию.
Двери, например, из комнат девушек выходили в залу общего собрания для девушек, оттуда – в залу общего собрания девушек и юношей и оттуда, наконец, – в залу общего собрания всех обитателей оранжереи. Приспособления для работ помещались главным образом в общих собраниях, но иногда по желанию перемещались в камеры.
Картина залы общего собрания такая. Если стать на зеленой перегородке, считая ее полом, то Солнце кажется над головой и нет тени. Его действие было бы невыносимым, если бы не слой растений, заслоняющий жгучесть его лучей.
В этом положении мы видим грандиозную залу со сводчатым стеклянным потолком и плоским зеленым полом. Но мы не утопаем в нем, так как тяжести нет, но и проникнуть через него не можем; этому мешает крепкая серебристая сетка.
Ширина залы 10 метров, высота 5, длина 1000 метров. Для сотни человек это целая пустыня – роскошь, которую трудно себе вообразить. Если даже одновременно все сто обитателей появятся в зале, то и тогда на каждого придется около 400 кубических метров пространства! Правда, часть занята растениями, но небольшая. Окружность цилиндра около 30 метров. Свод, значит, занимает 15 метров. Прозрачная его часть – 10 метров; она не доходит до зеленого ковра на 2,5 метра. Число камер гораздо больше, чем нужно. Представим же одну из них. Она имеет 2,5 метра высоты, 9 метров длины и 5 метров ширины. Если стать в такой камере ногами к Солнцу, вдоль потока его лучей, то увидим над головой сводчатый непрозрачный потолок с маленькими оконцами, через которые большею частью косвенно струятся лучи Земли.
Этот свет вполне достаточен для чтения… Шесть частных зал имеют одни размеры. Каждая в высоту 2,5 метра, в длину 167 метров и в ширину 10 метров. Можно, конечно, стать так, что высота окажется 167 метров. Эти представления о высоте, ширине и длине меняются в зависимости от положения наблюдателя. Придавая слабое вращение такой оранжерее вокруг поперечной оси, делали ее положение постоянным по отношению к Солнцу, так как плоскость вращения имеет способность сохраняться неизменной по направлению.
Полученная от вращения тяжесть почти не имела никакого влияния на свободу движений и даже не замечалась, но на концах оранжерей, где она имела наибольшую величину и где помещались уборные и ванные, она приносила некоторую пользу: распределяла воду в сосудах и помогала совершать отправления. […] За неимением тяжести воздух в оранжерее не циркулирует, хотя температура неодинаково затененных частей оранжереи далеко не равномерна. Центробежная сила производит токи, но чересчур слабые по ее незначительной величине.
Поэтому и ради очищения дыхательной среды от пыли, листьев, плодов и случайных предметов воздух особыми вентиляторами приводится в движение и превосходно очищается.
Но можно ограничиться и токами, ведущими в холодильник»
Вышеописанные колонии-оранжереи, согласно проекту Циолковского, можно было соединять друг с другом в более крупные сооружения – в виде звезды и других геометрических фигур. Когда размеры космических поселений станут такими, чтобы они смогли вмещать до нескольких сотен тысяч человек Циолковский предлагал отправить их в пространство между Землей и Марсом, где строительство будет продолжено за счет материала астероидов и комет – фактически он предлагал проект первого в своем роде «корабля поколений».
«Межпланетные» станции Оберта
В главе 2 настоящей книги я уже упоминал, что независимо от других исследователей основоположник немецкого ракетостроения Герман Оберт предложил свой проект орбитальной станции. Более или менее подробно она описана в двух главных работах Оберта: «Ракета в межпланетное пространство» (1923 год) и «Пути осуществления космического полета» (1929 год).
Как и Циолковский, Герман Оберт предлагает создавать станцию из отдельных ракет. Такой модуль-ракета весом от 300 до 400 тонн (и стоимостью в миллион дойч-марок по курсу довоенного времени) могла бы быть выведена на круговую орбиту вокруг Земли наподобие «маленькой луны».
Две такие ракеты можно связать канатом в несколько километров длиной и привести их во вращение друг относительно друга Оберт полагал, что с помощью такой станции можно решать следующие задачи. Во-первых, с помощью оптических приборов с модулей-ракет можно было бы разглядеть на Земле достаточно мелкие объекты, а с помощью специальных зеркал посылать световые сигналы, обмениваясь информацией с труднодоступными районами, – здесь Оберт придумал разведывательную станцию. Во-вторых, благодаря тому, что люди, находящиеся на такой станции, могут наблюдать и фотографировать малоизученные страны, они будут способствовать делу «исследования Земли и ее народов» – здесь Оберт придумал геофизическую станцию. В-третьих, станцию можно использовать как передатчик информации между войсками, колониями и метрополиями в случае начала большой войны, когда обычная связь затруднена, – здесь Оберт придумал ретрансляционную станцию.
В-четвертых, с помощью станции можно осуществлять наблюдение за айсбергами и предупреждать о них корабли, помогать операциям по спасению потерпевших кораблекрушение – здесь Оберт придумал глобальную систему спутниковой навигации и позиционирования.
Далее Оберт предлагает собрать на станции гигантское зеркало. Такое зеркало, состоящее из отдельных пластин, удерживаемых сеткой, должно вращаться вокруг Земли в плоскости, перпендикулярной плоскости земной орбиты; причем сетка должна быть наклонена под углом 45° к направлению падения солнечных лучей. Оберт полагал, что, регулируя положение отдельных ячеек сетки, можно всю отражаемую зеркалом солнечную энергию концентрировать на отдельных точках на Земле. «Можно было бы, – пишет он, – освободить от льда путь на Шпицберген или к северным сибирским портам, если подвергуть лед действию концентрированных солнечных лучей. Если бы даже зеркало имело в диаметре только 100 км, оно могло бы посредством отраженной им энергии сделать обитаемыми большие пространства на Севере; в наших широтах оно могло бы предотвратить опасные весной снежные бури, обвалы, а осенью и весной помешать ночным морозам губить урожаи фруктов и овощей…»
Оберт полагал, что на постройку зеркала диаметром в 100 километров понадобилось бы 15 лет и 3 миллиарда дойч-марок золотом.
Далее он пишет:
«Поскольку подобное зеркало, к сожалению, могло бы иметь также и очень важное стратегическое значение (взрывать военные заводы, вызывать вихри и грозы, уничтожать марширующие войска и их обозы, сжигать целые города и, вообще, производить большие разрушения), то не исключено, что одна из культурных стран уже в обозримом времени могла бы приступить к осуществлению этого проекта – тем более, что и в мирное время большая часть вложенного капитала окупила бы себя».
Здесь немецкий ученый ошибался. Орбитальные станции (как военные, так и научно-исследовательские) появятся еще очень нескоро, а их экономическая эффективность будет постоянно оспариваться.
«Жилое колесо» Нордунга
В том виде, к какому мы привыкли по фантастическим фильмам и книгам, орбитальная станция впервые предстала в проекте «жилого колеса» австрийца Поточника, писавшего под псевдонимом Герман Нордунг.
В 1928 году Нордунг написал и годом позже издал книгу «Проблема полета в космосе», в которой предлагал построить орбитальную станцию с периодом обращения в 24 часа.
Для современников Нордунга это снижало ее ценность примерно на три четверти, так как в подобных условиях станция могла вести наблюдение только за одним полушарием Земли, да и то с трудом из-за слишком большого расстояния.
Ныне на подобных орбитах, называемых геостационарными (или геосинхронными), находятся спутники связи.
Станция, предложенная Нордунгом, должна была состоять из трех отдельных частей, соединенных друг с другом воздушными шлангами и электрическими кабелями. Этими частями являлись «жилое колесо», «помещение с силовой установкой» и «обсерватория». Первое представляло собой конструкцию в форме колеса диаметром около 30 метров, вращающегося вокруг своей оси для создания центробежной силы, которая компенсировала бы отсутствие силы тяжести.
Ступица «жилого колеса», вращающаяся в противоположном направлении, выполняла бы функцию воздушной камеры.
Энергию для станции Нордунг намеревался получать от Солнца с помощью зеркал и паровых труб с конденсаторными трубками, помещенными позади зеркала.
Наряду с этими, в основном правильными, мыслями в проекте Нордунга имелся ряд принципиальных ошибок.
Так, например, боясь «холодного космического пространства», Нордунг превратил стекла иллюминаторов в выпуклые линзы для собирания солнечного света в помещении. Больше того, у каждого иллюминатора с внешней стороны укреплялось специальное зеркало для усиления солнечного света, падающего на линзы.
Орбитальная станция Вернера фон Брауна
Окончательно вид бублика, вращающегося в пустоте, орбитальная станция обрела в конце 40-х годов, когда Вернер фон Браун, перебравшись в США, выдвинул целый комплекс проектов, направленных на освоение космического пространства.
В своих статьях он, в частности, писал о необходимости строительства на околоземной орбите тороидальной обитаемой станции, которой будет придано вращение для создания искусственной силы тяжести. Станцию планировалось использовать или как заатмосферную обсерваторию, или как ракетно-ядерную базу для нанесения внезапных ударов из космоса.

Статьи Вернера фон Брауна были озвучены им в виде докладов на Первом симпозиуме по проблемам космического полета, проходившем 12 октября 1951 года в Планетарии Нью-Йорка. В марте 1972 года они были изданы в американском журнале «Кольерс» и привлекли внимание широкой публики во многом благодаря прекрасным иллюстрациям Чеслея Бонестелла, на которые до сих пор опираются художники и кинорежиссеры для иллюстрации фантастических идей, выдвигаемых специалистами по космонавтике и ракетной технике.
Американские орбитальные станции
Концептуальные разработки немецких специалистов послужили основой для серии проектов орбитальных станций, разрабатываемых в рамках самых различных космических программ.
В 1954 году на Пятом международном конгрессе Федерации Астронавтики обсуждался проект четырехместной маневрирующей станции, служащей в качестве промежуточной базы для межпланетных экспедиций. Этот проект разработал американец Крафт Эрике.
Через четыре года его проект под названием «Передовой пост» («Outpost») был возрожден к жизни как возможный ответ на запуск первого советского спутника.

В качестве орбитальной станции Эрике предложил использовать межконтинентальную ракету «Атлас-Д», доработанную фирмой «Конвейр». В то время это была самая большая американская ракета: длина – 22,8 метра, диаметр – 3 метра.
Такой наивный проект, разумеется, не мог найти поддержки, однако по своим параметрам он уже напоминал более позднюю концепцию орбитальной станции, которую ныне принято считать традиционной, – орбитальная станция, согласно этой концепции, является частью ракеты-носителя и ее габариты определяются, исходя из габаритов ракеты.
Одним из наиболее продуманных проектов того времени является американская орбитальная станция «МОЛ» («MOL» – сокращение от «Manned Orbiting Laboratory»), которую разрабатывали американские ВВС в качестве одного из элементов своей амбициозной космической программы.
В июне 1959 года эскизный проект станции «МОЛ» был утвержден как основа для конкурсной разработки орбитальной станции по программе «Джемини». При этом предполагалось, что станция будет собираться из трех частей: основного блока, корабля «Джемини» с экипажем и возвращаемой капсулы «Джемини». Для осуществления пилотируемых маневров можно было пристыковать к основному блоку двигательную установку одного из промежуточных блоков ракеты «Титан-3».
Помимо чисто военных задач (наблюдение за территорией противника, осмотр и перехват вражеских спутников) долговременная обитаемая станция «МОЛ» нацелена и на научные задачи, как то: изучение длительного влияния невесомости на человеческий организм, апробация замкнутой системы жизнеобеспечения, испытания двигательных установок нового типа. 10 декабря 1963 года министр обороны Роберт Макнамара объявил о закрытии программы создания космического самолета с воздушным стартом «Дайна-Сор» в пользу программы создания долговременной станции «МОЛ». По этой программе между министерством обороны и НАСА заключен соответствующий договор.
Таким образом проект получил новый толчок, и в июне 1964 года к программе создания станции подключаются три фирмы: «Дуглас», «Дженерал Электрик» и «Мартин». Срок запуска станции определен на 1967–1968 годы.
Впрочем, у проекта нашлись серьезные противники. Так, сенатор Клинтон Р. Андерсон, возглавлявший Комитет по аэронавтике и космонавтике, направил президенту Линдону Джонсону письмо, в котором призвал объединить программы «МОЛ» и «Аполлон» с целью экономии средств. Андерсон уверял, что на базе задела по орбитальным модулям «Аполлон» можно спроектировать и собрать полноценную долговременную станцию. В его словах был свой резон, однако Джонсон предпочел поддержать министерство обороны, выделив 1,5 миллиарда долларов на проект «МОЛ».
В 1965 году проект станции «МОЛ» в целом был готов.
Долговременная орбитальная станция «МОЛ» представляла собой герметичный цилиндр с габаритами: полная длина – 12,7 метра, максимальный диаметр – 3 метра, обитаемый объем – 11,3 м³, полная масса – 8,62 тонны. Состав экипажа – 2 человека. Расчетный срок эксплуатации – 40 дней. Двигатель маневрирования работает на твердом топливе, общее время работы – 255 секунд. Снабжение электропитанием – топливные элементы и панели солнечной батареи.
В марте 1966 года на авиаракетной базе Ванденберг Западного испытательного полигона началось строительство стартовой площадки № 6 для ракеты «Титан-ЗС» («Titan ЗС»), которая должна была вывести станцию на орбиту.
В феврале 1967 года был определен основной подрядчик по изготовлению станции. Им оказалась фирма «Дуглас». В то же время НАСА передало ВВС капсулу «Джемини-6» и другое оборудование для подготовки будущих экипажей «МОЛ».
Казалось бы, очень удачный год. Однако именно 1967 год стал критическим для проекта «МОЛ». Выяснилось, что конструкторы не укладываются в весовые ограничения. Пришлось в срочном порядке думать о модернизации ракеты «Титан», увеличении ее грузоподъемности за счет навесных ускорителей. На обсуждение и поиск оптимального решения ушло целых восемь месяцев, в результате чего запуск был отложен на 1970 год, а общая стоимость проекта возросла с 1,5 до 2,2 миллиарда долларов.
В марте 1968 года был закончен и отправлен на статические испытания основной блок будущей станции «МОЛ», однако в течение года было принято решение о полном сворачивании всех работ по программе. Ликвидация программы создания долговременной станции «МОЛ» стала следствием общего сокращения расходов на пилотируемую космонавтику, связанного с утратой мобилизующих ориентиров после высадки экипажа «Аполлона-11» на Луну и обострением политической ситуации на Земле.
Соответственно были отменены и другие американские проекты долговременных орбитальных станций, которые тем или иным образом были связаны с успешным развитием и завершением программы «МОЛ».


Так, был закрыт и забыт проект научно-исследовательской станции «МОРЛ» («MORL» – сокращение от «Manned Orbital Research Laboratory»), разработкой которой фирмы «Боинг» и «Дуглас» занимались с 1964 года. Эта станция диаметром 6,8 метра, длиной 12,6 метра и массой 13,5 тонны, с экипажем из четырех человек, должна была выводиться на орбиту ракетой-носителем «Сатурн-1Б». За сто дней пребывания на орбите экипаж станции мог бы выполнить обширную программу астрономических и медико-биологических исследований. По завершении программы астронавты должны были вернуться на Землю в возвращаемой капсуле «Джемини» или «Аполлон», отправляемой на орбиту вместе с «МОРЛ». Интересно, что на этой станции планировалось разместить двухместную центрифугу, предназначенную для поддержания нормальной физической формы у членов экипажа.
В более поздних вариантах проекта «МОРЛ» на станции предполагали разместить космический телескоп диаметром 4 метра и длиной 15 метров, а в 1965 году Лаборатория космической техники фирмы «Дуглас» выдвинула проект марсианской экспедиции, в котором станция «МОРЛ» выступала как межпланетный корабль, запускаемый к Марсу разгонным блоком Saturn MLV–V-1.
Другим проектом, пострадавшим в результате ликвидации программы «МОЛ», был проект большой научно-исследовательской станции «ЛОРЛ» («LORL» – сокращение от «Large Orbiting Research Laboratory»), которая оставалась как развитие «МОЛ» на более позднем этапе. Станция, рассчитанная на экипаж из 18 человек (!!!) и срок службы не менее пяти лет, должна была собираться из модулей, доставляемых на орбиту тяжелыми ракетами «Сатурн-5».
Имелись и другие проекты орбитальных станций, создаваемые в развитие программ «Джемини», Аполлон» и «Сатурн». Все они, однако, были отвергнуты по банальной причине недостатка финансирования. НАСА вновь пришлось экономить и сдерживать свои аппетиты. Поэтому из целого списка проектов американскому космическому агентству снова пришлось выбирать что-то одно. 14 мая 1973 года на орбиту высотой 434 километра в перигее и 437 километров в апогее была выведена первая американская станция «Скайлэб» («Skylab» – сокращение от «Sky Laboratory») весом 77 тонн. Основной блок станции был создан на базе третьей ступени ракеты-носителя «Сатурн-5», оставшейся невостребованной в лунной программе.


В качестве транспортного корабля снабжения использовался корабль «Аполлон».
Экипажи, работавшие на станции, столкнулись с рядом серьезнейших проблем, поэтому состоялось всего лишь три экспедиции на нее (максимальное время пребывания – 84 дня). 9 июля 1979 года американская станция «Скайлэб» прекратила свое существование, упав в Индийский океан.