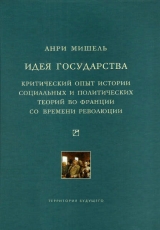
Текст книги "Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции"
Автор книги: Анри Мишель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Не успела разразиться французская революция, как среди массы сочинений на злобу дня, позабытых сейчас же после своего выхода в свет, появилось произведение, которому суждено было оказать сильное и продолжительное влияние на умы: это Размышления о французской революции [464]464
Reflections on French Revolution (1790), Letter to a member of National Assembly (1791), Thoughts on French affairs (1791).
[Закрыть]. Книга Берка часто похожа на памфлет; тем не менее эта книга, полная горечи, ожесточения и несправедливости, если принять во внимание время ее появления, поражает нас проницательностью взглядов и строгостью логики.
Берк скорее политик, чем философ, политик, умеющий найти слабый пункт программы, недостатки учреждения и отдаленные последствия данного факта. Так, в одном из трех Мемуаров,составляющих его Размышления(в мемуаре 1791 года), Берк первый отметил, что французская революция не похожа на обычные политические революции и что она отличается характером и ходом революции религиозной, «всегда сопровождающейся духом энтузиазма и прозелитизма» [465]465
Oeuvres posthumes de Burke sur la Révolution française (Лондон, 1799. C. 42).
[Закрыть]. Всем известная глава Токвиля [466]466
L'Ancien Régime et la Révolution (Кн. I. Гл. III).
[Закрыть]является, в сущности, только парафразой этих знаменательных строк.
Берк точно так же показал, что исчезновение всякого различия между личностями и новое распределение территории на департаменты облегчили появление деспотизма. Он высказал это почти одновременно с Мирабо, который писал королю, что стремление Национального Собрания привести к одному уровню и людей, и местные власти «обрадовала бы Ришелье». Как в мелочах, так и во многом крупном Берк отличается необыкновенною проницательностью. И, например, страница, где он указывает, что вследствие нового административного устройства страны, Париж призван играть решающую роль во внутренней истории Франции, не принадлежит ни по своему остроумию, ни по своей смелости к числу редких в его книге [467]467
Reflections on French Revolution (франц. перев. Париж, изд. Laurent’a, без даты. С. 422 и след.). – Gm. Ibid (C. 31), его замечание о числе легистов, вошедших в Конституанту, и об их деятельности.
[Закрыть].
Недоумевали, каким образом тот же самый человек, который так сурово судил о французской революции, мог относиться благожелательно к революции американской и с парламентской трибуны произносить красноречивые панегирики в защиту мятежных колоний. Здесь противоречие только кажущееся. Во имя одних и тех же принципов Берк осуждает намерение французов заново перестроить все социально-политическое здание и желание своих соотечественников наложить невыносимое ярмо на колонии Нового Света. В данном случае Англия сама опиралась на абстрактное право, которого Берк не признавал. «Вопрос, – говорит он в одной из своих знаменитых речей, – для меня заключается не в том, имеете ли вы праводелать несчастным принадлежащий вам народ… Я не вхожу в эти метафизические споры о правах. Мне ненавистен самый звук этих слов» [468]468
Цитировано по John Morley: Burke, в собрании Englishmen of Letters (C. 84).
[Закрыть].
Нападая на революцию с ожесточением, которое иногда равняется ожесточению де Местра [469]469
Сближая здесь Берка с теократами, я отнюдь не забываю разделяющих их отличий. T. de Rémusat метко указал эти отличия (L'Angleterre au XVIIIsiècle. T. II. C. 393), говоря, что «Берк задохнулся бы при режиме де Бональда и графа де Местра».
[Закрыть], Берк судит о ней не с высоты метафизического принципа и тем менее с высоты догмата. Он судит о ней как политик; прибавлю: как политик-теоретик, обладающий известным методом и доктриной и неохотно выносящий противоречия. Конечно, нужно многое приписать стремлению Берка – в котором, впрочем, он признается и сам – изгнать обратно на континент опасные учения, не дать укрепиться идее, что французская революция является подражанием революции 1688 года. Но мы умалили бы значение книги Берка, если бы видели в ней только протест английского эгоизма и английского тщеславия против опасного влияния французских идей. Эта книга особенно ценна и интересна для нас изложенной в ней теорией «политического разума».
Берку одинаково ненавистны и метод, и доктрина деятелей революции. Их метод, по его мнению, имеет три недостатка: он априорен [470]470
Reflections, франц. перев. (С. 123).
[Закрыть], сводит все на индивидуальный разум [471]471
Ibid. С. 180.
[Закрыть]и применяет слишком упрощенные построения [472]472
Reflections. С. 125.
[Закрыть]. Доктрина искупает эти недостатки метода ценою трех основных ошибок. Общественный договор, гипотеза крайне упрощенная, не соответствует сложности объясняемых ею фактов [473]473
Ibid. С. 203.
[Закрыть]. Теория народного верховенства, идущая по прямой линии от культа разума, находится в непримиримом противоречии с самым понятием правительства и общественного порядка [474]474
Ibid (С. 23–25, 120).
[Закрыть]. Теория прав человека, логическое следствие абстрактной концепции человеческой природы, представляет собою «мину», способную взорвать всякое политическое учреждение [475]475
Ibid. С. 117.
[Закрыть].
Этой ложной и опасной доктрине Берк противополагает свою собственную, которую также можно свести к трем основным пунктам. Права человека уступают место гораздо более скромному перечню положительных прав, из которого Берк заботливо исключает все статьи, уполномочивающие индивидуума решать вопросы о государственном строе и направлении общественных дел. Однако, как справедливо было указано, некоторые статьи этого перечня не лишены опасности в том отношении, что как бы санкционируют требуемое социалистическими школами равенство в удовлетворении потребностей. Народное верховенство, в свою очередь, уступает место существующим властям [476]476
Ibid. С. 23.
[Закрыть], а общественный договор – тому, что Берк называет «великим изначальным договором». Этот договор «обнимает всю физическую и моральную природу», приобщая мир видимый к миру невидимому. Это – «высший закон», который не может быть подчинен воле тех, кто сам принужден подчиняться ему [477]477
Reflections (С. 203).
[Закрыть]. Почему? Потому что «государства хотел Бог» [478]478
Ibid. С. 206.
[Закрыть].
Берк применяет метод, абсолютно противоположный тому, который он осуждает у философов XVIII века и у деятелей революции. В самой широкой степени пользоваться опытом; признавать, что учреждения, как и все человеческое, не импровизируются, а образуются постепенно [479]479
Ibid. С. 361.
[Закрыть]; избегать веры в индивидуальный разум и совещаться с общим разумом, т. е. «черпать в сокровищнице народов и веков» [480]480
Ibid (C. i8o).
[Закрыть], – вот элементы его метода.
Но что такое этот общий разум народа? Где найти его выражение? В предрассудке, поскольку последний содержит в себе разумный элемент. Вместо того, чтобы бороться с предрассудками, мыслитель, по мнению Берка, должен стараться открыть заключающуюся в них «скрытую мудрость».Разум, взятый в оболочке предрассудка, ценнее совершенно обнаженногоразума [481]481
Ibid. C. 181. Вся эта страница очень любопытна.
[Закрыть]. И, действительно, предрассудок обладает всеми достоинствами привычки. Подобно последней, он обладает движущей силой. Кроме того, он по существу своему догматичен, а сомнение и нерешительность – злейшие враги политического общества [482]482
Ibid (С. 181).
[Закрыть].
«Политический разум», по Берку, это – «принцип вычисления». Выгоды, которые человек может получить в социальной жизни, не имеют ничего абсолютного. Они составляют «своего рода середину» [483]483
Reflections. С. 125.
[Закрыть], компромисс, или между добром и злом, или между одним злом и другим. Трудно найти эту середину, установить этот компромисс. Только «политический разум» достигает этого, потому что он в одно и то же время и руководитель, и орудие вычисления. Но какого рода вычисления? Берк сильно выражает в данном случае свою мысль, говоря, что политический разум «складывает, вычитает, умножает и делит морально, а не метафизически или математически» [484]484
Ibid (С. 126).
[Закрыть].
Теория «политического разума» представляет, в сущности, более тонкое выражение реалистических взглядов XVII века на социальный и политический строй: древность считается признаком истинности; природа ставится выше человеческого искусства. Подобно людям этого века, Берк считает «наследие предков драгоценнейшим из благ в социальном и политическом строе» и полагает, что при введении государственных реформ необходимо стараться «не привить к этому наследственному стволу какого-нибудь отростка иной природы, чем само дерево» [485]485
Ibid (С. 58).
[Закрыть]. Политика, основанная на уважении к унаследованному от прошлых поколений, не обладает ли тем достоинством, что является «подражанием природе, которое выше размышления и есть настоящая мудрость» [486]486
Reflections. С. 63.
[Закрыть]?
Таким образом, Берк, подобно теократам, вводит понятие природы, излюбленное для всех противников чисто рационалистических концепций. У него в изобилии встречаются формулы, призывающие человека уважать «естественный ход вещей» [487]487
Ibid (С. 64–65, 131 и особенно 178). «В Англии мы еще сохранили свои собственные внутренности… Нас еще не выпотрошили и не зашили, набив, подобно чучелам какого-нибудь музея, соломой, тряпками и скверными и грязными лоскутами бумаги о правах человека…» Ср. отрывок из речи Берка, цитируемый Джоном Морлеем (John Morley. Burke. C. 85). Там говорится о естественном ходе вещей, которые, будучи предоставлены самим себе, обыкновенно находят соответствующий им порядок. «The natural operation of things, which, left to themselves, generally fall into their proper order».
[Закрыть], причем здесь Берк соприкасается с немецкой исторической школой – он представляет себе этот «ход» гораздо определеннее, чем теократы. Он ясно видит в нем медленный и непрерывный рост учреждений, предоставленных самим себе. Отсюда известный квиетизм, враждебный всякому вмешательству человеческой воли в течение событий. Зачем нам вмешиваться в то, что так же хорошо и даже лучше сделается и без нас?
Таким образом, Берк, точь-в-точь как Юм, осуждает пытливость ума в политике. Он забывает, однако, одно обстоятельство: если логично осуждать эту пытливость во имя «авторитета», то нелогично осуждать ее во имя «природы», так как сама пытливость в высшей степени естественна.
Берк не оказал, подобно Бентаму, сильного и глубокого влияния на развитие социальных и политических теорий в Англии. Можно даже сказать, что у него не было учеников [488]488
О влиянии Берка см. John Morley, цитированное сочинение (С. is, 14–15).
[Закрыть]. Зато его идеи проникли на континент. Мы встречаем их в политике доктринеров; впоследствии же их усвоил [489]489
См. далее (Кн. III. Гл. II).
[Закрыть]и в некоторых отношениях почти целиком воспроизвел Тэн в своих исторических трудах [490]490
См. далее (Кн. V. Гл. I).
[Закрыть].
Небольшая работа Савиньи Призвание нашего времени к законодательству и юриспруденции(1814) создала эпоху не только в истории немецкой мысли, но и в истории европейской мысли вообще [491]491
Das Recht des Besitzes (1803). Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814). Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft(1815). Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter(1815–1831). Wermisсhte Schriften(1850).
[Закрыть].
У Вико и Монтескье мы находим как бы предчувствие исторического метода и слабые намеки на него, но у них нет еще его ясного понимания и применения; Берк уже хорошо усвоил его [492]492
Не раз указывали, что идеи Берка, нашедшие в Германии пропагандистов в лице Брандиса и Реберга, могли оказать влияние на развитие немецкой исторической школы. См. особенно: Ahrens. Cours de droit naturel(T. I. C. 54, примечание).
[Закрыть]; а в книге Савиньи исторический метод, понятие о естественном развитии и жизни учреждений изложены с абсолютной определенностью и сознанием их важности. Впрочем, как и все доктрины, которым суждено великое будущее, доктрина немецкой исторической школы возникла не сразу, не в мозгу одного человека. Она возникла, напротив, в тесной связи с целым рядом исследований в области религии, языка, учреждений, права языческой и христианской древности и в связи с целым рядом работ, проникнутых духом национализма [493]493
См. особенно R. Haym . Die romantische Schule, где немецкая реакция против французской философии XVIII века изучена подробно. С тем же идейным течением связаны, кроме работ Гердера, работы Гуго, братьев Гриммов, Крейцера, Нибура, оказавшие на Савиньи непосредственное влияние.
[Закрыть].
Не настал ли момент облагодетельствовать Германию единым законодательством, создав для нее кодекс по образцу австрийского или французского? Поставив этот вопрос, Тибо решает его утвердительно [494]494
Thibaut издал в начале 1814 г. брошюру Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland.О полемике между Савиньи и Тибо см. Приложение, помещенное Савиньи в конце 2-го издания его работы Vom Beruf(изд. 1828 г.).
[Закрыть].
Савиньи восстает против этого мнения. Он совершенно правильно видит в этой склонности к законодательству результат стремления людей XVIII века преследовать абстрактный, универсальный идеал. Но с тех пор возникли новые течения мысли, зародился «исторический смысл». И этот исторический смысл, неразрывно связанный с сознанием ценности национальных традиций, отнял у духа XVIII века его престиж и авторитет. Создать новый германский кодекс по образцу французского или австрийского – не значило ли бы это окончательно порвать с прошлым и совершенно неуместно ввести в юридические отношения «свободную волю» человека?
В самом деле, право – значение этой руководящей идеи гораздо больше, чем значение аргументов против кодификации, которых мы в дальнейшем касаться не будем – право образуется не по желанию людей. Оно не результат положительных законов. Подобно языку, нравам и учреждениям, от которых его нельзя отделить, с которыми оно «неразрывно связано», право – «сила», «функция» [495]495
Vom Beruf (C. 5).
[Закрыть]народа. Как произошли эти разнообразные «функции»? На подобный вопрос не может быть «исторического ответа». Савиньи принимает господствующую тогда философскую гипотезу прогресса, хотя и не придает ей особенного значения [496]496
«В наше время признано, что все люди жили сначала в диком состоянии, из которого вышли путем постепенного развития и достигли сначала сносных условий существования, а затем той высоты, на которой мы находим их в настоящее время». Ibid(С. 5).
[Закрыть]. В сущности, этот вопрос его мало интересует, и он предпочитает следить за эволюцией права с того момента, когда уже существуют документальные исторические данные [497]497
Ibid (С. 5).
[Закрыть].
С этого момента можно видеть, как право непрерывно развивается, подобно языку: ни для того, ни для другого нет «абсолютного покоя». Право связано с судьбой народа. Оно «совершенствуется вместе с ним и умирает, когда сам народ теряет свою самобытность» [498]498
Vom Beruf (С. 7).
[Закрыть].
Начиная с известного исторического момента, активные силы народа обязательно дробятся, и право, до сих пор бывшее продуктом коллективного творчества всего народа, становится частным делом особого класса специалистов, юристов. Отныне оно живет лишь «в их сознании». Юристы «представляют народ в этой его функции» [499]499
Ibid (C. 7–8).
[Закрыть]. Однако хотя жизнь права с этого момента и становится более «искусственной», «бесконечные частности» законодательства происходят по-прежнему «органическим путем» [500]500
Ibid (C. 8).
[Закрыть], без вмешательства произвола, так как жизнь народа течет своим порядком, а юристы являются лишь ее наблюдателями. Савиньи постоянно возвращается к этой идее. Ни в какой стадии своего развития право не является продуктом каприза законодателя: «оно всегда порождается молчаливо действующими внутренними силами» [501]501
Ibid (C. 9).
[Закрыть].
Такая точка зрения – Савиньи, как мы уже видели, понимает это – абсолютно противоположна взглядам Мабли и Руссо на законодательство и роль законодателя. Впрочем, тут нет ничего удивительного, так как индивидуальность, столь высоко превознесенная мыслителями XVIII века, в глазах Савиньи теряет всякое значение. Индивидуум как таковой уже не появляется. Народная масса, создающая государство, порождает и право. В свою очередь, государство, подобно праву, языку и нравам, живет своей собственной жизнью. Вот «лучшее доказательство мощи той высшей силы, которую представляет собою жизнь народа» [502]502
Savigny. System des heutigen römischen Rechts (Кн. I. Гл. II, § g).
[Закрыть].
Оставаясь верным своему плану, я не могу заниматься выяснением вопроса, каким образом немецкая мысль могла перейти от юридических и политических теорий Канта к теориям исторической школы. Я хотел только показать величину пройденного пути и характер совершившейся революции. Точно такая же идейная революция произошла во Франции в период от Руссо до де Местра и де Бональда. Сходство поразительное, как в целом, так и в частностях [503]503
Так, де Бональд и де Местр говорят: «Человек не является законосоздателем, а только законодателем, в том смысле, что он вносит в среду общества закон, созданный не им; а Савиньи, обвиненный своими противниками (фон Гоннером) в отрицании прав государя, заявляет, что государь сохраняет одну прерогативу: санкционировать своим авторитетом право, которое создается без него и помимо него.
Равным образом как де Бональд борется якобы во имя истинных вольностей, гарантированных, по его мнению, старофранцузской конституцией, против ложных революционных вольностей, служащих источником угнетения и рабства, так Савиньи защищается от упрека в покушении на индивидуальную свободу. System des heutigen römischen Rechts(T. I. C. 25).
[Закрыть].
Но, несмотря на сходство, существует и значительная разница. Теократы опираются на метафизику и религию, а Савиньи и историческая школа говорят от лица науки. Кроме того, взгляд, что писаные конституции не имеют никакой ценности и что учреждения зарождаются и растут, – этот взгляд уде Местра не имеет такого значения, какое он получает у Савиньи. Один английский критик замечает, что учение об эволюции, в сущности, не что иное, как исторический метод в приложении к естествознанию, и потому не без основания называет Савиньи «дарвинистом до Дарвина» [504]504
Pollock. Oxford Lectures, and other Discourses (C. 42).
[Закрыть].
После французской революции и необыкновенных событий, происшедших в Европе в первые годы XIX века, руководящая идея исторической школы – а именно та, что учреждения живут собственной жизнью и развиваются естественным порядком, так что человек, желающий судить о них или исправлять с точки зрения чистого разума, рискует не понять их смысл и нарушить их развитие – эта идея должна была поразить умы сильнее, чем в эпоху Монтескье или Вико. Она явилась как бы осуждением революционного метода, как бы принципом социально-политической философии, в которой прихотливое вмешательство человеческой воли более не может иметь места.
Этой новой концепции суждено было выступать все в более и более чистом виде у французских писателей, подпавших влиянию исторической школы, но вместе с тем, как мы увидим, постепенно должна была возрастать и та опасность, которая, говоря по правде, таилась в ней с самого начала [505]505
См. далее (книги III и V).
[Закрыть].
Она обращала главное внимание на прошлое, не без основания находя в нем зародыши и первые ростки настоящего. Но прошлое, изучаемое с любовью, со страстью, должно было в конце концов, благодаря расстоянию времени, получить соблазнительную окраску. С точки зрения строгой логики, ни один из моментов, сменяющих друг друга в бесконечной эволюции, не может значить больше, чем те, которые ему предшествуют или следуют за ним. Однако в действительности отдаленные зачатки, первые члены длинного ряда, получают исключительную важность.
И вот мы видим, как прямые ученики Савиньи под влиянием изучения римского права стремятся сделать из него абсолютное законодательство [506]506
Аренс справедливо говорит: «Историческая школа считала римский народ в некотором роде избранным народом, создателем права и хотела сделать из римского права универсальный кодекс, годный для всех народов; между тем это право должно было только служить средством воспитания и войти в юридическую культуру новых народов как элемент ассимиляции». Cours de Droit naturel(T. I. C. 56).
[Закрыть]– явное противоречие, причину которого мы только что выяснили. Эти ученые и добросовестные историки должны были бы, кажется, проникнуться сознанием относительности всего, но они, в свою очередь, подобно своим противникам, сделались рабами абстрактного идеала. Только они находили этот идеал не в настоящем или будущем, как люди XVIII века, а в прошедшем – в этом, в сущности, вся разница.
Исторический метод при всей своей ценности способствовал, таким образом, созданию очень опасного исторического суеверия. Оно состоит не только в осуждении всякого вмешательства разума в человеческие дела, но и в оправдании множества злоупотреблений просто потому, что они существуют, что они давнего происхождения, что мы знаем их генезис и первопричины. Это – новая форма, в которой вновь появляется известная концепция XVII века: древность равносильна праву. Но люди XVII века видели в древности какого-либо учреждения указание на божественное предначертание; Савиньи же не берется угадывать намерения Божества. Отсюда возражение: работа времени как таковая ничуть не заслуживает обязательного уважения. Этот слабый пункт исторического метода рано был замечен и указан защитниками философии XVIII века [507]507
Mackintosh, например, в своем ответе Берку, озаглавленном «Апология французской революции» (франц. пер. С. 104), упрекает его за прославления простого «дела случая».
[Закрыть].
Для избежания этого возражения было одно средство: снова ввести соображения о конечных целях, на этот раз в самую историю. Это и было одним из главных вкладов Гегеля в политическую философию своего времени.
IVВидя, что Ганс, знаменитейший из учеников Гегеля в области философии права, ведет энергичную борьбу с представителями исторической школы, современники пришли к убеждению, что доктрина Гегеля была реакцией по отношению к взглядам Савиньи [508]508
Во Франции, например, Lerminier (Introduction à l’Etude du Droit. C. 236). Это сочинение местами устарело, но сохраняет значение как драгоценный документ для суждения о влиянии немецкой мысли на французскую в то время (1830). Лерминье хорошо осведомлен обо всем, что касается Германии. Ему даже пришлось защищаться от обвинения в «германизме».
[Закрыть].
В настоящее время черты сходства поражают нас, во всяком случае, столько же, сколько и контрасты. Тем не менее остается справедливым, что у Гегеля к понятию об историческом развитии присоединяется понятие о правах разума – разума, имманентного вещам. Вот почему этот рационалист оказывается в политике врагом и порицателем индивидуализма; вот почему он, быть может, значительнее, чем кто-либо из мыслителей XIX века, содействовал усилению власти государства.
Следует, однако, повторить только что сказанное нами по поводу Бентама. В философии Гегеля можно найти все: даже индивидуализм рядом с обожествлением государства. Но здесь мы должны считаться с развиваемой Гегелем доктриной, а не с выводами, вытекающими из его философии, и не с теми тенденциями, которым последняя благоприятствует. С этой точки зрения, Гегель является одним из вождей, если не творцом реакции против политических учений XVIII века [509]509
Ср. Critique philosophique, 1-й год (T. I. С. 323), статью Renouver.
[Закрыть].
Гегель хвалит Руссо за то, что тот признает «волю», лежащую в корне государства [510]510
Нижеследующие страницы стремятся верно передать мысль Гегеля, но не воспроизводят ни его терминологии, ни деталей. Я позволил себе сделать изложение простым и ясным.
[Закрыть]; но упрекает его за то, что он подразумевает здесь индивидуальную волю. По мнению Гегеля, в государстве так же, как в искусстве и религии, проявляется абсолютная воля, объективный разум – Бог.
Если исходить из личной воли, то государство является чем-то произвольным, что могло бы быть и не так, как существует. Отсюда – постоянное стремление философов отыскивать, чем должно быть государство. Изыскания эти совершенно бесполезны и очень мало сообразны с научным методом. Если же, наоборот, исходить из абсолютной воли, то всякая случайность исчезает: государство есть то, что оно есть, и не может быть иным. Отныне задача философа заключается уже не в том, чтобы отыскивать, чем должно быть государство, а в том, чтобы понять и объяснить, почему оно таково, каким мы его находим. Задача гораздо более трудная: метафизик, созидающий теорию государства, должен разбираться только в своих собственных концепциях, между тем как здесь необходимо проникнуть в самую природу вещей [511]511
Rechtsphilosophie, изданная Гансом в 1833 г. (T. IX Полного собрания сочинений).
[Закрыть].
Мы видим, однако, что Гегель, только что сказав о научном методе, сейчас же сам применяет чисто метафизический метод; только что упрекнув философов в излишнем упрощении вопроса о государстве, сейчас же сам поступает по их примеру. Он также определяет государство с высоты системы. «Государство – социальная субстанция, дошедшая до самосознания… Государство – это разум в себе и для себя… государство – это земной бог» [512]512
Philosophie des Geistes, § 536. См. также Rechtsphilosophie, § 256–259.
[Закрыть]. Имеется некоторая «сущность государства», которая примешивается ко всем человеческим учреждениям, каковы бы ни были их форма и природа, и заслуживает благоговения как нечто божественное [513]513
Rechtsphilosophie, § 258. Zusatz.
[Закрыть]. По отношению к индивидуумам государство выступает как представитель и воплощение высшего права: первая обязанность индивидуумов – быть членами государства [514]514
Ibid, § 258.
[Закрыть].
Таким образом, по Гегелю, государство и логически, и метафизически предшествует индивидууму Охрана собственности и свободы индивидуума составляет цель того, что Гегель называл «гражданским обществом»; но это не цель и не может быть целью государства. Цель государства в нем самом [515]515
Ibid, § 181–182.
[Закрыть].
С точки зрения своего «внутреннего строения», государство имеет двоякую цель: во-первых, дать праву «необходимую реальность», так как вне государства оно имеет только «возможную реальность»; во-вторых, воспрепятствовать семье или гражданскому обществу стать «центром», приобщить их к жизни общей субстанции – к жизни государства [516]516
Rechtsphilosophie, § 260. Ср. Philosophie des Geistes, § 538.
[Закрыть].
Здесь нет и речи об абстрактных формулах XVIII века: о свободе и равенстве. По мнению Гегеля, государство приводит, напротив того, к неравенству, так как оно установляет различие между управляющими и управляемыми, а также административную, судебную и военную иерархии. Впрочем, разве не существует непримиримого противоречия между свободой и равенством? Если индивидуум совершенно свободен и независим, то он доводит до высшей степени развитие своей собственной личности, т. е. «именно того, что делает людей неравными» [517]517
Philosophie des Geistes, § 540; примечание.
[Закрыть]. Нужно, следовательно, отказаться от этих абстрактных формул и вместе с Гегелем признавать конкретные, положительные свободу и равенство, примиряющиеся в теории закона.
Полагая в основу государства абсолютную, а не индивидуальную волю, Гегель не может допустить, чтобы законодательная власть была главной из властей, подчиняющей себе все остальные; тем более что исполнительная власть лучше законодательной представляет и воплощает государственное единство [518]518
Ibid, § 542.
[Закрыть]. Кроме того, обычное понимание разделения властей, т. е. как разделение властей, взаимно ограничивающих, проверяющих и сдерживающих, может создать только «общее равновесие», а не живое единство [519]519
Rechtsphilosophie, § 272.
[Закрыть]. Верховная власть принадлежит не законодательной власти и не создающему ее народу, а государству или еще точнее – монарху, который словами «яхочу» кладет основу всякой деятельности, всякой реальности [520]520
Rechtsphilosophie, § 279.
[Закрыть].
Нет нужды, чтобы монарх обязательно был абсолютным государем. Наоборот, Гегель считает «конституционную монархию» наиболее совершенной формой правления. Впрочем, это не значит, чтобы был возможен выбор между той или иной формой правления: последнее предполагало бы вмешательство свободной воли человека в конституцию государства и противоречило бы тому основному принципу доктрины Гегеля, что все конституции, как прежние, так и теперешние, были и суть формы, необходимые для развития государства. Но «конституционная монархия», новейшая из этих форм, должна считаться также и наилучшей в том смысле, что она самая рациональная, так как комбинирует монархическую, аристократическую и демократическую формы и преобразовывает их, сливая воедино [521]521
Philosophie des Geistes, § 545.
[Закрыть]. Таким образом, «яхочу» монарха не является непременно актом произвола; ему может предшествовать и обсуждение. «Когда конституция вполне установилась, государю часто приходится только подписывать свое имя; но эта подпись имеет огромное значение: это – кульминационный пункт, дальше которого некуда идти» [522]522
Rechtsphilosophie, § 279. Zusatz.
[Закрыть].
В «конституционной монархии», как ее понимает Гегель [523]523
Нечего и говорить, что эти слова имеют у него не совсем такой смысл, как во французском политическом языке.
[Закрыть], кроме государя могут существовать один или несколько совещательных органов, при посредстве которых народ принимает участие в делах [524]524
Rechtsphilosophie, § 300.
[Закрыть]. Основание для такого участия частного лица в общественных делах не следует, разумеется, искать в каком-либо принадлежащем индивидууму политическом праве: оно вытекает от несомненного права «общего народного духа проявлять себя посредством вмешательства в общественные дела» [525]525
Philosophie des Geistes, § 545.
[Закрыть].
Совещательные органы не парламенты: их роль очень незначительна. Формулируемые ими законы должны быть «простым развитием существующих законов». Вотирование бюджета было бы освящением прискорбного покушения на компетенцию правительства.
Гегель не придает никакой цены доводам, на которых основано это право в свободных странах. Скажут: хорошо, что народ находит в нем средство воздействовать на правительство, гарантию от произвола. Признать это значит согласиться, чтобы устойчивость государства ежегодно подвергалась опасности; это значит допустить «ложное понятие договора между правительством и народом, возможность революционного разрыва между ними» [526]526
Ibid, § 544.
[Закрыть]. Совещательные учреждения должны только выражать мнение, а не решать; государь никогда не обязан следовать их указаниям. Государю принадлежит, кроме того, право мира и войны, руководство армией и иностранными сношениями, а также управлением вообще, которому Гегель отводит значительное место. Последнее слово всегда принадлежит государю [527]527
Philosophie des Geistes, § 542.
[Закрыть]. Он, по знаменитому выражению Гегеля, ставит точку над I.
Если к этим крупным линиям системы присоединить несколько второстепенных пунктов, каковы: важное значение, приписываемое Гегелем чиновникам как представителям правительства; его уважение к муниципальным вольностям; относительная автономия общин, – то мы отметим все главные черты теории государства как такового. Нам останется только выяснить природу отношений государств друг к другу и к мировому Духу.
Каждое государство по отношению ко всем остальным независимо, суверенно. Высшим доказательством суверенитета государств служит война [528]528
Rechtsphilosophie, § 321–329.
[Закрыть]. Во время войны государство достигает своей «идеальности», потому что именно в это время жизнь и собственность граждан, как то и должно быть, оказываются явно подчиненными сохранению «общей субстанции» [529]529
Philosophie des Geistes, § 547.
[Закрыть]. Война имеет в глазах Гегеля и другие достоинства, и он горячо восхваляет ее красоту и моральное величие.
Этот взгляд, впрочем, вполне соответствует принципам его системы. Государство представляет силу. Следовательно, оно может и должно пользоваться силой для своего поддержания и расширения. Таковы единственные цели, которые Гегель приписывает государству, очевидно возвращаясь в данном случае к реализму, господствовавшему до французской революции. Войны, предпринимаемые во имя цивилизации, прогресса и справедливости, не находят места в его системе; в нее входят только те, которые объясняются интересами государства, подвергающегося «угрозам или ущербу». Гегель мимоходом осмеивает мирные договоры «на вечные времена» [530]530
Philosophie des Geistes, § 548. См. также Rechtsphilosophie, § 330–339.
[Закрыть]. Опять-таки вместе с политиками старого порядка он полагает, что договоры, по существу своему, должны быть временными и что их можно нарушить во имя того же самого государственного интереса, во имя которого они были заключены.
Войны приносят одним государствам гибель, другим – усиление; это необходимо и разумно, как и все существующее. Государство, которое должно победить, выходит победителем; которое должно погибнуть – гибнет. В каждый исторический момент, т. е. в каждую фазу развития Идеи, какой-нибудь один народ является ее представителем. И пусть он торжествует: все прочие народы бесправны перед ним [531]531
Rechtsphilosophie, § 340–342.
[Закрыть]. Восток, Греция, Рим по очереди были представителями Идеи в мире. Как известно, Гегель полагал, что наступил, наконец, черед и для германской расы. Так его философия истории сливается в одно русло с его политической философией. Так он дополняет и исправляет учение исторической школы, вводя целесообразность в самую эволюцию.
Хотя Гегель и не совсем еще порывает с философами XVIII века, хотя он разделяет их веру в законодательство и склонность к априорным методам, тем не менее он является выразителем реакции против наиболее дорогих им идей: общественного договора и естественного права.
Его разносторонний ум объединяет и сливает воедино все формы реакции против этих принципов. Подобно теократам, он поддерживает мнение, что человек не способен создать конституции и что никогда не существовало народа, у которого бы ее не было [532]532
Rechtsphilosophie, § 273. См. также Philosophie des Geistes, § 541; примечание.
[Закрыть]. Подобно Бентаму, он отказывается видеть в политической свободе цель человеческой ассоциации [533]533
Philosophie des Geistes, § 540.
[Закрыть]. Подобно Бентаму и теократам, он восстает против теории права в духе Руссо и Канта. Он отвергает идею естественного права в том ее понимании, что «правовые нормы существуют столь же непосредственно, как явления природы» [534]534
Ibid, § 503; примечание.
[Закрыть]. Он отвергает взгляд, что естественное состояние выше социального. Единственное известное ему естественное состояние представляет из себя царство жестокости и несправедливости. Право появляется только в социальной жизни.
Но каким же образом Гегель понимает право, раз он отрицает его как атрибут моральной личности? Право, о котором он говорит и которое называет «свободной волей», есть объективная воля, стоящая выше воли индивидуальной, движущая ею и определяющая ее [535]535
Rechtsphilosophie, § 27–35.
[Закрыть]. Таким образом, встречающиеся у Гегеля слова «право» и «воля» получают далеко не тот смысл, какой они имели в XVIII веке. Право индивидуума заключается в исполнении долга; свобода – в подчинении объективной воле [536]536
Philosophie des Geistes, § 539.
[Закрыть]. Этого требует диалектический метод, представляющий нам идеи в состоянии непрестанного метаморфоза.
Подобно исторической школе, Гегель считает государство организмом, а развитие государства – органическим [537]537
Ibid, § 539.
[Закрыть]. Руссо и Кант, по мнению которых политическое общество слагается из индивидуальных единиц, не способны объяснить господствующего в нем порядка, иерархии частей, функций и пр. Но если общество представляет собою не сумму значительного числа единиц, а живое существо, если оно развивается по тем же законам, как живое существо, то индивидуум становится частью целого – частью, которая заимствует у целого его основные черты. В самом деле, если индивидуум не чистая абстракция, а конкретное, реальное существо, то он принадлежит известной эпохе, расе и среде и находится под их сильным влиянием. По большей части он – продукт этих разнообразных влияний. Однако мы этим не умаляем значения личности: разве великие люди не являются лучшими представителями своей страны и эпохи?
Подобно всем противникам XVIII века и французской революции, Гегель полагает, что яне должно и не может быть центром, принципом и целью существующего. Он даже придает этой идее метафизическое значение, которого она не имела у его предшественников. Когда Бональд говорил: «Пора создать психологию жы», он просто хотел отметить тесную связь между людьми, обмен влияний, происходящий между членами одного общества. Гегель уже не занимается ни психологией мы,ни психологией я:его исходный пункт – абсолютный Дух.
Путь, на который он вступил, был подготовлен его предшественниками.
Доведя до крайности в своих первых политико-философских сочинениях веру в индивидуальное я, Фихте был принужден в самом яконстатировать наличность высшего начала. Он возвысился до идеи абсолютного и живого Я и составил себе представление о государстве, во всех отношениях противоположное тому, какое мы находим у него в Рассуждениях о французской революции [538]538
Cp. Der Geschlossene Handelsstaat (1800) и позднейшие политические сочинения Фихте.
[Закрыть].








