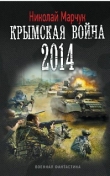Текст книги "Ясность"
Автор книги: Анри Барбюс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
* * *
Прошло много времени. Вот уже десять лет, как я женат. За этот период не было ни одного памятного события, если не считать разочарования, пережитого нами после смерти богатой крестной матери Мари, не оставившей нам никакого наследства. Или вот еще: лопнуло предприятие Покара, – оно оказалось просто мошенничеством и поглотило последние гроши многих бедняков. Политиканы раздули скандал, а кое-кто поспешил отнести свои сбережения г-ну Булаку, предприятие которого было солиднее и надежнее. И наконец, болезнь и смерть моего тестя; это было большим ударом для Мари, и мы надели траур.
Я не изменился. Но Мари изменилась: она пополнела, расплылась, у нее утомленные глаза, красные веки, и она становится все молчаливее. Между нами нет больше согласия в житейских мелочах. Когда-то у нее был для меня один ответ: «Да», – теперь же первое ее побуждение на все сказать: «Нет». Если я настаиваю, она защищает свои позиции, слово за слово, резко и часто недобросовестно. Слышал бы кто, какой крик мы подняли по поводу перегородки в нижней комнате, наверное, подумал бы, что у нас скандал. После таких стычек лицо Мари становится замкнутым, враждебным, или она смотрит, как мученица, и минутами мы чувствуем друг к другу ненависть.
Часто она совершенно невпопад говорит:
– Будь у нас ребенок, все шло бы по-иному!
Я распустился, меня одолевает лень, бороться с которой у меня нет охоты. Если мы одни, я сажусь иногда за стол, не вымыв руки. Со дня на день, из месяца в месяц я откладываю посещение зубного врача, не лечу зубы, и они портятся.
Мари не проявляет ревности. Она ни разу даже не намекнула на мои любовные похождения. Доверчивость ее, право, чрезмерна! Видимо, Мари не очень проницательна, или я не очень много для нее значу, и я ставлю ей в вину это равнодушие.
Теперь я вижу вокруг себя женщин, слишком молодых для меня. Самое серьезное препятствие – разница лет – начинает отделять меня от возлюбленных. А я еще не насытился любовью, и меня влечет молодость! Марта, моя молоденькая свояченица, как-то сказала мне: «Вам-то, старику…» Этот наивный приговор, который мужчина тридцати пяти лет слышит от девочки пятнадцати лет, едва расцветшей и не искушенной жизнью, – первое предостережение судьбы, первый хмурый день в разгаре лета, напоминающий о зиме.
Однажды вечером, войдя в комнату, я увидел Мари, прикорнувшую у окна. Как только я вошел, она встала. Марта! Свет луны, бледный, как утренняя заря, обесцветил золотистые волосы девушки и улыбку ее подменил резкой гримасой; игра отражений безжалостно сморщила кожу на ее шее, на юном лице; и даже глаза у нее были влажные – она зевнула, и веки на секунду покраснели и припухли.
Сходство сестер меня мучило. Молоденькая Марта, яркая и привлекательная, с блестящими глазами, розовыми теплыми щеками и сочным ртом – эта девушка-подросток в короткой юбке, широкобедрая, с округлыми икрами, вызывает волнующий образ прежней Мари. Это какое-то ужасное откровение. И верно, Марта больше, чем сейчас сама Мари, похожа на ту Мари, которую я когда-то любил; она пришла когда-то из неизвестности, и однажды вечером я увидел ее на скамье под розовым кустом, безмолвной и просветленной перед лицом любви.
Мне стоило больших усилий удержаться от жалкой и напрасной попытки сблизиться с Мартой. Несбыточная мечта, сон в снах! У нее была любовь с мальчиком в переходном возрасте, немного потешным; иногда он, как тень, следовал за ней. И однажды она пела, потому что ее юная соперница была больна. Я чужд ее детской победе и ее мечтаниям, как будто я ей враг! В то утро, когда она в венке из цветов, смеясь, топталась на пороге дома, она показалась мне существом с другой планеты.
* * *
В один из зимних дней, когда Мари не было дома, разбирая бумаги, я нашел письмо, написанное мною, но не отправленное, и бросил в камин этот бесполезный документ. Вечером Мари, вернувшись, села перед камином в темной комнате и, чтобы обсушиться, начала разжигать огонь; листок, лишь наполовину обгоревший, снова вспыхнул. И в темноте пламя вдруг осветило клочок бумаги с обрывком моего письма: «Я люблю тебя так же, как ты меня…»
И эти пылающие в темноте строки были так понятны: не стоило даже пытаться как-нибудь их объяснить.
Мы не осмеливались заговорить, не осмеливались глаз поднять. Роковая общность мыслей, захвативших нас в эту минуту, заставила нас отвернуться друг от друга, хотя в комнате было совсем темно. Мы бежали от истины. При первом же испытании мы оказались чужими, потому что никогда не пытались узнать друг друга. Мы все здесь смутно разобщены, но особенно далеки мы от своих близких.
* * *
После всех этих событий мое прежнее существование все же как-то наладилось. Не могу сказать, что я так же несчастлив, как те, у кого кровоточит рана непоправимой утраты или угрызений совести, но я не так счастлив, как мечтал в юности. Да, любовь мужчин и красота женщин слишком недолговечны, и все же – не единственная ли это радость, которой живем и мы я они? Любовь – чувство такое светлое, единственное, ради которого только и стоит жить, а можно подумать, что оно преступление: ведь рано или поздно за него всегда несут кару. Я не понимаю. Все мы жалкие люди, и вокруг нас, всюду и во всем – в наших поступках, в наших стенах, в наших днях, засасывающая посредственность. Рок – серого цвета.
Между тем положение мое упрочилось и стало постепенно улучшаться. Я получаю триста шестьдесят франков на заводе, имею долю в прибылях – около пятидесяти франков в месяц. Вот уже полтора года я не прозябаю в маленькой стеклянной клетке, вместо меня там сидит г-н Мьельвак, – он тоже пошел в гору. Случается, мне говорят: «Вам везет». Когда-то я завидовал многим людям, теперь завидуют мне. Сначала я удивлялся, затем привык.
Я пересмотрел свои политические взгляды и выработал разумный и естественный план действий. Я считаю, что должен заменить Крийона в муниципальном совете. Рано или поздно так это и будет. Я становлюсь человеком с положением, в силу вещей, незаметно для самого себя; и все же я никому по-настоящему не нужен.
Часть моей жизни уже прошла. Порой я над этим задумываюсь, дивлюсь числу умерших дней и лет. Как быстро пролетели годы, а в сущности, нет больших перемен. И я отворачиваюсь от этого видения, и реального и непостижимого. Все же, помимо моей воли, будущее встает передо мной как нечто законченное. Оно будет похоже на прошлое; оно уже похоже. Я вижу всю свою жизнь, от начала до конца, вижу все, что я есть, все, чем я буду.
VIII
ГЛАШАТАЙ
Во время больших маневров в сентябре 1913 года Вивье был центром крупных операций. Наш округ стал похож на сине-красный муравейник, и все были воинственно настроены.
Один только Брисбиль, как водится, критикует все. С высоты холма Шатенье мы наблюдаем за стратегическим развертыванием фронта; Брисбиль показывает рукой на военный муравейник внизу:
– Маневры? Да на что это похоже? Можно лопнуть со смеху! Красные кепи вырыли окопы, а кепи с белыми кантами засыпали их. Уберите военный совет, что останется? Ребяческая игра.
– Это война! – объясняет какой-то важный военный корреспондент, стоящий рядом с нами.
И, обращаясь к своему собрату, он что-то говорит ему о русских.
– Русские!.. – вмешался Брисбиль. – Вот погодите, когда у них будет республика…
– Наивный человек, – улыбается журналист.
Но алкоголик уже сел на своего конька.
– Война или не война, – а разве это не сумасшествие? Вы только посмотрите, посмотрите на эти красные штаны! Ведь их видно за сто километров. Вырядили солдат словно для того, чтобы легче было в них целиться. Хорош защитный цвет!
– Отменить красные брюки наших солдатиков! – возмущается какая-то дама. – Да это же вздор! Это невозможно! Они и сами не захотят. Они взбунтуются!
– Еще бы! – поддакивает молодой офицер. – Нам всем пришлось бы подать в отставку! Да к тому же красные брюки не так опасны, как вы думаете. Если бы они действительно так бросались в глаза, высшее командование предусмотрело бы это и издало приказ об изменении цвета военной формы; конечно, походной, а не парадной.
– В день реванша, – язвительно говорит, обращаясь к Брисбилю, учитель фехтования в чине унтер-офицера, – придется нам защищать таких, как вы!
Брисбиль в ответ бурчит что-то невнятное, ведь учитель фехтования атлет и человек несдержанный, особенно на людях.
Генеральный штаб обосновался в замке. В поместье по этому случаю устраивались охоты, скакали пестрые кавалькады. Среди генералов и знати блистал австрийский принц, принц крови, носивший одно из громких имен «Готского альманаха»; он прибыл во Францию официально на маневры.
Пребывание у баронессы гостя чуть ли не императорской фамилии наложило на округ торжественный отпечаток исторического прошлого. Имя принца твердили все. Окна его комнат на главном фасаде замка притягивали все взгляды. Малейшее движение занавесей на этих окнах радовало. По вечерам обыватели со своими семьями приходили из нашего квартала и подолгу стояли перед стенами, за которыми он жил.
Мы с Мари два раза видели его вблизи.
Однажды вечером, после обеда, мы встретились с ним, как встречаются с любым прохожим. Он шел один. На нем был широкий серый непромокаемый плащ. Фетровая шляпа с коротким пером. У него были характерные черты его рода: нос клювом, покатый лоб.
Когда он прошел, мы, чуть растерявшись, сказали в один голос:
– Орел!..
* * *
Мы снова увидели его после охоты с борзыми. В Мортейском лесу травили оленя. Последний акт охоты разыгрывался на лужайке парка, возле ограды. Баронесса – она никогда не забывала о народе – приказала распахнуть калитку, чтобы люди могли войти и полюбоваться зрелищем.
А зрелище было подготовлено мастерски: темно-зеленая арена в вековом лесу. Сначала видны были только громады деревьев; величественные вершины их, как шатры и горные пики, уходили в поднебесье, отбрасывая на лужайку зеленоватую тень.
Среди торжественного величия природы, словно игрушечная, на траве, на мху и валежнике вокруг места казни животного расположилась блистательная толпа.
Животное лежало на коленях, обессиленное. Люди толкались, вытягивали шеи, и все взгляды были устремлены на него. Нам виден был серый куст его рогов, длинный высунутый язык и весь профиль его истерзанного тола, содрогавшегося от бурных ударов сердца; прижавшись к нему, лежал его детеныш, истекая кровью.
Вокруг лужайки, в несколько рядов, расположились зрители. Шеренга егерей была резким красным мазком среди зеленых и ржавых красок. Охотники, мужчины и женщины, в красных камзолах и черных невысоких цилиндрах, сойдя с лошадей, стояли особняком. Поодаль, скрипя кожей сёдел и позвякивая металлическим набором сбруи, фыркали лошади, верховые и в упряжи. А дальше, на почтительном расстоянии за канатом, натянутым на колья, росла толпа любопытных.
Лужа крови возле оленя-детеныша все ширилась, и дамы-охотницы, подходя к нему, приподнимали юбки амазонок, чтобы их не запачкать.
Олень-самка, разбитый усталостью, все ниже опускал ветвисторогую голову, вздрагивая от лая собак, которых с трудом сдерживали егеря; прижавшись к матери, умирал ее детеныш с зияющей раной на шее, и зрелище это было бы трогательным, если бы дать волю чувствительности.
Ожидание неизбежною убийства животного вызывало, я заметил, какое-то странное, лихорадочное возбуждение. Женщины и особенно девушки, взволнованные, радостные, расталкивали толпу локтями, чтобы лучше видеть.
Оленей, большого и маленького, закололи среди тишины, глубокой и торжественной тишины мессы. Г-жа Лакайль дрожала; Мари была спокойна, но глаза ее блестели, а маленькая Марта, уцепившись за меня, вонзила мне ногти в руку.
Принц был неподалеку от нас. Он тоже смотрел последний акт охоты. Но он не сошел с коня. Красный камзол на нем был ярче, чем на других, точно пурпур тропа бросал на него свой отблеск. Он говорил громко, как человек, который привык повелевать и любит поговорить. Даже в его осанке было нечто властное. Он блестяще изъяснялся на нашем языке и знал все его тонкости. Я слышал, как он сказал:
– Большие маневры, в сущности, – комедия. Война в инсценировке режиссеров мюзик-холла. Охота лучше, тут я вижу кровь. В нашу гуманитарную, прозаическую и плаксивую эпоху – это редкость. И пока народы будут любить охоту, я не перестану в них верить.
В эту минуту звук рогов и лай спущенных борзых заглушили все. Принц привстал на стременах; он возвышался над сворой окровавленных и пресмыкающихся собак; он высоко поднял надменную голову, его рыжие усы топорщились, ноздри раздувались: он, казалось, вдыхал запах полей сражений.
На другой день нас собралось несколько человек на улице возле расколотой тумбы, где лежит старая жестянка из-под консервов, как вдруг появился Бенуа, – с новостями, конечно. Речь идет, само собой, о принце. Бенуа захлебывается, губы его дрожат.
– Он убил медведя! – сказал он, сверкая глазами. – Ах, надо было это видеть!.. Ручного, понятно. Вы только послушайте: возвращается он с охоты, ну, понятно, с маркизом, мадемуазель Бертой, со свитой. И вдруг навстречу вожак с медведем. Черный мужчина, волосатый, будто в перьях, а медведь садится на задние лапы и начинает свои фокусы, а сам в поясе. Принц был с ружьем. Не знаю, что ему вдруг взбрело в голову, только он говорит: «Я хочу убить этого медведя, как у нас на охоте. Послушайте-ка, любезный, сколько вам заплатить за вашего зверя? Вы, говорит, не прогадаете, ручаюсь». Тот человек даже задрожал, всплеснул руками. Он любил медведя. «Медведь, говорит, для меня все равно что брат». Догадайтесь-ка, что сделал маркиз де Монтийон? Господин маркиз вытаскивает бумажник, открывает и тычет в лицо этому типу. Ну, и потешались же над беднягой все эти знатные господа охотники. Ведь он даже в лице изменился, как увидел столько бумажек. Ну, понятно, он потом согласился, молча махнул рукой и даже плакать перестал, засмеялся, – столько было денег! Тогда принц прицелился и наповал убил медведя, в десяти шагах, в ту самую минуту, когда мишка сидел и раскачивался вправо-влево, ну, точь-в-точь человек! Надо было это видеть! Немногим посчастливилось. Я-то видел!
Рассказ произвел впечатление. Сначала все молчали. Потом кто-то несмело сказал:
– Да, таков, верно, у них обычай в Венгрии или Богемии, где он там правит. – И простодушно добавил: – У нас это бы не прошло.
– Он из Австрии, – поправил Тюдор.
– Это не важно, – пробормотал Крийон. – Из Австрии ли он, венгерец ли, богемец ли, все же он высокого звания, и, значит, в его власти делать то, что он хочет, не так ли?
Эйдо, видимо, хотел что-то сказать и подыскивал слова, – этот юродивый когда-то подобрал и выходил лань, раненную на одной из охот и убежавшую от смерти (поступок его разгневал высшие сферы). Но он и рта не успел раскрыть, на него зашикали: какой-то Эйдо будет судить принцев крови!
И другие, по углам, притихли, качали головой и бормотали:
– Он высокого звания…
И эту короткую фразу повторяли шепотом, робко, почти неслышно.
* * *
Большинство именитых гостей прожило в замке до праздника всех святых. Из года в год день этот по традиции отмечается у нас пышной церемонией. В два часа весь город, с цветами, собирается на площади или возле кладбища на холме Шатенье: месса и все торжество происходят под открытым небом.
Я пошел туда с Мари в первом часу. Я надел узорчатый, черный с белым, жилет и новые лакированные башмаки, на которые часто поглядывал. Ясный, чудесный день. Звонят колокола. Толпы народа стекаются к холму со всех сторон: крестьяне в поярковых низких шляпах, принаряженные семьи рабочих, молодые девушки, – белые лица их, как атлас подвенечного платья цвета их мечтаний, – юноши с горшками цветов. Весь этот мир устремляется к площади, где седеющие липы как будто тоже собрались на празднество. Детишки садятся на траву.
Господин Жозеф Бонеас, весь в черном и, как всегда, весьма изысканный, проходит под руку с матерью. Я низко им кланяюсь.
– Национальный праздник! – говорит он, указывая на открывающееся перед нами зрелище.
Слова эти заставляют меня внимательнее отнестись к тому, что я вижу, к этому мирному и сосредоточенному оживлению среди ликующей природы. Размышления и жизненный опыт придали зрелость моему уму. В мозгу моем наконец выкристаллизовалось представление о каком-то единстве, о массах, необъятных в пространстве и бесконечных во времени, о массах, частицей которых я являюсь; сформировав меня по своему подобию, они оберегают это сходство и увлекают меня за собой: это – свои.
Баронесса Грий в амазонке, в которую она облекается, когда снисходит до общения с народом, стоит у величественных ворот кладбища. Рядом с ней красуется маркиз де Монтийон: статный, лицо породистое, крепкое тело спортсмена, манжеты ослепительные, башмаки редкостные; он шлет улыбки направо-налево. Поодаль депутат, бывший министр, весьма угодливо разговаривает с дряхлым герцогом; господа Гозлан и другие важные особы, имена которых нам неизвестны, – академики, члены прославленных научных обществ или богачи-миллионеры.
Господин Фонтан стоит в стороне от этой группы, огражденной от всех ярко-красным барьером егерей, поблескивающих перекинутыми через плечо цепями от рогов. Толстый виноторговец и содержатель кофейни занимает обособленное, промежуточное место между знатью и народом. У него бледное, жирное лицо, подбородок многоярусный, как живот у Будды. Безмолвный, неподвижный монумент. Невозмутимый, он то и дело плюет, и плевки его лучами разлетаются во все стороны.
На это торжество, подобное апофеозу, собралась вся городская знать и вся беднота рабочего квартала – такие различные и такие одинаковые.
Знакомые лица. Проходит сторонкой Аполлии. Она приоделась. Надушилась одеколоном. Глаза у нее живые, лицо чисто вымыто, уши красные. Все же она грязновата, и руки у нее цвета коры, но она в нитяных перчатках. Тени на картине: Брисбиль со своим кумом, браконьером Термитом; всем своим растерзанным, непристойным видом пьяница выражает протест. А вот еще темное пятно: жена рабочего, она выступает на митингах, и все на нее указывают пальцем.
– А эта еще зачем сюда явилась?
– Она не верит в бога, – говорит кто-то.
– Это оттого, что у нее нет детей! – кричит женщина.
– Что вы, у нее двое ребятишек.
– Ну, значит, они никогда не болели, – отвечает женщина.
А вот и Антуанетт! Старичок кюре ведет ее за руку. Ей, должно быть, уже лет пятнадцать – шестнадцать, но она не выросла, по крайней мере этого не замечаешь. Аббат Пио все такой же белый, кроткий и, как всегда, что-то бормочет, но он стал меньше ростом, он все ближе и ближе к могиле. Оба идут мелкими шажками.
– Говорят, ее вылечат. За нее взялись серьезно.
– Да… говорят, будто на ней хотят испробовать какое-то новое, никому не известное средство.
– Нет, нет! Уже не то. Приезжий врач, который здесь поселился, берется ее вылечить.
– Бедный ребенок!
Девочку, почти слепую, знают лишь по имени, но здоровье ее вызывает столько забот. Она проходит мимо нас, у нее такое каменное лицо, как будто она глухонемая и не слышит всех этих добрых слов.
После мессы кто-то выходит и произносит речь. Это старик, кавалер ордена Почетного легиона, у него слабый голос, но внушительное лицо.
Он говорит об умерших, памяти которых посвящен этот день. Он разъясняет, что мы не разлучены с ними: не только в жизни будущей, как учит церковь, но и в нашей земной, которая должна быть продолжением жизни усопших. Надо делать то, что они делали, надо верить в то, во что они верили, иначе грозит опасность заблуждений, утопий. Мы все связаны друг с другом, мы связаны прошлым, единством заповедей и традиций. Надо предоставить судьбе, присущей нашей природе, естественно завершаться на предначертанном пути, не поддаваясь искушению новизны, ненависти и зависти, особенно – зависти, этого социального рака, врага великой гражданской добродетели: покорности.
Он умолкает. Отголосок высоких, прекрасных слов реет в тишине. Не все понимают сказанное, но все глубоко чувствуют, что речь идет о простоте, благоразумии, покорности, и головы дружно качаются от дыхания слов, словно колосья от ветра.
– Да, – говорит Крийон, задумавшись, – господин этот владеет словом! Ты только подумаешь, а у него уже на языке. Здравый смысл, уважение – вот что сдерживает человека!
– Человек сдерживает порядок, – говорит Жозеф Бонеас.
– Ну, само собой, – поддакивает Крийон, – недаром же об этом все твердят.
– Понятно, – соглашается Бенуа, – раз все это говорят и все повторяют.
Старый кюре в кругу внимательных слушателей поучает.
– Би, – говорит он, – не надо кощунствовать. Вот если бы не было бога, можно было бы многое сказать, но раз господь существует, значит, все идет прекрасно, как говорил монсеньер, – хвала богу! Улучшения будут, успокойтесь. Нищета, общественные бедствия, война – все это изменится, все уладится, эх, би! Предоставьте это дело нам. Не вмешивайтесь, дети мои, вы только все испортите. Мы сумеем без вас все сделать, потерпите.
– Да, да! – вторят ему хором.
– Сделаться счастливым, так вот, сразу, – продолжает старик, превратить горе в радость, бедность в богатство! Да ведь это же немыслимо! И я вам скажу почему: если бы это было так просто, все уже давно было бы сделано, не правда ли?
Зазвонили колокола. Часы пробили четыре. И казалось, что церковь, уже подернутая туманом, с колокольней, еще не тронутой сумраком, поет и говорит одновременно.
Знатные особы садятся на лошадей или в экипажи и уезжают; кавалькада пестрит яркими мундирами, блещет золотом шитья и галунов. Группа этих властелинов сегодняшнего дня вырисовывается на гребне холма, над могилами наших мертвых. Всадники подымаются на вершину и исчезают, один за другим, а мы спускаемся; но в сумерках – они вверху, а мы внизу – образуем одну и ту же темную массу.
– Как красиво! Они точно скачут на нас, – говорит Мари.
Они – блистательный авангард, наши защитники, за ними силы прошлого, они олицетворяют ту вечную форму, в которой замкнута родина, ее блеск, они поддерживают и охраняют ее от внешних врагов и революции.
А мы – мы все похожи, невзирая на разность наших душ, похожи величием общих интересов и даже самим ничтожеством личных целей. Я все яснее вижу за всеобъемлющей и почтенной иерархией тесное единение масс. Это приносит какое-то горделивое утешение, это касается каждого существования, подобного моему. И в этот вечер, на закате солнца, я читаю все своими глазами, и я восхищен.
Мы спускаемся все вместе вдоль полей, где колосятся мирные хлеба, вдоль огородов и садов, где родные деревья гнутся под тяжестью плодов: ароматный цветок распускается, зреет плод. Поля раскинулись необозримой отлогой степью с бурыми холмиками, и зеленеет теперь лишь одна лазурь. Девочка идет от водоема; она поставила ведро на землю и, как столбик, стоит у дороги, тараща глазенки. С веселым любопытством смотрит она на движение толпы. Всем своим маленьким существом охватывает она это великое множество, потому что все это в порядке вещей. Крестьянин работает, невзирая на праздник, – согбенный над глубоким мраком пашни; он отрывается от земли, на которую похож, и обращает к этому золотому диску свое лицо.
* * *
Но кто этот человек, кто этот сумасшедший? Он стоит на шоссе и как будто хочет один преградить дорогу толпе. Ну конечно, Брисбиль, пьяный, топчется впотьмах. Движение, гул голосов.
– Сказать, куда все это ведет? А? – кричит он, и слышно только его одного. – В пропасть! Все это ваше общество – старье, гниль! Одни – дураки, другие – прохвосты! В пропасть, говорят вам! Завтра… Берегитесь! Завтра!..
Из мрака растерянный голос женщины вопит:
– Замолчите, злой человек! Нам страшно!
Но пьяница орет во всю глотку:
– Завтра! Завтра! Думаете, все так и останется навсегда? Убить вас мало. В пропасть!
Испуганные люди исчезают в темноте. Другие толпятся вокруг одержимого, ворчат:
– Он не просто злой, он сумасшедший! Ну и скотина!
– Какой позор! – говорит молодой викарий.
Брисбиль направляется к нему.
– А скажи-ка ты, что нас ждет? Иезуит, петрушка, крючкотвор! Знаем мы тебя, отравитель, и твои грязные шашни!
– Повторите!
Это крикнул я. Бросив руку Мари, рывком, не помня себя, очутился я перед этим чудовищем. И на этом клочке поля глубокая тишина сменила ропот возмущения. Брисбиль ошеломлен, лицо посерело от испуга, он спотыкается, пятится.
Вздох облегчения, смех, поздравления, похвалы мне я ругательства вдогонку человеку, потонувшему в темноте.
– Как ты был хорош! – говорит мне Мари, когда я, вздрагивая от волнения, снова взял ее под руку.
Я вернулся домой возбужденный, гордый своим энергичным поступком, радостный. Во мне заговорил голос крови. Великий первобытный инстинкт заставил меня сжать кулаки, бросил меня, как оружие, против общего врага.
После обеда я пошел, разумеется, на вечернюю зорю; обычно, по непростительному равнодушию, я не присутствовал на ней, хотя эти патриотические манифестации были организованы Жозефом Бонеасом и его обществом «Реванш».
Яркая, шумливая процессия потянулась по главным улицам, распаляя, особенно в молодежи, энтузиазм ради великих и славных подвигов будущего. В первом ряду шагал Керосинщик, высоко выбрасывая ноги, и блики красных фонариков, казалось, одевали его в красный фантастический мундир.
Помню, в тот вечер я много говорил и на улицах и дома. Квартал наш похож и на все города, и на все деревни, и на все, что видишь всюду. В малом – это образ всех человеческих обществ старой вселенной, как моя жизнь – образ каждой жизни.