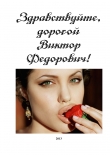Текст книги "Повесть о Дракуле-воеводе (СИ)"
Автор книги: Аноним Марита
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Марита:
Повесть о Дракуле-воеводе
Аннотация:
Написано на внеконкурс СК-6. Альтернативная история.
Был в Мунтьянской земле воевода,
христианин греческой веры,
имя его по-валашски Дракула,
а по-нашему – Дьявол…
(“Сказание о Дракуле-воеводе”, Федор Курицын)
1
Лето 6985-е от сотворения мира
Серое, дождевыми тучами набухшее небо выплюнуло стаю ворон. Черное, суетливое мельтешение над головой, черная грязь под конскими копытами… когда землю вновь выбелит снег, скроет голые ветви кустарника и жухлые проплешины травы у дороги, окрестности Тырговиште будут выглядеть куда как поприличнее, внезапно подумалось Владу.
Мерное покачивание в седле убаюкивало, конь шел не торопясь, словно сберегая силы для предстоящих походов, и Влад не понукал его, ехал, ослабив поводья, всматриваясь в далеко-серые, проглядывающие сквозь тучи башни Тырговиште на горизонте, и блеклое, пестрящее воронами небо роняло на круп коня его мерзлые дождевые капли. Осень на изломе нарождающейся зимы, бесприютное, мертвое время… и почему мысли о собственной смерти лезут в голову так настойчиво и часто?
– Господин мой, добрый, великодушный господин! – бросившись из-за деревьев наперерез его коню, она повисла на поводьях – цыганка в раздражающе-пестром, скомканном на затылок платке, и смуглое, в грязных потеках лицо ее кривилось гримасою плача. – Помилуй моего Гицэ, он голодный был, он взял, не подумав!
В рощице напротив полным ходом шли приготовления к казни – один из дружинников деловито приматывал петлю к толстому корявому суку, другой же – цепко держал за плечи тощего, понурого цыганенка в разодранной ярко-красной рубахе. Он поднял голову, безучастно скользнув глазами по Владу, и тотчас же опустил обратно, уставившись в серый вытоптанный пятачок земли под ногами его.
– Гицэ мой глупый, стащил лепешку у господ, когда господа обедать изволили! Гицэ не хотел воровать, голод заставил! – резкий, вороний голос цыганки царапал слух, бились по ветру – туда-сюда – распахнутые крылья шали. – Единственный сын у меня Гицэ… Прости, господин!
– Чтоб я вора да помиловал? Уж не лишилась ли ты рассудка, женщина? Пусти сапог, – Влад вытер со лба мерзлую, щекочущую морось, что щедро сбрасывало на него небо. Холодные слезы осени, последние, прощальные слезы, стынущие в ладонях его… забавно, что, повелевая чужими жизнями, он не в состоянии распорядиться жизнью собственной. Действительно, забавно.
Гицэ подвели к суку. В последний раз вскинув глазами на Влада, он замер, пошатываясь из стороны в сторону, и что-то шептала цыганка, не отпуская стремени, и в колкой, оглушительной тишине Влад услыхал собственный голос:
– Хотя… черт с тобою. Черт с вами со всеми. Эй, всыпьте плетей парню, дабы впредь был умнее, да отпустите! Смотрите, не переусердствуйте только – ледащий он, в чем душа держится! А ты что стоишь? Пошла вон.
– Добрый мой господин, хороший, великодушный господин! Нана хочет отблагодарить тебя, Нана умеет быть благодарной! – тонкие смуглые пальцы цыганки ласкали его сапог, точно змеи, плясали на высокой груди черно-красные бусы, и Влад отчего-то подумал, что она не стара, и совсем не дурна собою, разве что грязна сверх всякой меры, как и все цыгане. Нана улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами, встряхнула черными косами, заголив округлое плечо, и мутная, тяжелая волна желания ударила Владу в затылок, перебивая собой усталость и безразличие, овладевавшие им последние недели.
Он спешился, кинув поводья подоспевшему дружиннику, и пошел за ней, манящей колоколом цветастой юбки, туда, где за черными пиками деревьев скрывалась обтрепанная повозка. Нана скользнула под полог, вытертыми спинами ковров сомкнувшийся за ее спиной, и Влад – нырнул вслед, в темное чрево цыганской кибитки, пахнущей пылью и сушеными травами.
Красные, будто ягодами окрашенные губы впились в его рот, цепляя крючком неосторожную добычу, улавливая в сети – сплетенных рук, распущенных волос, шуршащих юбок… этих бесконечных юбок, которые он отбрасывал одну за другой, пока, наконец, не показались округлые бедра, смуглые, с черным кудрящимся треугольником волос между ними.
Путаясь в тесемке штанов, Влад опустился перед ней на колени – между ее широко раскинутых ног, точно пловец перед последним шагом в топкий, бездонный омут. Нана засмеялась, шепча что-то успокоительное по-цыгански, жаркая, податливо-нежная, и Влад шагнул – будто с обрыва в черным плещущую воду, в мутные, тугие волны, перехлестывающие с головой, и Нана вскрикивала под ним, вжимаясь губами в ворот его рубахи, кошачье впиваясь ногтями в спину, и белым плясали на веках ее пробившиеся под полог дневные лучи…
– Какой же ты ненасытный, мой господин! Будто год как женщины не было! – приподнявшись на локте, Нана пристально смотрела ему в лицо, пока Влад переводил дыхание, унимая в груди бешеное биение сердца, словно после многочасовой скачки. – А ведь я не за этим тебя сюда позвала! Помочь тебе хочу, ангела смерти от тебя отвести, как отвел ты его от моего Гицэ.
Из-под вороха пестрых юбок она извлекла потрепанную карточную колоду в клетчатой синей рубашке. Замерла, сосредоточенно тасуя, затем протянула Владу.
– Тяни. Сам свою судьбу увидишь.
Влад вынул, не глядя, ту, что попалась под руку первой, спрятавшись под надкусанным цыганкиным ногтем. В грязно-коричневой, траурной рамке качало ветвями дерево, а на суку его – висел кверху ногами казненный в пестрой цыганской одежде, черными волосами цепляя травинки. По белому небу плыли серым нарисованные облака, а в промежутке их – вставали замковые башни.
– Повешенный выпал. Дурная карта, недобрая, сам видишь. Ангел смерти у тебя за спиной, близко стоит, и коса у него в руках остро заточенная. Взмахнет косою – и покатится твоя голова… А я научу тебя, что делать, чтобы его обмануть! – глаза Наны прищурились хитро, по-вороньему, черные космы волос взметнулись, как трава под порывами ветра. – Будет у тебя жизнь долгая, судьба завидная, хорошее о тебе скажут люди, как в могилу сойдешь… Дай сюда руку!
Влад протянул ей ладонь и едва не отдернул, когда острая, как вороний клюв, стальная игла вошла в его палец, расклевывая до крови. Нана прикусила зубами кожу, слизывая темно-бурые капли, затем – капнула крови на карту, заливая лицо повешенного густыми, тяжелыми брызгами. Затем – поднесла свечу, одиноко чадящую в подсвечнике в самом углу кибитки, и пламя тотчас же оживилось, вгрызаясь в бумагу черными, подгнившими зубьями, сжирая собой дерево и облака, остроугольные башни и красным залитое лицо казненного.
– Мертвому – крест и домовина, живому – корона и меч… уйди, Самаэль, от раба божьего Влада, закрой глаза свои, не смотри на него… время его еще не скоро… не торопись, Самаэль… смотри в другую сторону… и ты смотри, господин мой! – Нана ткнула ему свечою едва ли не в лицо, заставив отшатнуться. – Смотри внимательнее, кого видишь?
Сквозь красным пляшущие перед глазами пятна Влад видел – черные силуэты всадников на быстрых конях, зыбкие, тающие в пламени свечи, и в золотом сиянии между ними – их предводитель, скачущий, взмахивая саблей, куда-то вперед. Влад прищурился, всматриваясь в блеклое марево морока – на него смотрел Штефан, брат его, беспечно смеющийся Штефан, спешащий на выручку к нему во главе своего небольшого отряда. Слишком небольшого, чтобы…
Влад тряхнул головой, отгоняя внезапно подступившую дурноту.
– Глупости говоришь, женщина, не верю я в эту бабью чепуху. Сколько мне на роду написано – и проживу столько, волею Божьей. Да колдовские картинки свои убери, откуда достала!
Оправляя одежду, он потянулся к выходу, откинул полог. Нана сидела на том же месте, где он оставил ее, скрестив ноги на турецкий манер и монотонно раскачиваясь, полузакрыв глаза. Казалось, она не заметила его ухода, и только когда, выбравшись наружу, он бросил ей золотой дукат, она, собачье оскалившись, швырнула монету обратно, в звонкие придорожные камни, черную осеннюю грязь, выругавшись вслед по-цыгански.
Это показалось ему отчего-то невероятно смешным, и он долго смеялся, вскинув голову к небу, мерзлому позднеосеннему небу в черных вороньих метинах, небу, сыплющему на него дождевую крупу, и на душе его было легко, словно и вправду – точеное лезвие косы ушло от его шеи… но вот над чьею шеей оно теперь занесено – ему не хотелось думать.
***
Снег падал белыми густыми хлопьями, словно ангелы Божьи где-то там, под облаками, теряли перья, сбрасывая вниз, на грешную землю. Укрытые саванно-чистым ковром, дремали поля, и, скованное первым льдом, меж ними лежало озеро, в белых холмиках кустарника на берегу.
– От того, что я задержусь тут еще на неделю, в Сучаве ничего не изменится. Как стояла, так и будет стоять! – Штефан засмеялся, встряхивая головой, дернул поводья, направляя лошадь быстрой рысью, и мелкие снежинки таяли в его волосах, вызолоченных полуденным солнцем, точно облачко нимба – на церковном окладе, острые, колкие стрелы лучей. – Просто мне отчего-то спокойнее, когда я здесь, брат. За тебя спокойней.
Влад опустил голову, всматриваясь – в ровные лунки следов на снегу, в серые, пляшущие под копытами тени, грязным пятнающие безупречно-белую чистоту. “Смотри внимательнее, кого видишь?”
– А мне спокойнее, если ты вернешься в Молдову. Оставь пару сотен своих людей, а с остальными уезжай. С Лайотой, если он имеет безрассудство вернуться, я справлюсь.
Ветер усилился, снег повалил еще гуще, точно ударами плети – по разгоряченным щекам. За белым скрылись озеро и деревья, кирпичные стены Снаговского монастыря и далекое зимнее солнце, бледными лучами своими прорывавшееся сквозь сонмища туч. Черной, ломаной тенью на испепеляюще-белом – Штефан скользил впереди, укрывая лицо в конской гриве от каленого ветра, а за ним вослед – шло его войско, и косматые хлопья снега таяли на пляшущих конских боках, и метель – мертвенно-ледяными пальцами гладила сквозь щели доспехов, и костяным стуком бил грохот копыт по замерзшей земле.
“Не торопись… смотри в другую сторону…”
– Штефан, погоня! – черное, ровное море всадников, колышущееся по равнине, раздвинулось, пропуская вперед дружинника в залепленном снегом шлеме. – Их много, но не более нас… Лайота… это его люди…
– Я как чувствовал, что не зря остаюсь, – Штефан вмиг посерьезнел, тонкое, моложавое лицо его сделалось будто бы старше, перекрестившись на невидимые сквозь снежную пелену монастырские купола, он обратился к спешно перестраивавшемуся войску, вынимая из-за пояса саблю. – А ты отослать меня хотел, за каким-то лядом… эх, Владуц, Владуц…
Войско Лайоты обрушилось на них с очередным порывом метели – белые, припорошенные снегом всадники на хрипящих конях, выныривающие из молочной пелены, стальными лезвиями сабель ловящие блеклые брызги солнечных лучей. Влад потерял Штефана из виду практически сразу, оттесненный к берегу озера, он рубился, едва успевая вытереть пот, заливающий веки щекочущими, солеными струйками, крутясь, парируя, отбивая удары, точеным лезвием сабли – впиваясь в незакрытые шеи, в раззявленные в крике рты, до горячечно-красных брызг на щеках, до мясистого хруста человеческой плоти, распадающейся под ударом его. А когда все закончилось, со стихающей в поле метелью, с облаками, выпустившими на небо важно воссиявшее солнце – Влад нашел его, в красном от крови снегу, в перерубленных крест-накрест доспехах. Белые кружева снежинок на ресницах его не спешили таять, и солнце, плавленым золотом стекавшее по щекам, не заставило Штефана закрыть глаза. Он все так же смотрел в облака, словно бы наблюдая ему одному видимые картины. И Влад бы многое отдал за то, чтобы видеть их сейчас вместе с ним.
– Штефэницэ, брат мой… – опускаясь в снег, с хрустом промявшийся под его доспехом, Влад ладонью закрыл глаза ему, красным пачкая снежно-стынущий лоб, погружая Штефана в темноту и отдохновение. Черная, как смоль, ворона, цыгански-нахальная птица, хлопая крыльями, приземлилась в сугроб в двух шагах от него. Вопросительно каркнув, подошла поближе, и ринулась в сторону, заполошно крича, едва Влад взмахнул на нее рукой. – Что я могу сделать для тебя, более, чем ты для меня сделал?..
И белое, как нетронутый лист бумаги, поле молчало ему в ответ, и тонким шелестом поземки звенело застывшее озеро, и небо, пышущее бронзой и синевой, холодно-далекое небо, вдруг сделалось ближе, накрыло, будто тяжелым куполом, свинцовой могильной плитою пало на грудь. Влад понял, что плачет, так, как не плакал давно, со смерти отца, выплакивая каменно-твердую горечь, скопившуюся внутри, чувствуя, как острая, сабельно-режущая льдышка в груди его истаивает, оставляя после себя мертвенное, снеговое спокойствие.
“Мертвому – крест и домовина, живому – корона и меч… жизнь долгая, судьба завидная…”
…только плата за это будет, увы, высока.
2
Лето 6988-е от сотворения мира
Растекаясь в небе ослепительно-красным, солнце падало за верхушки деревьев, вскинувшими по ветру рыжие знамена листьев – осеннее, закатное воинство. Скоро на небо сойдет чернота, и знамена погаснут, и, обвисшие на потемневших древках, будут стянуты холодом и ночной росою. Тлеющими угольками в золе вспыхнут звезды над лесом, тусклым отблеском серебра замигают в реке, кровью напитанных водах Арджэша, ржаво-рыжих, осенних водах…
– Они уходят, господарь, – Войко подошел откуда-то слева, бесшумно, так, что не хрустнула под сапогом ни единая веточка, вынырнул из темнеюще-закатного леса, встал напротив костра, загораживая собой красно-рыжие всполохи пламени, – точнее, бегут, со всей возможной скоростью, спеша перейти Дунай до наступления ночи. Как будто бы с темнотой наши воины надевают волчиные шкуры, чтобы в очередной раз погрызть овечек Мехмеда! – Он рассмеялся, хриплым, лающим смехом, и впрямь в чем-то напоминавшим рычание волка, закашлялся, зажимая ладонью вмиг порыжевшую под пальцами повязку, досадливо махнул рукою, точно отгоняя назойливую мошкару. – О чем думаешь, Влад?
– Я думаю о том, сколь долгую передышку даст нам Мехмед в этот раз… и сколь много влахов и молдаван встанут под наши знамена, когда эта передышка закончится, – Влад поднялся на ноги, стряхивая грязные кляксы листьев с подола плаща. – Сколько их будет свободно ходить по этой земле, а не лежать под нею?..
Он обвел глазами широкое поле, шуршащее сухою травой, багряное от закатного солнца арджэшское поле, расчерченное угольными силуэтами теней. Поле двигалось, дышало, разрываемое стуком лопат об утоптанно-твердую землю, пахнущее глиной и черноземом, осенне-влажное поле Арджэша, и красные, как свежепролитая кровь, ложились листья на дно могил, и бледно-тонкими, щекочущими краями – падали в лица спящим, врастали в разверстые раны, повязками липли к окровавленным лбам.
– …знаешь, Войко? А я сосчитал их всех – двое из трех, тех, что выгнали янычар Коджи-бея до самых дунайских границ, встанут под наши знамена, когда Мехмед вновь возжелает проверить на прочность валашское войско. Или не Мехмед, а кто-нибудь из его сыновей – неважно… сколько еще продержится Валахия, а вслед за ней – и Молдова, когда никто из государей христианских не спешит оказать нам хоть какой-либо помощи? Вот о чем я думаю, Войко.
– Это напрасные мысли, господарь, а от напрасных мыслей только болит голова, и ничего больше, – в блеклых, выцветших глазах Войко рыжинкой взметнулись язычки костра, точно последний, палый огонек дотлевающих уголий. Грузная, широкая тень его качнулась, переминаясь с ноги на ногу. – Я так себя спрашиваю в таких случаях, когда совсем сомнения забирают – а могу ли я что-либо изменить? Нет – значит, и думать тут не о чем, делай свое дело, и будь, что будет. Вот так я себе говорю, Влад, и сразу легчает. Воины-то наши… да, ныне землепашцами стали, сеют и сеют мертвых в арджэшскую землю, авось что-нибудь да прорастет! Ну вот, уже ты и улыбаешься, господарь, и это хорошо – погоревать мы всегда успеем!
Темные, разлапистые клены качнулись, срывая с верхушек крикливую стаю ворон, и ночь упала с небес вместе с ними, цепляясь за кончики крыльев, накрыла собой холодные воды Арджэша, и поле вкруг него, усеянное разверстыми ртами могил, рассыпалась светлячками в траве, затрещала гремучую песню кузнечиков. Солоновато-горькая, с дымким ароматом костра – ночь, помнящая стук сабель и всхрипы умирающих, хруст разрубаемой плоти и прерывистое конское ржание, звон стрелы, пробивающей щит, и тяжелую барабанную дробь… ночь победы на поле Арджэша, очередной победы господарева войска.
Но сколько еще их будет, этих побед?
***
Красно-бурые, как запекшиеся пятна крови, листья падали под копыта его коня, бархатной ковровой дорожкой выстилая мост – от заросшего зеленью берега рва к другому берегу, где, нахохлившись островерхими башнями, каменными булыжниками стен вцепившись в вершину холма, стоял Корвинешт, родовое гнездо Хуньяди.
Влад дернул поводья, направляя лошадь в галоп, разметывая в стороны листья, золотисто-рыжей поземкой кружащиеся под копытами. Спутники его, скачущие поодаль, тоже прибавили ход, и мост загудел, звонкою барабанною дробью, и в такт ему – заскрипели железные петли, поднимая решетку у входа в замок.
Один за другим, всадники въехали в темную, полуокрывшуюся пасть замковых ворот, и точеные зубья решетки со скрипом сомкнулись за ними, оставляя отряд посреди двора Корвинешта, залитого позднеоктябрьским солнцем, желто-рыжими лоскутьями листьев усыпанного двора.
Влад спешился у крыльца, придерживая ножны, поднялся по ступеням. Матьяш ждал его – за гулкими анфиладами комнат, за резными дубовыми дверями тронного зала, скучающе подперев щеку рукой, король венгерский Матьяш Корвин едва удостоил его взглядом.
– Я слышал, вы неплохо потрепали осман в недавнем сражении, – протянул он склонившемуся в полупоклоне Владу, рассеянно выстукивая пальцами по подлокотнику трона, – Коджа-бей оставил едва ли не половину своего войска на валашских полях, прежде чем понял напрасность своих стараний и повернул домой… Примите мои поздравления, господарь.
– Победа далась нам непростою ценой, – глухо произнес Влад, – и наши потери – каждый третий, ваше величество. Валашские села разорены, сожженная земля не дает урожая. Люди едят мамалыгу на воде вместо хлеба, как в строгий пост…
Матьяш вопросительно приподнял бровь.
– Мой отец служил вашему отцу, – Влад смотрел прямо, не отводя глаз, и взгляд Матьяша дрогнул, заметался, словно у вороватого пасюка, застигнутого в деревенском амбаре, – и я, вступив на престол, поклялся в верности венгерской короне, как все воеводы из рода Мирчи. Крепко помня вассальную клятву, я был врагом врагам вашим, а вот вы забыли ее, ваше величество. Вы отошли в сторону перед лицом османской угрозы, вы не оказываете нам ни малейшей поддержки…
Матьяш с шумом перевел дыхание. Холодное, породистое лицо его пошло багровыми пятнами гнева.
– Нет, это вы забываетесь, господарь, ведя столь неразумные речи перед королевским престолом, – нервно скомкав в пальцах вышитый платочек, Матьяш пристукнул кулаком по подлокотнику трона. – О какой поддержке вы ведете речь? У вас и так достаточно людей, в том числе и тех, что беспрепятственно выделяет вам нынешний господарь Молдовы… Александрел, если мне не изменяет память. Бастард Штефана, усаженный вами на молдавский престол. В отличие от отца, он не жадничает людскими ресурсами… хе-хе… или молодой волчонок вырос и уже показывает зубы?
Влад, остававшийся на почтительном расстоянии, неожиданно шагнул вперед, оказавшись настолько близко, что Матьяш вздрогнул, отпрянув на спинку трона.
– Я верю, что у моего брата Штефана, светлая память ему, были причины поступать так, как он поступал. И я не виню его в том ущербе, что был причинен моему народу его невольным бездействием… чего не могу сказать о вас, ваше величество. Слышал, Его Святейшество выделил деньги вам на крестовый поход против осман, много денег. Достаточно, чтобы…
– Ложь! – выкаркнул Матьяш. – Этих денег я не видел в глаза! И… кто вы такой, чтобы я вообще давал отчет перед вами?! Как вы смеете говорить мне такое?!
– А кто еще, как не я, скажет вам то, что давно уже должно быть сказано? – повинуясь взмаху королевской руки, Влад опустился на колени, уставившись взглядом в узорчатый пол. – Можете отрубить мне язык за недостойные речи, но я скажу. Если бы Валахия и Молдавия своей кровью в очередной раз не остановили осман, если бы, перейдя на сторону Мехмеда, я б дал его войску беспрепятственно пройти по валашской земле – кровью бы захлебнулась земля Трансильвании, земля, испокон веков бывшая под венгерской короной, ваше величество. Воздух ее почернел бы от сожженных османами сел, и прекраснейшие женщины края были бы угнаны в плен, и на невольничьих торгах были бы проданы дети. И когда ваш народ возопил бы о помощи, вы бы вспомнили мои сегодняшние слова, ваше величество… только что толку в том, чего уже невозможно изменить?
– Довольно. Аудиенция окончена, – кутаясь в плащ с меховым подбоем, точно сердитый, нахохлившийся ворон, Матьяш выпрямился на троне, надменно взирая на Влада, – я не желаю больше слышать ваши дерзкие речи. И только милостью моей вы не пойдете сегодня в темницу… обычно я не прощаю сказанного даже в запале… Дорри, Дорри, фью-у!
Он свистнул, оборотясь куда-то вбок, и длинномордая, кудлатая собака, меланхолично дремавшая у трона, приподнялась, повиливая хвостом, ткнулась носом под руку Матьяша. Черные, живые глаза ее глядели на Влада с легким любопытством – кто это так вывел из себя ее обычно спокойного хозяина?
– Благодарю вас, ваше величество, что, несмотря на свою занятость, выделили мне время, – Влад поклонился, усмешливо взглянув на Матьяша. Тот делал вид, что всецело поглощен своим псом, начесывая за ушком Дорри. – Надеюсь в следующий раз побеспокоить вас нескоро.
Цыгански пестрая, ослепительно-рыжая осень встретила его за порогом Корвинешта, мерзлой, льдистой синевою неба плеснула в глаза. Влад вскочил на коня, сходу дал шпоры в бока. Вскинув голову, конь понес его прочь, сквозь цветастую карусель взметнувшихся под копытами листьев, сквозь полуденным солнцем пропитанный двор Корвинешта, родового гнезда Корвинов-Хуньяди.
И лишь когда черная, воронья тень замка осталась далеко за спинами всадников, Влад обернулся прочь:
– Я знал, что в тебе нет благородства, Матьяш, так же, как и в твоем отце. Но я и не подозревал, что настолько! – и усмехнулся – багряно-рыжим листьям, венком застрявшим в гриве его коня.
3
Лето 6992-е от сотворения мира
Августовская ночь пахла порохом и виноградной лозой, соленым ветром с лимана и терпким, ковыльным запахом степи, раскинувшейся за стенами крепости, тяжелыми крепостными стенами Четатя-Алба. Серебряное от густо рассыпанных звезд, небо висело над головой, непостижимо далекое, бархатно-черное небо с застрявшей серьгой полумесяца – над островерхими крышами башен, над каменной твердыней Килийских ворот.
Влад повернул голову – дверь за его спиною скрипнула.
– Не спится? А зря. Завтра османы вновь на приступ пойдут, роздыху не будет… шайтан раздери их поганое племя! – в окликнувшем его, потрепанном, с рукой на перевязи, в повязке с бурыми от запекшейся крови потеками трудно было узнать франтоватого генуэзца Никколо, хозяина постоялого двора, столь гостеприимно встретившего Влада не далее чем неделю назад. – Эх, угораздило же вас в такое время приехать… У нас же тут последние годы так спокойно было, спасибо Штефану, да упокой Господь его безгрешную душу! – здоровой рукой Никколо перекрестился, хитро скосив глазами на Влада – оценит ли? О близкой дружбе валашского господаря с господарем молдавским не был наслышан в Белой крепости только ленивый. – А сейчас… эх… тут и посольство московское, кстати, в осаде застряло, въехать-то въехало, а вот выехать… как в мышеловке… эх… – он с чувством сплюнул на вымощенную булыжником мостовую, что долженствовало, по всей видимости, обозначать крайнюю степень стыда, растерянности и досады – хозяина, не сумевшего обеспечить безопасность дорогим гостям.
– Не сплю, и тебе не советую, – Влад прислонился к стене, все так же созерцая далекие и недоступные звезды. – Видишь, как ярко на небе? В такую ночь они обычно и атакуют, я пожил с ними прилично, я знаю. Стены они тут достаточно попортили, чтобы их янычарам было сподручнее влезть, а дальше – посыплются нам на головы, как клопы… Так что если к утру с подмогою не успеют… готовься, любезный хозяин мой, к худшему.
Оставив растерянного Никколо во дворе, Влад вышел за ворота гостиницы. Душная августовская ночь с хрустальными подсвечниками созвездий окутывала Четатя-Алба, ночь, пахнущая железом и кровью, невыносимой тревогой ожидания пропитанная ночь Белой крепости. Дождется ли Четатя-Алба, успеет ли к утру подмога? Жаль, что сам он, выехавший сюда по пустячному, как он понимал сейчас, внешнеторговому делу, взял с собою столь небольшое число людей. Если бы он знал, выезжая… впрочем, задним умом все крепки.
– У Баязида триста тысяч всадников, у Менгли-Гирея – тысяч пятьдесят… неплохо подготовились, хороший ключ подобрали к южным воротам Молдовы… – выстукивая сапогами по мостовой, Влад подошел к башне, одной из тридцати четырех красноголовых, флагштоками увенчанных башен Белой крепости. Справа от нее, надкусанной в камне дырою, чернел пролом от бесчисленных пушечных ядер, сброшенных на город в эти дни. – Удобное место для штурма. Усиленную бы охрану сюда…
Подсвеченное пробуждающимся солнцем, небо бледнело, хрупкие светильники звезд гасли один за одним. Рыжеющей полоской на горизонте плеснулся рассвет, и в этот момент слаженно, как по команде, грохнули пушки, и крики, смешивающиеся с барабанною дробью, разбили утреннюю тишину.
– Ал-ла, ал-ла! – кидая на стены плетеные лестницы, они рекою лились в образовавшийся проем – кричащие во всю глотку, размахивающие кривыми саблями янычары. – Аллах велик, славься имя его, и пророка Мухаммеда!
Белое с золотыми письменами, красно-зеленое, красно-золотое – огненно-обжигающими волнами взметнулись над стенами крепости султанские знамена, и вслед им – вплыло красно-рыжее солнце, лучами, будто пропитанными кровью, растекаясь по мостовой, пламенем разгораясь вдоль белокаменных башен.
Это больше напоминало беспощадную бойню, чем бой – измотанные осадой немногочисленные защитники Белой крепости – против трехсоттысячного мусульманского войска, и закончилось так же быстро, как и началось – словно летний ливень, не оставляющей сухим на теле ни единую нитку. Во внутреннем дворе цитадели, сердце Четатя-Алба, отдельные группки горожан еще оказывали сопротивление, но крепость была уже взята, и гибель или пленение последних сопротивлявшихся была, фактически, только вопросом времени.
– Пусти, татарва! Я – посол московского князя Иоанна Васильевича! У него с вашим ханом мир! Князь гневаться будет! – визгливо-возмущенный, протестующий голос принадлежал маленькому, худосочному московиту в заломленной на бок шапке и красном, золоченом кафтане, вымазанном в крови и пыли. Со скрученными за спиною руками, его гнал по улице свирепого вида узкоглазый степняк. Московит отчаянно вырывался, пища по-мышиному, падал навзничь, не желая идти, полз, подметая полами кафтана каменную мостовую – и был снова поднимаем своим пленителем, что, присовокупляя бедняге очередную затрещину, понуждал его двигаться вперед и резвее. – Ох, разбойники, ох, звери-душегубы! Чтоб черти тебя на том свете так же приветили, да еще с довеском!
Ладонью смахивая кровь из рассеченной брови, Влад, пошатываясь, прислонился к стене. Тот самый посол, о коем вел ему речь генуэзец Никколо? Весьма любопытственно…
– Куда московита тащишь? – по-турецки рявкнул он, заступая дорогу степняку, дополнив свои слова – взмахом окровавленной сабли. – Повежливее бы, с послом государевым!
К его немалому удивлению, степняк не бросился на него, а, подобострастно вытянувшись, зачастил на ломаном турецком, половины слов из которого Влад не мог разобрать, что это его добыча, за которую он, Илдус-оглы, получит хороший выкуп, и что он не хочет ссориться из-за московита со своим же соратником-янычаром, и предлагает разойтись мирно, ведь пленных много – бери-не хочу. Внезапно осознав, что его привычка одеваться на турецкий манер в очередной раз сослужила ему хорошую службу, Влад повеселел. Впрочем, выбираться из каменной западни Четатя-Алба без достойной добычи он все-таки не собирался.
Отведя саблю и дождавшись, пока подуспокоившийся степняк в очередной раз отвлечется на горестные стенания московита, он замахнулся и с силой опустил лезвие на бритый затылок зазевавшегося Илдус-оглы. Череп треснул, будто гнилая тыква под ударами палки, Илдус-оглы покачнулся, разворачивая к Владу донельзя удивленное лицо – и рухнул в пыль, прямо к ногам забывшего кричать от ужаса московитского посла.
– Тш-ш, тихо, не шуми, – Влад приложил палец к губам, берясь за конец вервия, обмотанного вкруг запястий бывшего пленника. – Я – свой, не осман. Будешь слушать меня – выберемся вместе. Как зовут-то тебя?
– Федор Курицын, посольский дьяк, – просипел московит, недоверчиво вглядываясь в явно османскую одежду и столь же характерное лицо своего неожиданного спасителя. – А как докажешь, что ты…
– Вот те крест! – Влад осенил себя крестным знаменьем, рассеивая последние сомнения многострадального дьяка, и дальше они уже продвигались вдвоем – сквозь дымное марево разгорающихся пожаров, сквозь конский топот и крики янычар, сквозь солоновато-свежим, лиманным ветром пронизанное утро Четатя-Алба, ее последнее утро – раб и пленивший его янычар, свирепо огрызающийся по-турецки на каждого, пытающегося покуситься на его наизаконнейшую добычу. В лагере, разбившемся за стенами Белой крепости, Влад отловил солового жеребца, оставшегося без догляду, и в пару ему – рыжей масти одышливую клячу, мирно щиплющую выгоревшие на солнце травинки у чьей-то арбы. Саблею рассек путы, огляделся – не видел ли кто.
– Ну что, поехали, Федор, дорога предстоит неблизкая, – впереди лежала степь, солнцем залитое разнотравье, полное птичьего перебора и шума кузнечиков, чуждое людских распрей и тревог. Влад потянулся, легко, как в юности, взлетая в седло, подождал мученически кряхтящего дьяка, сходу не попадавшего ногой в стремя. – Считай, беды твои позади, так что…
– Постой, добрый человек, – сухонькое, с мелкими, невзрачными чертами, лицо Курицына вновь сморщилось в гримасе подозрения. – Я-то тебе представился, а ты сам? Как звать-то тебя?
– Влад, сын Влада, валашский господарь. Может, слыхал о таком? – хохотнул Влад, натягивая поводья, и оторопело-испуганное, долгое молчание дьяка было ему в ответ.