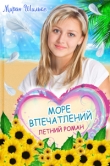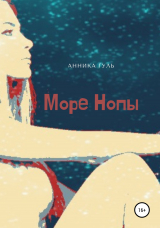
Текст книги "Море Нопы"
Автор книги: Анника Гуль
Жанр:
Подросткам
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Анника Гуль
Море Нопы
1
Опасно ночевать под открытым небом. Утром обязательно чего-нибудь не досчитаешься. Волна выплеснула мой рюкзак, а сандалии уплыли. Словно две огненных рыбки дрейфовали в нескольких метрах от берега, вот что значит – подошва из пробки. За мной следила местная чайка: еще не городская жительница вроде вороны, но уже не морская дикарка, вдохновившись которой можно написать дзен-буддистскую книжку. Непонятное создание, и, судя по крикам, не слишком дружелюбное.
Вода оказалась холодной и мутной, с отчетливым запахом водорослей. Вероятно, так древний человек ловил рыбу, как я – свою единственную обувь – голыми руками и в одиночестве. Дно норовило выскользнуть из-под ног, волны усилились, и я с трудом достигла суши. Зато красные сандалии снова были со мной. Я обулась и подошла к лазейке в проволочном ограждении, просунула в дыру мокрый рюкзак, вылезла сама и изучила окрестности. Забор тянулся вдоль берега. По одну сторону лежала широкая, пустынная полоса земли и море, по другую – теснились одноэтажные домики. Ночью я шла от вокзала до моря сорок минут и убедилась, что этому городишке очень к лицу его название. «Старая Бухта, – сказал проводник поезда. – Лежать в сероводородной ванне – и то приятней».
При свете дня ничего не изменилось: тут и там древние камни, проросшая среди валунов трава, жесткая и седая, как будто пережила много зим. Вдалеке играла музыка, запах водорослей мешался с запахом дыма, жареного мяса и перезрелых фруктов, солнце сияло в окнах. Я поднялась по склону, двинулась вперед, разглядывая домишки вдоль дороги. Их цвета давно выел соленый ветер. Мог ли выглядеть по-иному город с именем, обрекающим на ветхость всего, даже того, что только строится? Ста-ра-я Бух-та.
Из одного окна выпирала большая старомодная колонка. Играли The Beatles. Я остановилась застегнуть ремешок сандалии, ощутила, как дрожит от звуковых волн земля, прошла несколько метров и оказалась прямо перед ее домом.
Среди всех невзрачных жилищ этот был самым невзрачным, словно сошел с рисунка ребенка трех лет: несколько кривых палочек и одна грязная краска. Под окнами вяли флоксы, дом выглядел необитаемым. Я постучала в дверь. С рюкзака на крыльцо стекала вода, кап-кап. Никто не открывал. Неужели она ушла?
В окне мелькнула тень. Я постучала громче, и еще. На третий раз дверь открыла девица моего возраста, лет шестнадцати-семнадцати. Никто не говорит о таких «высокая», говорят «рослая», как о лошади, голова маленькая и черты лица мелкие, очки, мышиного цвета «луковка» на голове и черная футболка до колен, поэтому фигуры не разберешь – вот и вся Рита Нопа.
– Привет, – сказала я и улыбнулась.
Она узнала во мне приезжую, поправила очки на носу и сказала:
– Мы не сдаем комнаты.
– Наверное, я что-то перепутала, – сказала я.
– Точно, – ответила девица без улыбки.
Она слегка пробуксовывала на согласных звуках, поэтому получалось «с-сдаем» и «точ-чно».
– Нашла этот адрес в газете, – снова вступила я.
– Ошибка какая-то. Мы не сдаем комнаты, никогда, – повторила она.
– Жаль, зря шла. Можно зарядить у тебя телефон? Пожалуйста. Видишь, какие у меня неприятности…
Девица с сомнением посмотрела на мой рюкзак, с которого капала вода на крыльцо, уже натекла целая лужа. А я разглядывала хозяйку дома, впервые очутившись на расстоянии вытянутой руки, и удивлялась: как можно жить у моря и быть такой бледной? Мумия, не девчонка! О таких всегда думаешь, что у них изо рта пахнет. На самом деле, нет. Но никуда не денешься от первого впечатления.
– Вещи утонули, еле спасла рюкзак, – сказала я. – Дурацкая история.
Она нисколько не заинтересовалась. Говорю же, мумия! Я сделала жалобный вид. Девица не убирала ладонь с дверной ручки.
– Пожалуйста, – повторила я. – Мне нужно позвонить кому-нибудь, а телефон разрядился.
Тогда она, наконец, отступила вглубь дома. Я вошла, а точнее, втиснулась в крошечное помещение, где на детских санках громоздились какие-то мешки. У входа стояли огромные мужские кроссовки времен Майкла Джордана, что меня озадачило. По моим расчетам, мужчины тут не водились. В доме разило старушечьей мазью и горелым. Девица провела меня в комнату, небольшую, со старой мебелью и светло-розовыми обоями в пузырях, указала на серую от грязи розетку. Я достала телефон. Девица зевнула.
– Старая Бухта – приятное название, – сказала я, чтобы поддержать разговор.
Она промолчала.
– Забавная штука с этими названиями. Если есть Старая Бухта, должна быть и Новая, правда? – сказала я. – Вот Оскол: есть Старый, есть Новый. А Бухта только Старая, я почитала брошюрку в поезде.
Девица почесалась.
– Здорово, наверное, каждый день просыпаться и в окне видеть море, – снова сказала я.
– Ко всему привыкаешь, – ответила она.
– А я вижу из своего окна стену соседнего дома.
– М-м.
– Знаешь, что бывает, когда очень долго смотришь на кирпичную стену? Она начинает казаться морем.
Телефон молчал. Девица посмотрела на черный экран, заявила:
– По-моему, не работает.
– Все-таки вода попала, – сказала я. – Ты не дашь свой телефон? Мне бы позвонить.
– Н-нет. Он отключен.
Девица почесалась и выразительно перевела взгляд с меня на выход. По-видимому, жалела о собственном гостеприимстве или чего-то боялась.
– Э-э… тогда можно салфетку? Постараюсь его спасти, – попросила я и потрясла телефон.
Она подошла к буфету, выкрашенному белой краской, с недовольным видом открыла ящик. Будто от свидания ее отвлекаю, а не от очередного прыща на носу! Я заглянула через ее плечо. Чего только не было в ящике: географические карты, компас, батарейки, даже армейский сухпаек. Она перебирала все это и нервно дергала плечом, через которое я заглядывала.
– Ого, вы готовитесь к концу света?
Она неохотно ответила:
– Мать любит походы.
– Ух! А ты?
– Что – я? – спросила она.
– Любишь походы?
– Не очень.
– Поэтому сидишь тут одна?
– С чего ты взяла, что я одна?
– Ну, возрази.
Она только хмыкнула в ответ. Достала бумажные салфетки, протянула мне и быстро отдернула руку.
– Тебя как зовут? – спросила я.
– Рита, – ответила она и захлопнула ящик так, что на буфете задрожали расписанные бутылки, выставленные, очевидно, для украшения в стиле кантри.
– А меня Ламбада, – сказала я и напела. – Шо-орандо си фой пара-рара-рара-рара-ра-а…
Эмоций у нее было, что у мороженой скумбрии. Она так и не сдвинулась с места и все почесывалась. Может быть, у нее идиосинкразия? Этим красивым словом одна моя знакомая называла физическое отвращение к невинным, в общем-то, вещам. Например, Наполеон до чертиков ненавидел белых лошадей. А одного писателя корчило от определенных слов, вроде «ипостась». Хотя и белые лошади, и слово «ипостась» ни в чем не виноваты. Рита Нопа могла так же необъяснимо не любить девушек в красных сандалиях.
Я делала вид, что промокаю телефон салфеткой, она пыхтела надо мной и смотрела подозрительно, как недавняя чайка на берегу, это начало раздражать. Я попросила воды. Она хмыкнула, но вышла на кухню и вернулась со стаканом.
– Какая вкусная здесь вода, – сказала я, напившись.
Тут она ухмыльнулась и ответила:
– В прошлом году нашли кишечную палочку. Каждый год что-то находят.
– Что еще интересного в вашем городе? – спросила я невозмутимо.
– Для тебя – ничего.
Это уже было вызовом. Я села на стул и заявила: никуда не пойду, финита. Наконец-то! Ее челюсть качнулась в подобии живой гримасы. Она захлопала ресничками под толстыми линзами очков и повысила голос:
– Мы не сдаем комнаты, сколько повторять!
– Я и не прошу сдать комнату. Для такой просьбы у меня нет денег. Говорю же – я утопила вещи, спасла только телефон, да и то, кажется, не совсем спасла.
– Меня это не волнует, – сказала она с кислым видом.
– Правильно, зачем волноваться? Я просто поживу у тебя, спать буду вон там, чтобы по утрам видеть море.
– Я что, в дурном кино? – попробовала она соригинальничать.
– Немножко поживу. Ты ведь все равно одна.
– Да с чего ты взяла, что я одна?! – взорвалась она.
– Ты одна, потому что твоя мать сейчас в очередном походе, – сказала я. – В походе за женским счастьем, ага?
Губы девчонки некрасиво скривились. Где же она откопала эти жуткие очки, стянула у Остина Пауэрса? Она оглянулась, словно ища помощи у родных стен, яростно поскребла плечо. Точно, у Риты Нопы нервный зуд. Я скатала салфетку шариком, бросила в пепельницу и сказала:
– Твоя мать собралась замуж. Все началось с курортного романа в Старой Бухте, а потом – раз! – и завертелось, ее избранник захотел на ней жениться и позвал к себе в Питер. Она решила попробовать, не век же одной куковать, а он мужчина приличный, – Рите совершенно необязательно было кивать, я продолжала свой рассказ, уверенная в том, что попадаю точно в цель, – А тебя она оставила дома. Но ты же большая девочка, правда? Поживешь пока одна, там что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем.
– Слушай, ты кто такая? – спросила она наконец, изо всех сил пытаясь вернуть рыбье хладнокровие.
– Можешь называть меня сестрицей, – сказала я. – Твоя мать уехала в Питер к моему отцу. Здравствуй, Гита!
Мат индийским слоном. Она закрыла очки ладонью, тут же отняла, проговорила просто и устало:
– Вот задница. Сразу не могла сказать?
Я воодушевилась.
– Хорошо, что все тайное становится явным. Теперь ты позволишь сидеть рядом с тобой за твоим маленьким столиком, есть из твоей тарелочки и спать в твоей кроватке? Если позволишь, я нырну на дно и достану тебе золотой шарик.
Она, конечно, немного расслабилась, но не скажешь, что была рада. Ей все это не нравилось. Болотной ряске тоже вряд ли нравится, когда ее тревожит наглая цапля.
– Хватит кривляться, – сказала она. – Не люблю, когда кривляются. Как тебя зовут на самом деле?
– Ламбада, – ответила я.
– Зачем ты приехала?
– Познакомиться.
– Зачем тебе со мной знакомиться?
Она застыла, сложив руки на груди. Локти у нее были серые, волоски хорошо бы обесцветить. Ох и дразнят ее в школе! А может, просто не замечают. Не знаю, что хуже. Вряд ли она встречалась с кем-то, да она не целовалась ни разу в жизни! Я зачем-то представила, как это – целовать ее тонкие, бесцветные губы, касаться языком ее холодного и скользкого языка – и содрогнулась. Рита Нопа, что же ты такая жалкая?
– Мне захотелось с тобой познакомиться – и все, – сказала я. – А еще я не одобряю решение твоей матери. Взять и уехать, бросить несовершеннолет…
– Замолчи! – выкрикнула она. – Не суй свой нос куда не следует!
Я вздрогнула от этой вспышки ярости, но была удовлетворена: все шло по плану. Мне стало ясно все-все о Рите Нопе и ее неладах с матерью. Я примиряюще подняла руки.
– Разреши хотя бы переночевать. Трудно найти комнату в чужом городе без денег и телефона. У меня яблоки есть, сладкие.
Рита вздохнула.
– Только одну ночь, – сказала она, королева тухлых рыб, не удержалась и добавила. – И учти: я тебя не звала!
Помимо комнаты, в которой так натужно завязалось наше знакомство, в доме были маленькая кухня и Ритина комнатка. Рита прошла на кухню, меня не пригласила. Я последовала за ней. Окно кухни выходило во двор, на клумбу, которую никто не поливал. На столе стояла сковородка с яичницей неаппетитного вида. Я раскрыла рюкзак и высыпала рядом красные яблоки, которые купила на каком-то полустанке у старушки с неожиданным колечком в носу. Рита поджала губы. Она села за стол, не предлагая мне присоединиться, но через мгновение вздохнула, поднялась за ножом и тарелкой, разрезала холодную, свернувшуюся к центру яичницу, положила на тарелку половину, подвинула мне и молча села снова. Прилипая к столу запястьями и локтями, мы съели яичницу, следом выпили чаю. Она не задала ни одного вопроса о матери. Ни одного вопросика, маленькая прыщавая Электра! Это злило и радовало меня одновременно. Все шло по плану.
Мыть посуду Рита не стала, а двинулась в комнату, и походкой, и выражением лица показывая, как ей не нравится происходящее. В окне Ритиной комнаты до горизонта разливалось море, дикое, безлюдное, величественное. Цвета слабели и холодели вдаль, как на полотнах Уистлера. В остальном комната соответствовала хозяйке: неубранная постель, хлам на письменном столе, шкаф из прошлого века и всюду вонь старушечьей мази. Змеиный яд, вот что это. Однажды мой отец растянул спину, и кто-то из его знакомых привез баночку с коброй на этикетке, внутри оказалась темно-коричневая субстанция с таким же въедливым запахом.
Разглядывая комнаты, я не могла отделаться от ощущения странности всей этой обстановки, и, когда захотела поправить волосы, поняла, что меня смущает: в доме не было зеркал. Хотя, будь я такой же малосимпатичной, как Рита, тоже предпочла бы не встречаться со своим отражением. Она открыла шкаф, достала простыни, слава богу, чистые.
– Будешь спать на диване в зале.
«В зале» – умереть не встать! Я попробовала диван, на который меня определили, – твердый, словно надгробный камень, цвета неравномерно прожаренного гренка. На стене напротив висели круглые часы. Мы провели в молчании часа три, не меньше. Когда стукнуло девять вечера, Рита ушла чистить зубы. Я спросила, можно ли включить телевизор. В ответ из ванной раздалось омерзительное клокотанье. Телевизор был старый, без пульта, я нажала переключатель. По экрану поползла косая рябь. Вот и ответ. Рита, вытирая лицо, прошествовала в свою комнату, дверь закрывать не стала. Я сплющила пальцами ее силуэт в проеме, как пластилиновую фигурку. Она словно почувствовала и оглянулась.
– Спокойной ночи, – сказала я. – Извини, что так вышло. Если бы мой чемодан не утонул, я пригласила бы тебя в ресторан.
– Только не бери мою зубную щетку, – сказала она. – Чисти пальцем.
Я вздохнула и забралась под жесткую простыню. На удивление, белье издавало приятный цветочный аромат.
Ночью шумело море, и это было прекрасно. Я думала о набегающих на берег волнах, о теплой воде. Мне хотелось смеяться и плакать. Еще чуть-чуть, и я бы прокралась в ее комнату, легла рядом, обняла и сказала: черт с ними со всеми, Рита. Правда, ну их всех, пап, мам… Мы свободны и впереди у нас целое сумасшедшее лето, это главное. Но она по-мужски захрапела. Тогда я повторила привычную молитву: Боженька, можно мне никогда не будет больше шестнадцати? – и уснула.
Утром я проснулась от чудно́го, детского ощущения – щекотки. Солнце сверкало, море сверкало. Сверкала ниточка паутины надо мной. По руке полз паук. Я аккуратно стряхнула его на пол, потянулась и ощутила тупую боль в каждой мышце. Все потому, что вчера долго валялась на камнях. Я снова видела Риту в дверной проем. Не всю ее, а только серые пятки, торчащие из-под одеяла. Говорят, на животе спят люди, которым есть что скрывать.
Часы на стене показывали пять утра, но спать мне больше не хотелось. Тихонько, стараясь не скрипеть половицами, я прокралась к буфету, открыла верхний ящик. Прямо мне в руки выкатилась склянка со снотворным. Все-таки Ритина мать – настоящий специалист по выживанию! Такие таблетки принимала одна подруга моего отца, депрессивная художница Нева – это имя значилось даже в ее паспорте! – и утверждала, что без них погибла бы от инсомнии, а это романтично только в средневековых повестях, на деле же – склоки и слезы по пустякам, медленное окисление, плохая память, складки жира и тромбы, а под венец – инфаркт миокарда. Нева энциклопедически образованна. Каждый раз, жонглируя ее словечками, я вторгаюсь в неизвестные области. От нее я узнала не только об инсомнии, идиосинкразии, но и об американском художнике Уистлере, который провел детство в особняке на Галерной в Санкт-Петербурге, десять минут хода от дома Невы и полчаса езды от нашего с отцом дома. Вспоминать о доме не хотелось. «Чур меня, чур!» – прошептала я и вернулась к своим исканиям.
В буфете обнаружилась тетрадь с чистыми листами и ручка. Я забралась с ногами на диван и начала записывать первые приключения: ссору с отцом, вокзал, поезд, симпатичного блондина по имени Оскар, ночь в Старой Бухте. Увлекшись, исписала три страницы, пока почерк не стал мелким и путаным.
К восьми часам Рита еще не проснулась, пришлось мне хозяйничать. Я набрала воды в чайник, поставила на огонь и пошла в ванную, где все-таки нашлось зеркальце – маленькое, с морским видом на обратной стороне, оно закатилось вглубь полки. Из стакана воинственно торчала одинокая зубная щетка. На щетине темнела кровь. Бр-р! Я почистила зубы пальцем, вымылась под сломанным душем. Струя из рваного шланга била в разные стороны, на полу остались лужи. Я затерла воду чем-то похожим на половую тряпку, хотя, возможно, это была самая любимая футболка хозяйки. Про чайник совсем забыла. Вода выкипела наполовину. Я опустила в кружку пакетик чая, залила кипятком, чай мгновенно покрылся белесой пленкой. Над раковиной, в которой громоздились сковородка из-под вчерашней яичницы, тарелки и кружки, летали мухи. Я наблюдала за мушиной жизнью, пила чай и грызла яблоко, когда на кухню вошла Рита, все в той же мятой черной футболке, со свалявшейся «луковкой» на голове. Вместо приветствия она произнесла:
– Это моя кружка.
– Хорошо, сейчас вымою, – ответила я.
– Не надо.
Я пожала плечами, предложила:
– Может, пойдем купаться?
– Здесь нельзя, – сказала Рита и открыла холодильник.
Лучше бы она этого не делала. Запахло так, что мне расхотелось пить чай. Рита достала из холодильника кусок масла, ткнула ножом. Масло расползлось.
– По-моему, холодильник сломался, – сказала я.
– Давно, – ответила Рита, невозмутимо намазывая бутерброд.
Она с аппетитом поела, собрала крошки в рот и заявила:
– Если ты позавтракала, отправляйся искать комнату.
Что и говорить, Рита Нопа застала меня врасплох. Я думала, она предложит мне остаться. Мы ведь не были посторонними людьми, разве не так? За ночь и свежее, прекрасное утро Рита должна была бы это понять. Однако непреклонность таилась в каждом ее жесте. Я чувствовала себя разочарованной, в голове почему-то крутилась фраза: «Твоя проблема, Зиги, в том, что ты совсем не разбираешься в людях». Откуда эта дурацкая фразочка? Ах, да! Так сказала Фрейду его тетушка… Я злилась сама на себя за излишнюю самоуверенность.
Пока Рита копошилась в своей комнате, я надела самые вызывающие шорты и майку на голое тело. Moschino («Москино», никакого «Мосчино», строго сказала прошлогодняя девушка моего отца, та, что появилась после художницы Невы. Правда, эта девушка говорила еще и «координально» и «мое деньрождение», и даже «попробывать»). Обернула вокруг щиколотки браслетик-цепочку. Подкрасила губы ярко-красной помадой, взбила волосы. В таком виде можно вскружить голову даже вампиру, заодно прогневить пару бабулек, сдающих комнаты на монашеских условиях. А я и не хотела понравиться ни одной квартирной хозяйке. За это утро – тихое и вдохновенное – мне успел полюбиться домик Риты, даже со всеми его рваными шлангами и сломанными холодильниками, и дурацкими цветными бутылками. В ее доме было что-то вызывающе несообразное шестнадцатилетнему человеку и вместе с тем что-то такое, по чему он втайне тоскует. Как в детском штабе на дереве, куда вход – только по паролю.
Рита чуть не зашипела, войдя в комнату и увидев Moschino. Она поменяла футболку, надела черную юбку до колен, попыталась причесаться, однако оставалась все так же уныло нехороша. В прихожей она, к моему удивлению, нырнула в огромные мужские кроссовки, о которые я вчера едва не споткнулась. Мы вышли из дома, Рита закрыла дверь и спрятала ключ под коврик.
– А вы как говорите – «районный ДэКа» или «районное ДэКа»? – спросила я.
– Чего?
– Ничего. Просто тест.
Она рассердилась и сказала:
– Изучай кого-то другого.
– У меня здесь никого нет, кроме тебя, – напомнила я.
– По-хорошему прошу, перестань кривляться!
Я прикусила язык. Над улицей плыл аромат цветов, к которому неумолимо подмешивался душок разлагающихся водорослей. Было жарко. Футболка Риты стала еще чернее на спине и под мышками. Мы шли молча. На развилке она притормозила на секунду, чтобы сказать:
– Ладно, удачи, – и поспешила от меня, взметывая ураганчики пыли.
– Эй! – крикнула я вслед ей. – А что делать, если не найду комнату? Можно вернуться к тебе?
Она не ответила, даже не обернулась.
– Если бы ты приехала в Питер, я бы тебя не выгнала! – крикнула я ей в спину с такой обидой, какой сама от себя не ожидала.
Что ж, придется импровизировать. Я отправилась искать комнату, и на это занятие убила целых два часа. Мне не везло. Домики цвета картонных коробок от яиц оказывались либо заперты, либо распахивали двери только для того, чтобы сонный хозяин сообщил: комната уже сдана. Я быстро устала. Сейчас бы с разбега прыгнуть в море, отдаться течению и приключениям… В конце концов, ради этого я здесь, в Старой Бухте. Глупая, глупая Рита!
«Это последний вариант», – пообещала я себе у калитки с объявлением «Сдается комната». За оградой высился двухэтажный каменный дом, к нему вела мощеная дорожка. На звонок вышла огромная женщина, чей возраст плохо определялся из-за слоя жира. Ее волосы были убраны под ярко-желтый шарф. Одетая в длинную цветную блузу и шальвары, она напоминала раздобревшую Шахерезаду, еще и обмахивалась веером из перьев, повергая все вокруг в тяжелый ориентальный туман. Я сказала, что пришла по объявлению. Шахерезада распахнула дверь, впуская меня. В первые секунды я ничего не видела, настолько темно оказалось в доме. Портьеры скрывали дневной свет. Всюду стояли высокие вазы без цветов, вместо дверей с потолка на пол спадали парчовые занавеси. Пол был каменный, с рисунком под мрамор, а может, это и был мрамор. У меня закружилась голова от духоты и восточных благовоний. Хозяйка без слов махнула мне рукой и, плавно переваливаясь, начала подниматься на второй этаж. Ее необъятная задница в шальварах так и качалась перед моими глазами.
Второй этаж производил впечатление недавно надстроенного, еще не тронутого всем этим восточным великолепием. Мы прошли мимо запертой двери, остановились в конце коридора, где крыша шла на скос. Я ожидала увидеть уютную мансарду и не ошиблась. Когда Шахерезада отворила дверь, передо мной предстала голая, обшитая вагонкой комнатушка. Не хватало только пишущей машинки «Ремингтон» и пары бутылок «Вальполичеллы», чтобы почувствовать себя бородатым писателем. Шахерезада сказала:
– Могу принести раскладушку, – и уставилась на меня выпуклыми глазами, жирно обведенными черным карандашом где-то пару дней назад.
– Подходит, – сказала я.
– На отдыхе мало что нужно, – сказала она. – Главное – море рядом.
– Вы правы, – ответила я.
Она не уточнила, что купание в этом районе запрещено, и я промолчала.
– Восемнадцать есть? – спросила она и тут же добавила, мигом заслужив сто баллов. – А, какая разница… Хочешь пить?
Я сказала: хочу. Мы спустились вниз, Шахерезада предложила мне сесть на диван и удалилась. Вернулась почему-то с тремя банками холодной пепси-колы. Уселась в кресле напротив. Вид у нее был такой, будто ей осточертел праздник жизни. Она пила, обмахивалась веером и разглядывала меня без всякого стеснения, словно собиралась написать портрет.
– Ничего, что у меня паспорт утонул? – спросила я.
– Ничего, – сказала она и попыталась положить одну ногу на другую. Непростая операция, если ты весишь больше центнера.
От ледяной газировки у меня сводило челюсть. Банка покрылась бисеринками воды, я то и дело вытирала ладонь о шорты.
– Значит, тебе негде жить, паспорт утонул, – сказала Шахерезада и тихонько усмехнулась.
В животе у нее что-то заколыхалось, так, что она сделалась похожа на удава, только что проглотившего кролика.
– Если честно, кошелек тоже утонул. И вообще – все утонуло, – ответила я.
Шахерезада покачала головой и жалостливо сложила пухлые губы: ай-ай-ай, точь-в-точь торговка на восточном базаре, которая разрешает взять в долг по доброте душевной. Она о чем-то надолго задумалась. Комнату укутала тишина, как будто мы попали в снегопад и между нами быстро росли сугробы. Я испугалась, что она уснет, а когда очнется, не узнает меня. Чего доброго, поднимет шум. Я кашлянула. Шахерезада встрепенулась и посмотрела на меня с непонятным страданием во взгляде. Она отставила банку на столик, рядом с веером, поднялась, грузно опираясь на подлокотники кресла, махнула: пошли. От этих жестов я чувствовала себя служанкой во дворце. Перед моими глазами стояли отпечатки ее толстых пальцев на запотевшей банке – так же легко она могла бы одной ладонью обхватить чью-то шею. Я помотала головой, отгоняя нелепые мысли, навеянные, должно быть, полумраком и тяжелыми ароматами, подходящими какому-нибудь скорбному ритуалу. Мы опять поднялись на второй этаж. Лестница под хозяйкой прогибалась и пружинила. Наверху Шахерезада долго отдувалась, на ее носу повисла капля пота. Отдохнув, она подошла к запертой двери, мимо которой мы прошли первый раз, достала ключ из шальвар и открыла, не без заминки. Я поняла, что секундные остановки были нужны ей не для восстановления сил, она что-то решала, то и дело хмурясь и поглядывая на меня. Мое сердце забилось чаще.
Комната за тайной дверью отличалась от всего темного, душного, золотисто-пурпурного, забитого коврами и шторами дома. Мебели в ней было немного, только самая простая и светлая. Сразу угадывалось, что здесь жила девчонка, но давно. Череда постеров «Сумерек» обрывалась на «Затмении» а ведь были еще две части «Рассвета». Все очень аккуратно: ни соринки на полу, ни брошенной майки, ни крема для рук или помады, забытых на столе.
– Нравится? – спросила Шахерезада каким-то напряженным голосом. – Останешься?
У меня мурашки забегали по рукам и ногам.
– Здесь? – переспросила я.
Шахерезада подошла к постерам на стене, обвела рукой, точно экскурсовод в музее:
– Эти нравятся?
– Не все, – честно призналась я. – Вампиров не люблю.
Она нахмурилась. Я подумала: не такая уж она старая, морщины на лбу неглубокие. Наверное, нет и сорока, просто однажды плюнула на себя. Взгляд у нее стал чудной, словно она пыталась вспомнить, где мы встречались раньше, и никак не могла. Не самый приятный взгляд. Я поняла: сейчас захлопнется дверь, и мы останемся вдвоем в темном доме. Эта мысль меня напугала.
Тем временем хозяйка подплыла к шкафу, развела створки, бережно вынула что-то бирюзовое, расправила на руках. Оказалось, платье. Простенькое, но симпатичное, для выпускницы-отличницы на «Последний звонок».
– А это нравится? – в ее голосе зазвучала угроза, я поторопилась ответить:
– Очень.
– Накинь, – приказала Шахерезада. – Скоро папа придет.
– Это ведь не мое платье, – сказала я, отступая на шажок.
– Все равно, – сказала Шахерезада и сделала мягкий шаг ко мне, – это моей дочери.
– Наверное, вашей дочери не понравится, что ее платье кто-то надевал, – сказала я.
– Все равно, – повторила хозяйка. – Ей все равно. Она умерла.
Ладони вмиг стали холодными и мокрыми, но уже не от запотевшей банки пепси-колы.
– Надень, он скоро придет, – велела Шахерезада, протягивая мне платье.
Я вышла из комнаты спиной вперед, бормоча извинения, благодарности, неловкие оправдания, что мне не хватит денег и я зря ее побеспокоила. На лице хозяйки застыло горькое недоумение. Парой прыжков я одолела лестницу. Шахерезада кричала сверху, что ничего страшного, она пустит меня жить бесплатно. Я подбежала к выходу, и на миг мне представилась классическая сцена из триллера: дом окажется заперт, на окнах решетки… Но нет. Дверь легко поддалась. Я вылетела из дома и ослепла от яркого солнечного света. Шахерезада издавала жуткие звуки в глубине дома, будто плакала.
Щурясь, я быстрым шагом пересекла ее двор с изящной деревянной беседкой и ухоженными цветниками – не скажешь, что хозяйка съехала с катушек, и вздохнула с облегчением только за калиткой. Потрясла головой, прогоняя кошмар. Вот бы спросить у кого-то, что это было! Но никого вокруг. Выброшена на берег вдали от дома.
Озноб продолжал колотить меня и под солнцем. Однако чем дальше я уходила от моря и чем шире становились улицы, тем больше я успокаивалась. Передо мной лежала Старая Бухта как она есть, со всеми своими чудиками. Но это даже забавно! В конце концов, приключения могут быть разными. Я уже предвкушала, как опишу Шахерезаду в заметках об этом городке, в котором вряд ли задержусь. Тут кое-что случилось. Даже и происшествием это трудно назвать, так, мелкая случайность… определившая мою жизнь. Я увидела парня, который приклеивал листовку к фонарному столбу. Крупные буквы кричали: «Здесь исполняются мечты!» Парень обмахнул листовками вспотевшее лицо, потряс ладонью с расставленными пальцами.
– Здесь вправду исполняются мечты? – спросила я.
– Угу, – ответил он. – Обращайся. Только скажи, что пришла по листовке.
Я бродила по городу и убеждалась в правоте ночного проводника. Старая Бухта была однообразна, как сплошная окраина. Но теперь в ее потаенной глубине мерцало обещание с листовки. Здесь исполняются мечты. Я глазела на людей. Непроизвольно выхватывала взглядом прохожих в необычной одежде. Кто-то болтал на итальянском. Кто-то хромал или смешно вертел бедрами. Маленькая нервная женщина лет сорока, в строгом жакете и брюках, пыталась купить кофе в автомате. Она нажимала на все кнопки подряд, коварная машина подмигивала, проглотив ее деньги. Не получив ни кофе, ни денег обратно, женщина отошла в сторону и огляделась в надежде, что никто не заметил ее оплошности. Этой недоверчивостью и одновременно тягостным смущением на лице она напомнила мне Риту. Да что там, Рита Нопа и не выходила у меня из головы. Я думала о ней как о названой сестре – само собой, заколдованной. Кто еще, кроме меня, мог вразумить эту девицу? Пусть она мне и не понравилась с первого взгляда (а кому она могла понравиться?).
В моей жизни только однажды возникла симпатия с первого взгляда, и я не ошиблась – то знакомство переросло в дружбу с одним мальчиком в пятом классе. Его звали Максим. Потом я выросла, и все последующие знакомства начинались в лучшем случае с любопытства, но больше никогда – с искренней симпатии. Но и любопытство – неплохое начало. А в Рите промелькнуло кое-что любопытное. Вот почему, побродив по городу, я вернулась на берег к уже знакомой дыре в проволочном ограждении.
Бриз гнал волны, шумные и игривые. Берег был пустой насколько хватало глаз. Только слева далеко в море выступала желтая коса, по которой кружил трактор. За проволочной сеткой на возвышении стоял дом Риты. Несколько раз мне показалось, она мелькнула за окном, но, конечно, все это были фантазии. Невозможно разглядеть что-то столь мелкое на таком большом расстоянии. Само собой, фантазии.
Конечно, я все придумала. До вчерашнего дня я знать не знала ни Риту Нопу, ни ее мать. Старая Бухта – единственное место у моря, куда свободно продавали билеты на вокзале, и у меня хватило денег, вот и все. Поезд шел два дня. Я села в Питере и через два дня выскочила из вагона в густую темноту южной ночи. Мой попутчик Оскар, блондинчик лет девятнадцати, что-то крикнул вслед. Его оттеснили семейство из Ростова и компания звонкоголосых, встревоженных путешествием старушек в одинаковых соломенных шляпках, севших где-то между Питером и Тверью. Пока ростовчане выгружали чемоданы, трех невовремя разбуженных детей, а потом старушек, я успела скрыться за углом кирпичного здания вокзала и выйти на улицу, покрытую брусчаткой. Вокруг трепетали сумерки, что-то вздыхало и бормотало, как будто море пряталось за ближайшими кустами. Но я все шла, шла, а море не показывалось. Городок спал и ворочался во сне. Тени деревьев качались в свете фонарей. Воздух был влажным и теплым, как сонное дыхание. Кричала какая-то ночная птица, стрекотали цикады. Ни одного механического звука: звонка мобильного, гула кондиционера, шуршания автомобильных шин. Только беспокойные выдохи и всхлипы. Я не думала, что город встретит меня беспробудно спящим. А море продолжало дразнить своими чревовещательными трюками, так и не показываясь. Я подумала вернуться на вокзал, найти Оскара. Хоть он и глуп как пробка и надоел мне за два дня в поезде, но вдвоем легче. Не успела я засомневаться, как перед глазами встало холодное и насмешливое лицо моего отца. Он покачивал головой, точно говорил: так я и знал, струсила маленькая девочка.