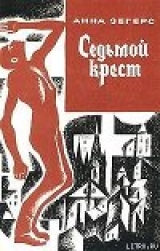
Текст книги "Седьмой крест"
Автор книги: Анна Зегерс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Позади большой клумбы с астрами, за газонами, за зелеными и бронзовыми кустарниками, может быть, на площадке для игр или в чьем-то саду, взлетали качели. Вдруг Георг решил: нужно пересмотреть все сызнова, все опять продумать. Во-первых, следует ли мне действительно выбираться из города? Какой в этом толк? Та деревня, – ах да! – Боценбах она называется. Те люди – ах да! – Шмитгаммер их фамилия. А можно ли на них положиться? Положиться – ни в коем случае. А если даже и можно – что потом? Как я вообще двинусь дальше? Переходить границу без помощи – да меня тут же изловят. Деньги у меня скоро все выйдут, а пробиваться, как до сих пор, без денег, от случая к случаю, для этого я уже слишком слаб. Здесь в городе есть хоть люди, которых я знаю. Ну, хорошо, знакомая девушка не пустила меня к себе. Что это доказывает? Есть другие. Моя семья, мать, братья? Невозможно, за всеми следят. Элли? Ведь она приехала ко мне в Вестгофен. Невозможно, наверняка следят. Вернер? Он был со мной в лагере. Тоже следят. Священник Зальц, который, как говорят, помог Вернеру, когда тот вышел? Невозможно, почти наверняка следят. Кто же еще из друзей может быть здесь?
До его ареста, когда он еще был жив, а не мертв, существовали же люди, на которых можно было положиться, как на каменную гору. Среди них был и Франц. Но Франц далеко, размышлял Георг. Все же он задержался мыслью на нем – пустая трата драгоценных минут, оставленных ему па размышление. Но то уже поддержка, что есть где-то человек, именно такой, какой тебе сейчас был бы нужен. Если такой существует, то одиночество только случайность. Да, Франц именно тот, к кому надо бы пойти. Ну, а остальные? Он перебрал и взвесил их одного за другим. Это взвешивание оказалось удивительно простым – мгновенный отбор, как будто опасность, грозившая ему сейчас, оказалась чем-то вроде химического реактива, безошибочно выявляющего все скрытые соединения и смеси, из которых состоит человек. Через его сознание прошли несколько десятков людей; вероятно, они занимались обычной работой или уплетали свой завтрак, даже не подозревая сейчас о том, на какие грозные весы они были в этот миг положены. Страшный суд без трубного гласа, в ясное осеннее утро. Наконец Георг отобрал четверых.
У каждого из этих четверых он наверняка мог бы найти пристанище. Но как к ним добраться? Ему представилось, что в эту минуту перед четырьмя дверями очутились часовые. Самому мне никак нельзя, сказал он себе. Другой должен пойти за меня. Другой, которого решительно никто не заподозрит, который никак со мной не связан и тем не менее все для меня сделает. Снова он принялся перебирать всех своих знакомых. Снова он почувствовал себя совершенно одиноким, точно не был рожден родителями, не вырос с братьями, никогда не играл с другими мальчиками, никогда не боролся плечом к плечу с товарищами. Целые сонмы лиц – молодых и старых – проносились в его сознании. Обессилев, всматривался он в эти вызванные им призраки – наполовину спутники, наполовину преследователи. Вдруг он различил лицо, все осыпанное веснушками, без возраста; действительно, Паульхен Редер на школьной скамье казался взрослым мужчиной, а в день своей свадьбы – подростком, идущим к первому причастию. Когда им обоим было по двенадцать лет, они отчасти выклянчили, отчасти заработали денег на свой первый футбольный мяч и стали неразлучны до тех пор, пока совсем другие мысли, совсем другие друзья не определили судьбу Георга. Весь тот год, что он прожил с Францем, он не мог отделаться от смутного чувства вины перед коротышкой Редером. Он так и не смог объяснить Францу, почему ему стыдно, что он понимает такие мысли, которых Редер никогда не поймет. Бывали минуты, когда он, кажется, готов был вернуться назад и забыть все, что узнал, лишь бы снова сравняться со своим маленьким школьным товарищем. В запутанном клубке воспоминаний наконец наметилась определенная нить: я должен попасть к четырем часам в Бокенгейм. Я пойду к Редерам.
IV
Полдень. На новом пастбище за шоссейной дорогой Эрнсту-пастуху легче пасти, овцы не так разбегаются, но зато оттуда нет таких прекрасных видов. Внизу примыкают к шоссе поля Мессеров. А за шоссе усадьбы Мангольдов и Марнетов заслоняют Эрнсту горизонт. Наверху поля упираются в длинную и узкую еловую рощицу, тоже принадлежащую Мессерам. Этот клин отделен от остального леса проволочной изгородью. А позади него опять идут поля Мессеров. Из кухни тянет тушеным мясом. А вот и Евгения несет ему в поле горшочек. Эрнст поднимает крышку, и оба заглядывают в него – Эрнст и Нелли.
– Странное дело, – говорит пастух своей собачке, – отчего это гороховый суп тушенкой пахнет? – Евгения еще раз оборачивается. Она нечто среднее между кузиной Мессеров и экономкой.
– У нас и остатки доедают, милый мой.
– Мы же с Нелли не помойные ведра, – говорит Эрнст.
Женщина бросает на него короткий взгляд и смеется.
– Пожалуйста, не ссорьтесь со мной, Эрнст, – говорит она. – У нас два блюда, когда съедите, подойдете с тарелкой к кухонному окну.
Евгения торопливо уходит, она довольно толстая и уже не молодая, но у нее красивая, плавная походка. И говорят, волосы прежде были как вороново крыло. Она из хорошей семьи: может быть, старик Мессер на ней и женился бы, да она сама все погубила, когда в двадцатом году генералу Манжену из Межсоюзнической комиссии вздумалось разместить здесь наверху два полка. И вот серо-голубое облако плывет вверх по дороге, растекается по деревням и долинам, мелькает то здесь, то там между холмами; откуда-то прорывается звонкая незнакомая музыка, незнакомая солдатская шинель на вешалке в передней, незнакомый запах на лестнице, незнакомое вино, налитое незнакомой рукой, незнакомые слова любви – и незнакомое становится родным, а от родного постепенно отвыкаешь. Потом, почти восемь лет спустя, серо-голубое облако сползло обратно, вниз по улице, и в последний раз чужая зовущая музыка даже не гремела с улицы, нет, а только стояла в ушах. Евгения далеко высунулась наружу из чердачного окна Мессеров. Здесь она нашла себе пристанище после смерти хозяйки, скончавшейся от родов пятого ребенка. Родители Евгении, выгнавшие ее из дому, умерли, ее сын – «французик», дитя оккупации – учится в Кронберге. Отец малыша давным-давно пьет свой аперитив на Севастопольском бульваре в Париже. Никто обо всей этой истории и не вспоминает. К тому, что отца нет, все давно привыкли. И Евгения уже привыкла. Лицо ее поблекло, хотя она все еще красива. Но в ее глубоком голосе появилось что-то надтреснутое, с тех пор как она поняла, что серо-голубое облако, которому она так долго смотрела вслед, уже давно не оккупационная армия, а самый настоящий туман. Это было тоже много лет назад. Для этой туши Мессера, для старого хрыча, размышляет Эрнст, Евгения просто находка.
Интересно, она заранее решила сказать про два блюда или только потом надумала?
Франц так устал, что ему казалось, будто приводные ремни проносятся прямо через его мозг. Однако он не допустил ни одного промаха, может быть, оттого, что впервые не боялся этого. Он думал только об одном – удастся ли ему увидеться с Элли наедине, когда он будет сдавать яблоки.
Он рисовал себе, как через несколько часов снова встретится с ней, с той самой Элли, которую никогда не переставал любить; и ему вдруг почудилось, что все это не случайно. Не ради того, чтобы помочь Георгу, встречаются они, а ради друг друга. Он, Франц, не для того затеял эту историю с яблоками, чтобы проскользнуть сквозь сеть шпиков, ничто не угрожает им, никто не находится в опасности. Франц представил себе, что он просто купил две корзины яблок на первую зиму, которую они будут жить вместе, как делают сотни людей. Неужели для них закрыта всякая возможность участвовать в обыкновенной жизни? И всегда и всюду эта тень!
На миг, на один миг Франц усомнился и спросил себя – не стоит ли это простое счастье всего остального. Кусочек обыкновенного счастья сейчас вместо жестокой, беспощадной борьбы за конечное счастье всего человечества, к которому он вряд ли уже будет принадлежать. Так вот, теперь мы можем печь яблоки в нашей печке, скажет он Элли. Свадьбу они сыграют в ноябре, устроят пир горой. Они снимут две уютные комнатки в Гризгеймском поселке. Уходя утром на работу, он будет знать, Что вечером застанет Элли дома. Неприятности? Вычеты? Вечная гонка? Вечером в их хорошенькой квартирке он все это забудет. Даже стоя у станка, как сейчас, и штампуя пластинку за пластинкой, он будет повторять про себя: «А вечером – Элли!» Знамена? Свастики? Что ж, воздайте Гитлерово Гитлеру. Только не мешайте Францу и Элли находить радость во всем, что они будут переживать вместе: любовь и елку, воскресное жаркое и бутерброды из дому, маленькие привилегии для новобрачных, свой садик и экскурсии за город для рабочих. У них родится сын, и они будут рады. Конечно, придется немножко экономить, может быть, поездку на пароходе с обществом «Сила через радость» отложить до будущего года. На новую сдельную оплату в общем жить можно. Впрочем, постоянная гонка рано или поздно скажется на нервах. Да брось ты ворчать, остановит его Элли. Пожалуйста, без скандалов, Франц, теперь в особенности. Они ведь ждут второго ребенка. Но, к счастью, Франца сделали мастером; они даже смогут вернуть отцу Элли те небольшие деньги, которые у него заняли. Если бы только Элли опять не забеременела. Франц скажет: куда столько, ведь война на носу. Элли на этот раз будет все время плакать. Они будут прикидывать и так и этак, рассчитывать, насколько предстоящие расходы окупятся льготами для многосемейных. От этих подсчетов у Франца сжимается сердце, он и сам не знает почему: точно от смутного сознания предосудительности, неприличия таких подсчетов. В конце концов кто-то дает Элли хороший совет, и все улаживается. Они даже могут записаться на поездку по Рейну; мать присмотрит за старшим, а маленького возьмет сестра Элли. Эта сестра будет учить мальчика делать ручкой «хейль Гитлер». Элли – все еще хорошенькая, она нисколько не поблекла. Надеюсь, она накормит меня сегодня чем-нибудь вкусным, говорит себе Франц во время дневной работы, не какой-нибудь подогретой бурдой.
И вот однажды Франц, придя утром на фабрику, видит вместо Кочанчика незнакомого парнишку, заметающего отвал.
– А где же Кочанчик? – спрашивает Франц.
– Арестован, – отвечает ему кто-то.
– Кочанчик арестован? Да за что же?
– За распространение слухов, – говорит другой.
– Каких же слухов?
– Насчет Вестгофена. Там в понедельник несколько человек бежало.
– Как? Из Вестгофена? – изумляется Франц. – А я думал, там уже ни одного живого человека не осталось.
И тогда другой, спокойный тощий человек с сонным лицом – Франц на этого рабочего как-то никогда и внимания не обращал, – отвечает:
– Ты думал, они всех там приканчивают?
Вздрогнув, Франц бормочет:
– Нет, нет… Я просто думал – там всех уже повыпускали…
Штамповщик неопределенно улыбается и отворачивается. Как жаль, что мне сегодня вечером надо домой, думает Франц, вот бы поговорить опять по душам с таким, как этот. Франц вдруг вспоминает: да, он знавал раньше этого человека. Чем-то он в былом связан с ним, он давным-давно знал его, еще до Элли, до…
Франц невольно дернулся и все-таки испортил пластинку. Но зачем же вымещать досаду на Орешке, на этом пареньке, которого все хвалили, так как он уже через три дня выметал отвал из-под рук рабочих не хуже Кочанчика, который целый год был на этой работе.
Георг, стоя на площадке третьего номера, размышлял: а не разумнее ли было пойти пешком? Обойти окраинами? Может быть, так он скорее привлечет к себе внимание? Не расстраивайся из-за того, чего не сделал, советовал ему Валлау, это бесполезная трата сил. Незачем вдруг вскакивать, бросаться туда, сюда. Держись У спокойно и уверенно.
Но какой смысл давать советы, которые тебе самому не помогли? Он перестал слышать голос Валлау. Кажется, не было минуты, когда он не мог бы воскресить его интонацию, а теперь вдруг все смолкло. И грохот целого города не мог заглушить этого молчания.
Тем временем городские улицы остались позади. Георгу вдруг показалось невероятным, что он очутился здесь, Цел и невредим, среди бела дня. Это против всякой очевидности, всякой логики. Либо он был не он, либо… Ветер леденящей струей режет ему виски, словно третий номер вошел в другую зону. Наверняка за Георгом уже Давным-давно следят. И как это его угораздило встретить именно Фюльграбе? А может быть, Фюльграбе действовал по их приказу? Этот взгляд Фюльграбе, его движения и то, что он намеревался сделать… нет, так ведет себя только сумасшедший или человек, действующий по приказу гестапо. А почему же меня сразу не схватили? Очень просто – ждут, куда я пойду, хотят увидеть, кто меня примет.
И Георг уже начал разглядывать публику, стараясь отгадать, кто же его преследователь. Вон тот, с бородкой и в очках, похожий на учителя? Парень в комбинезоне монтера? Старик, везущий тщательно завернутое деревцо, – вероятно, для своего садика?
Вдруг на фоне городского шума начала выделяться музыка марша. Она быстро приближалась, становилась громче, навязывая свой рубленый ритм всем звукам и движениям; распахивались окна, из ворот выбегали дети, улица быстро наполнялась людьми. Вожатый затормозил.
Мостовая дрожала. С конца улицы доносились приветственные клики. Вот уже месяц, как в новых казармах был размещен Шестьдесят шестой пехотный полк. Каждый раз, когда он проходил маршем через какой-нибудь городской район, ему устраивали овацию. Вот они наконец: трубачи и барабанщики, тамбурмажор размахивает палочкой, лошадка под ним пляшет. Вот они! Наконец-то! Люди вскидывают руку, салютуя. Старик тоже салютует, зажав деревцо между коленями. Его брови вздрагивают в такт маршу. Его глаза блестят. Может быть, в полку служит его сын? Этот марш забирал за живое, у людей мурашки пробегали по телу, искрились глаза. Что это за магическая сила? Сила атавистических воспоминаний или полного забвения? Можно подумать, что последняя война, которую вел этот народ, была удачнейшим предприятием и принесла только радость и довольство! Женщины и девушки улыбаются, точно их сыновья и возлюбленные неуязвимы для вражеских пуль.
Как хорошо мальчики научились за две-три недели маршировать! А матери, которые высчитывают каждый пфенниг и всегда спрашивают: зачем тебе? Они, кажется, готовы, пока играет эта музыка, не задумываясь, отдать своих сыновей или куски своих сыновей. Зачем? Зачем? Этот вопрос они испуганно зададут себе, когда музыка умолкнет. Тогда вагоновожатый снова включит мотор, а старик заметит, что на деревце обломали веточку, и будет ворчать. А полицейский шпик, если он действительно здесь есть, вздрогнет.
Потому что Георг все-таки сошел с трамвая. Он идет в Бокенгейм пешком. Пауль живет на Брунненгассе, двенадцать. Ни побои, ни пинки не могли выбить из памяти Георга этот адрес, и даже имя жены Редера: Лизель, урожденная Эндерс.
Георг шагал теперь быстрее и увереннее, он ни разу не оглянулся. Наконец он остановился, чтобы перевести дух, перед витриной на улице, которая вела к Брунненгассе. Увидев свое отражение в витрине, он невольно вцепился в металлические перила перед ней. Какое восковое лицо у этого человека, держащегося одной рукой за медный стержень, и что это за чужое желтоватое пальто, которое словно тащит за собой и его, и его котелок.
«Имею я все-таки право пойти к Редерам? – спрашивал себя Георг. – Какие основания у меня надеяться, что я отделался от шпика, если за мной действительно слежка? И почему из всех людей именно Пауль Редер должен ради меня рисковать всем? И как это меня угораздило очутиться на скамейке рядом с Фюльграбе?»
V
На третьем этаже слева, возле двери, был прибит кусок картона, где в веночке, похожем на герб, тонко и четко были вычерчены имя и фамилия Редера. Георг прислонился к стене и уставился на эту надпись, словно у самого имени были светло-голубые глазенки, веснушки, коротенькие ручки и ножки, доброе сердце й трезвый ум. Пока он пожирал глазами надпись, он понял, что оглушительный смешанный шум, который он слышал уже снизу, доносится именно из этой квартиры. Катается туда и сюда детская игрушка, детский голос выкрикивает станции, а другой отвечает: «По вагонам!», жужжит швейная машина, и все эти звуки покрывает голос женщины, поющей хабанеру из «Кармен» так звучно, даже мощно, что Георгу кажется, будто это по радио, но затем на верхней ноте певица вдруг срывается. Все эти звуки не только не заглушались, но как бы подчеркивались маршем, который Георг только что слышал на улице, и он было решил, что марш доносится снаружи, но потом оказалось, что это радио на том же этаже, включенное, чтобы перекрыть голос Лизель. Георг вспомнил, что Лизель Редер еще девушкой подрабатывала как хористка. И Пауль не раз прихватывал его с собой на галерку, чтобы полюбоваться на Лизель в рваной юбчонке цыганки или в штанишках пажа. Лизель Редер всегда была тем, что принято называть славной девчонкой. Существование той пропасти, которая вдруг легла между ним и Редером, когда он переехал к Францу, непредвиденной, зияющей пропасти, он осознал впервые при виде жены Редера, при виде его домашней обстановки. Переезд к Францу означал для Георга не только то, что он должен учиться, усвоить себе определенный строй мыслей, участвовать в борьбе; это означало также, что отныне нужно иначе вести себя, иначе одеваться, вешать другие картинки на стену, находить красивыми другие вещи. Неужели Пауль сможет прожить всю жизнь с этой уткой Лизель? И зачем только они нагородили в своей квартире всякие этажерочки? Зачем они копят два года, чтобы купить диван? Георг теперь скучал у Редеров, и он перестал бывать там. А потом ему стало скучно с Францем, их комната казалась ему нежилой. Под влиянием этой путаницы чувств и неясных мыслей Георг, тогда совсем еще мальчик, не раз внезапно порывал с прежними друзьями, и его в конце концов стали считать взбалмошным парнем. Он-то, правда, находил тогда, что можно одним поступком загладить другой, одним чувством вытеснить противоположное.
Продолжая прислушиваться, Георг уже приложил палец к кнопке звонка. Даже в Вестгофене не было у него такой тоски по родным, близким людям. Он снова опустил руку. Имеет ли он право войти сюда, где его, быть может, примут, ни о чем не подозревая? Имеет ли он право, нажав сейчас звонок, быть может, разбросать по свету всю эту семью, поставить ее под угрозу тюрьмы и смерти, обречь детей на воспитание в нацистских приютах?
Теперь в его голове царила убийственная ясность. Это все усталость моя виновата, сказал он себе, она внушила мне мысль прийти сюда. Разве сам он всего полчаса тому назад не был совершенно убежден, что за ним следят? Или он думает, что таким, как он, легко отделаться от филера?
Он пожал плечами и спустился на несколько ступеней ниже. В это время он услышал, как кто-то поднимается с улицы. Георг отвернулся к стене и пропустил мимо себя Пауля Редера, а потом дотащился до следующего окна на лестнице, оперся о подоконник и стал слушать. Но Редер не вошел в квартиру; он тоже остановился, он, видимо, тоже прислушивался. Вдруг он повернул и стал спускаться. Георг сошел еще ниже. Редер перегнулся через перила и крикнул:
– Георг! – Георг не ответил и продолжал спускаться. Но Редер в несколько прыжков догнал его. Он крикнул еще раз: – Георг! – Он схватил его за руку. – Ты это или не ты?
Пауль засмеялся и покачал головой.
– Ты уже был у нас? Разве ты меня не узнал? А я подумал, да ведь это же Георг! Но как ты изменился… – Пауль вдруг добавил обиженно: – Три года тебе понадобилось, чтобы вспомнить о твоем Пауле! Нет, теперь уж я никуда тебя не отпущу.
Не ответив ни слова, Георг молча пошел за Редером. Оба они остановились у большого окна на лестнице. Редер оглядел Георга снизу доверху. Но если даже его что-то и беспокоило, лицо Пауля было слишком густо усеяно веснушками,чтобы отразитькакие-либо мрачные чувства.
Он сказал:
– До чего же ты зеленый. Да ты в самом деле Георг? – Георг пошевелил пересохшими губами. – Да? Георг? Тот самый? – спрашивал Редер совершенно серьезно. Георг усмехнулся. – Идем, идем, – сказал Редер. – Я теперь просто удивляюсь, как я тебя узнал на лестнице.
– Я очень долго болел, – сказал Георг спокойно, – рука вот еще до сих пор не зажила…
– Как? Пальцы оторвало?
– Нет, пальцы, к счастью, уцелели.
– Где же это случилось? Ты все время был здесь?
– Я работал шофером в Касселе, – сказал Георг. И он в нескольких словах спокойно описал, где и как это было, вспомнив рассказ одного из товарищей по заключению.
– Ну, – сказал Редер, – увидишь, Лизель просто обалдеет. – Он нажал кнопку звонка. Еще не смолк пронзительный звон, как последовала настоящая буря – захлопали двери, закричали дети, и он услышал восклицание Лизель: «Вот уж не ожидала!» Перед Георгом завихрились облаком цветастые платьица, личики, усыпанные тысячью веснушек, испуганные глазки, пестрые обои – затем стало темно и тихо.
Первое, что Георг снова услышал, был голос Редера, сердито кричавшего:
– Кофе, слышишь, дай кофе, завари свежего, а не бурду.
Георг приподнялся на диване. С большим трудом пришел он в себя от обморока, в котором было так безопасно, и очутился в кухне Редеров.
– Это со мной еще бывает, – объяснил он, – пустяки. Пусть Лизель не беспокоится насчет кофе.
Георг опустил ноги под кухонный стол. Он уложил забинтованную руку между тарелками на клеенку. Лизель Редер успела стать толстухой, в штанишки пажа она бы уже не влезла. Теплый, слегка грустный взгляд ее карих глаз скользнул по лицу Георга.
– Ладно, – сказала она, – самое разумное, что ты можешь сделать, это поесть. А кофе мы будем пить потом! – Она собрала поужинать. Редер усадил трех старших детей за стол.
– Подожди, Георг, я нарежу тебе кусочками, или ты справишься с вилкой? Не взыщи, у нас каждый день «воскресный» обед – из одного блюда. Хочешь горчицы? А соли? Хорошо поесть и хорошо попить – это укрепляет и душу и тело.
– Какой день сегодня? – спросил Георг.
Редеры засмеялись:
– Четверг.
– А ты ведь отдала мне свои сосиски, Лизель, – сказал Георг, который старался освоиться с этим обычным вечером, как осваиваются с величайшей опасностью. Он принялся есть здоровой рукой, Редеры тоже ели. То Лизель, то Пауль время от времени посматривали на него, и он чувствовал, что они ему по-прежнему дороги и что он им тоже остался дорог.
Вдруг он услышал шаги на лестнице, все выше, выше – он насторожился.
– Что ты слушаешь? – спросил Пауль.
Шаги стали удаляться. На клеенке, рядом с его больной рукой, белел круг, должно быть от горячей чашки,
Георг взял стакан и надавил им как печатью на побледневший кружок: будь что будет. Пауль, истолковавший это движение по-своему, откупорил бутылку с пивом и налил ему. Они медленно доканчивали ужин.
– Ты опять живешь у родителей? – спросил Пауль.
– Время от времени.
– А с женой вы совсем разошлись?
– С какой женой?
Редеры рассмеялись.
– Да с Элли.
Георг пожал плечами!
– Совсем разошлись.
Он оглянулся кругом. Сколько удивленных глазок! Он сказал:
– А вы за это время постарались.
– Разве ты не знаешь, что немецкий народ должен увеличиться вчетверо? – сказал Пауль, смеясь одними глазами. – Ты, видно, не слушаешь, что говорит фюрер.
– Нет, я слушаю. Но он же не сказал, что маленький Пауль Редер из Бокенгейма должен все это сработать один!
– Теперь, правда, уже не так трудно заводить детей, – сказала Лизель.
– А когда же это было трудно?
– Ах, Георг! – воскликнула Лизель. – Ты остришь, как прежде.
– Нет, ты прав, нас дома тоже было пятеро, а вас?
– Фриц, Эрнст, я и Гейни – четверо.
– И ни одной собаке до нас дела не было, – сказала Лизель. – Теперь все-таки видишь какое-то внимание.
Пауль сказал, смеясь одними глазами:
– Ну как же, Лизель получила через дирекцию пожелание счастья от государства.
– Вот и получила, я лично!
– Прикажешь и мне поздравить тебя с великими достижениями?
– Можешь шутить сколько хочешь, но всякие там льготы и прибавка – семь пфеннигов в час – это сразу чувствуется. Налоги нам отменили и вдобавок прислали вот такую стопку чудесных новых пеленок.
– Не иначе, нацистская благотворительность проведала, что трое старшеньких до дыр промочили старые, – сказал Пауль.
– Да не слушай ты его, – сказала Лизель, – знаешь, как у него глазки блестели и как он передо мной распинался, словно жених, когда мы ездили путешествовать этим летом.
– Путешествовать, а куда же?
– В Тюрингию, в Вартбурге побывали, и где Мартин Лютер был, видели, и состязание певцов, и Венерину гору. Это нам было тоже вроде подарка. Никогда в истории не было ничего подобного.
– Никогда, – сказал Георг. Он подумал: такого подлого обмана? Нет, никогда! Он сказал: – А ты, Пауль, как? Доволен?
– Пожаловаться не могу, – отозвался Пауль. – Двести десять в месяц – это на пятнадцать марок больше, чем в двадцать девятом, то есть в самый лучший послевоенный год – да и то я всего только два месяца так получал. А теперь уже не снизят.
– Это и по людям на улице видно, что есть работа, – проговорил Георг. Горло сжали спазмы, сердце ныло.
– Что ты хочешь… война! – заметил Пауль.
Георг сказал:
– Разве это не странное ощущение?
– Какое?
– Да что ты делаешь штуки, от которых люди потом умирать будут?
– Ах, каждому своя судьба! Один потерял, другой вдвое наверстал, – отмахнулся Пауль. – Если еще ломать голову над такими вещами… Молодчина, Лизель, вот это кофе так кофе! Пусть Георг почаще к нам приходит.
– Я за три года не пил кофе вкуснее. – Георг погладил руку Лизель. Он подумал: прочь отсюда, по куда?
– Ты всегда любил порассуждать, Жорж, – сказал Пауль, – ну, а теперь как будто стал потише. Раньше ты бы мне подробно начал объяснять, какие грехи у меня на совести. – Он засмеялся. – Помнишь, Жорж, ты раз пришел ко мне – щеки горят… Я был тогда безработный, но все равно, ты как с ножом к горлу пристал, чтобы я непременно купил у тебя… что-то про китайцев. Вот непременно я, и непременно купи, и непременно про китайцев!… Только не вздумай мне сейчас про испанцев размазывать, – продолжал он сердито, хотя Георг молчал. – Только с этим не приставай ко мне, ради бога! Как-нибудь там и без Пауля Редера справятся. Видишь? Уж на что они защищались, а все-таки их побили! Дело вовсе не в моих несчастных капсюльках… – Георг молчал. – И вечно ты ко мне со всем этим приставал, а меня это совершенно не касается.
Георг спросил:
– Раз ты делаешь капсюли для гранат, то как же не касается?
Тем временем Лизель прибрала со стола, накормила детей и заявила:
– А теперь скажите папе спокойной ночи и дяде Жоржу тоже скажите спокойной ночи. Я пойду ребят укладывать, а вы можете спорить и без света.
Георг решил: придется пойти на это! Разве у меня есть выбор?
– Слушай, Пауль, – сказал он, словно мимоходом. – Ничего, если я у вас сегодня переночую?
Редер отозвался, слегка удивленный:
– Ничего, а что?
– Знаешь, у меня дома скандал вышел, пусть немножко остынут.
– Можешь хоть жениться у нас, – сказал Редер.
Георг подпер голову рукой и между пальцами взглянул на Редера. Может быть, у Редера и бывало бы порой серьезное лицо, если бы не эти веселые веснушки.
Пауль сказал:
– А ты все еще лезешь на стену из-за всякого пустяка? И всегда ты носился с какими-то идеями, планами. Я тебе уже тогда говорил: меня ты не трогай, Жорж! Терпеть не могу бесполезных мечтаний, лучше думать о похлебке. А эти испанцы – они такие же, как ты. Я хочу сказать – такие, какой ты был раньше, Жорж. Теперь ты как будто угомонился. В твоей России у них тоже не все гладко. Сперва, правда, все выглядело так, что порой, бывало, и подумаешь про себя: «Кто знает, а вдруг и в самом деле?» Зато теперь…
– Что теперь? – переспросил Георг. И быстро закрыл глаза рукой. Но единственный острый взгляд сквозь пальцы успел попасть в Пауля, и тот запнулся.
– Ну да, теперь, ты же сам знаешь…
– Что знаю?
– Как там все пошло наперекос…
– Что пошло?
– Господи, ну чего ты ко мне пристал, не могу же я запомнить все эти имена.
Лизель возвратилась:
– Ложись-ка, Пауль. Ты не сердись, Жорж.
– Георг хочет сегодня у нас переночевать, Лизель. Он дома поругался.
– Ну уж ты и задира, – сказала Лизель. – Из-за чего поругался-то?
– Да это длинная история, – ответил Георг, – я расскажу тебе завтра.
– Ладно, хватит болтать, это ведь сегодня Пауль разошелся. Обычно он после работы совсем раскисает.
– Ну, понятно, – сказал Георг, – с него на работе семь шкур дерут.
– Лучше поднажать да заработать несколько лишних марок, – сказал Пауль. – Лучше сверхурочные, чем эти учебные воздушные тревоги.
– А как насчет преждевременной старости?
– При новой войне особенно не заживешься на белом свете. И не такая уж, я тебе скажу, все это веселая штука, чтобы очень за нее цепляться. Иду, Лизель. – Он огляделся и сказал: – Только вот что, Георг, чем я тебя накрою?
– Дай мне мое пальто, Пауль.
– Какое у тебя чудное пальто, Жорж. Да ты клади подушечку на ноги, только не запачкай Лизель ее розочки. – Вдруг он спросил: – Между нами, из-за чего же все-таки у вас скандал вышел? Из-за девушки?
, – Ах, из-за… из-за малыша, из-за Гейни. Ты знаешь, как он был всегда ко мне привязан!
– А, из-за Гейни… Кстати, я его на днях встретил, вашего Гейни. Ему, наверно, теперь лет шестнадцать – семнадцать? Все вы, Гейслеры, парни хоть куда, но Гейни прямо красавец вышел. Говорят, ему совсем голову задурили: все мечтает в эсэсовцы поступить, в будущем, конечно.
– Как? Гейни?
– Тебе, наверно, все это лучше моего известно, – сказал Редер; он опять сел за кухонный стол. Теперь, когда он снова смотрел в лицо Георгу, у него мелькнула та же нелепая мысль, что и на лестнице: точно ли это Георг? Лицо Георга опять совершенно изменилось. Редер не мог бы сказать, в чем перемена, так как лицо было очень тихое. Но в этом и была перемена, как в часах, которые идут-идут – и вдруг остановятся.
– Раньше у вас были скандалы оттого, что Гейни за тебя стоял, а теперь…
– Это правда, насчет Гейни? – спросил Георг.
– Как же ты не знаешь? – сказал Редер. – Разве ты не из дому? – И вдруг у коротышки Редера сердце отчаянно заколотилось. Он вскипел: – Этого еще не хватало, морочить мне голову! Три года тебя нет, а потом ты приходишь и плетешь вздор. Каким был, таким остался. Морочишь голову своему Паулю!… И тебе не стыдно! Что ты там еще натворил? А уж что натворил, это я вижу, нынче дураков нет. Дома ты и не был! Так где же тебя носило все это время? Видно, здорово влип? Удрал? Да что с тобой, по правде, стряслось?








