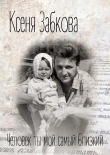Текст книги "Трюфельный пес королевы Джованны"
Автор книги: Анна Малышева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Это очень тяжело, ужасно, будто половина жизни отмерла и ампутирована. И я была права, он ушел к женщине. По-другому и быть не могло. Они живут вместе… Но меня это не волнует! Плохо то, что он сына приглашает к себе в гости, а тот, конечно, приезжает! Меня это бесит! Я готова сама туда поехать и все там разгромить!
Александра слушала признания приятельницы молча.
Советы были неуместны, так она считала. Да вряд ли Марина нуждалась в советах, скорее, ей просто нужен был терпеливый слушатель. Задыхаясь от негодования, она твердила:
– Какой негодяй, ах, какой! Знакомит сына с этой гадиной, настраивает ребенка против меня! Знаешь, что мне сын сказал?! «Ты, мама, больше любила свое серебро, чем отца и меня, потому так все и случилось!» Сам бы он не додумался до такой глупости! Это ему Сергей напел!
– Ребенок-то у тебя уже великовозрастный, – несмело напомнила Александра. – У него и свое мнение может быть.
– То есть ты тоже так думаешь?! – взвилась Марина.
– Да!
Художница дала этот прямой и неприятный ответ, не сомневаясь, что приятельница обидится. Но та, вопреки ее ожиданиям, внезапно успокоилась и совсем другим, мирным тоном спросила:
– Как ты считаешь, мне надо запретить сыну туда ходить? Пусть бы встречались с отцом на нейтральной территории.
– Мне кажется, это уже не твое дело, – все с той же прямотой ответила художница. – Отец и сын могут встречаться, где им удобно. Если ты начнешь ставить условия и рогатки, это будет странно… И глупо.
С тех пор миновало два года, Марина благополучно развелась, успокоилась и никогда не вспоминала о бывшем муже иначе как с усмешкой. Ее, казалось, смешило то, что раньше ранило. Александра тоже предпочитала не касаться этой темы. Она видела, что приятельница достигла душевного равновесия, вновь находит радость в своем хобби, пишет на эту тему статьи, общается в Интернете, ведет блог, посвященный старинному серебру… Появился ли у нее мужчина? Марина ни о ком не упоминала. Возможно, предполагала художница, она и встречалась с кем-то, но ничего серьезного в ее жизни не происходило. «Иначе она поделилась бы со мной!» Отношения с бывшим мужем были как будто ровные. Материальных претензий у них друг к другу не было. Сын жил своей жизнью, и теперь Марина ревновала Леонида куда больше к его девушке, чем к новой жене Сергея. О последней она даже мимоходом не упоминала.
«И это все… Жизнь как жизнь!» Поворочавшись с боку на бок, сев и включив лампу над постелью, Александра взглянула на часы. Время близилось к полуночи, а сна, как назло, не было ни в одном глазу. «Конечно, неприятности были и у Марины, как у всех людей, но ничего особенного… Иначе я знала бы. Она доверяла мне, уж неизвестно почему. Делилась со мной, как с близкой подругой, хотя мы и не были подругами, не дотягивали наши отношения до этого. Но ничего, ровным счетом ничего такого за ней не водилось, чтобы вокруг закипели страсти и кто-то толкнул ее под поезд! Или же она была куда более скрытной, чем я думаю?»
Александра погасила свет, снова легла, заставила себя закрыть глаза. Ее мучила тревога, которую не удавалось обмануть никакими уговорами. Художница давным-давно приучилась засыпать, оттеснив все черные мысли на дальний план сознания, обманув свои страхи размышлениями на посторонние приятные и просто абстрактные темы. Сейчас старый рецепт не срабатывал.
«Что я скажу завтра? О чем меня будут спрашивать? Проклятая красная куртка! Нелепость, совпадение… Но какое злосчастное! Меня никто никогда там не видел… Могут перепутать с кем угодно. Завидев издали знакомого человека, узнаешь его уже по походке, по манере размахивать руками, сутулиться или, напротив, держаться прямо. А тут – белое пятно, рисуй на нем что угодно! Вот этот пропойца и нарисует вместо той женщины – меня, долго ли? Ах, если бы можно было не ехать! Как бы я хотела больше никогда не бывать в том проклятом поселке!»
Вконец измучив себя тревожными мыслями, устав оправдываться перед пустотой, женщина незаметно задремала.
Ее ноги утопали в лисьем меху и все же зябли: от каменных плит пола тянуло стужей. Комната, где она оказалась, была залита солнечным светом, матовым, спокойным, зимним, как определила Александра. Ей не нужно было вставать с кресла, в котором она ежилась, тщетно пытаясь согреться под грудой шерстяных одеял, и подходить к окну, глубоко утопленному в каменной стене мощной кладки, чтобы определить время года. Опытный глаз художницы не нуждался в подобных уточнениях.
Ей было холодно, как никогда в жизни, – вот что терзало ее больше всего в этом незнакомом месте. Комната, обширная и неуютная, выстыла насквозь, и так же заледенели руки и ноги Александры. Она натянула на грудь одеяло, подбитое мехом, погрузила в него закостеневшие пальцы. Ощущение шелковистых волосков на коже ладоней было таким реалистичным, что Александра почувствовала легкую дурноту. Сон (она осознавала все происходящее как сон) был настолько ярок и полон чувственных ощущений, что навевал страх.
Впрочем, ее растущее беспокойство имело и другой источник. Александра сразу обратила внимание на фигуру в дальнем конце комнаты, там, куда не прокрались еще бледные солнечные лучи, медленно путешествующие по полу. У большого очага, края которого были выложены серым обтесанным песчаником, в деревянном кресле сидел мужчина. Сперва Александра приняла его за статую, так он был неподвижен. Затем за монаха – ее озадачила его черная одежда: ниспадавший до пола плащ с капюшоном, откинутым на широкие плечи. Мужчина созерцал пепел в очаге, его свинцово-бледное лицо было искажено гримасой тайной мучительной мысли. Внезапно он заговорил – сам с собой, не с Александрой, которую не замечал. Женщине было ясно, что, находясь в этой комнате, она одновременно существует очень далеко отсюда и не может быть видима этим человеком.
Мужчина в черном плаще говорил, не сводя угрюмого взгляда с пепла в погасшем очаге. Его речь, в которой Александра немедленно узнала итальянский, лилась бегло, но была отрывиста и внезапно замирала, словно обрубленная невидимым клинком. Женщина, знавшая разговорный итальянский, едва понимала язык обитателя комнаты, порою витиеватый, порою откровенно грубый. Вместе с тем смысл произносимых мужчиной слов отражался у нее в сознании все яснее.
– Мне вменяется в обязанность спрашивать у больного, исповедовался ли он, причастился ли Святых Тайн, и лишь затем оказывать ему помощь… Если больной выздоравливает – помогли, конечно, Святые Дары. Если умирает – виноват я, врач.
Он замолчал, кривя губы, и вновь заговорил, насмешливо и гневно:
– Они платят чумным докторам, чтобы те оставались в городе до конца эпидемии, а не бежали, как бежали остальные… Но кто остается? Самые худшие медики, неспособные найти для себя лучшей доли… Юнцы, едва со школьной скамьи, ищущие славы и золота, еще не верящие в то, что сами могут умереть… Мне, известному врачу, они платят двести флоринов в год. Двести флоринов! В обычный год я зарабатывал пятьдесят. Каково?
Мужчина горько рассмеялся и встал. Он оказался высокого роста. Его суровое лицо, изможденное, бескровное, черные блестящие глаза, глубоко запавшие в орбиты, кустистые брови, почти сросшиеся на переносице, – все производило впечатление упрямой, почти свирепой силы. Он вплотную приблизился к креслу, в котором съежилась Александра, и женщина окончательно убедилась в том, что присутствует во сне невидимо.
– Двести флоринов! – повторил врач, качая головой с видом горестного недоумения. – А между тем я по-прежнему ничего не могу и ничего не знаю… Вымерла половина города, а я твержу все одно и то же, делаю одно и то же и не могу ничему помешать и никого спасти. Ги де Шолиак, знаменитый мой коллега, личный врач папы, также признал, что нам, врачам, противопоставить чуме нечего… И все же нам платят, из страха остаться вовсе без помощи… Золото! Кому оно сейчас нужно, если город вымер, дома стоят брошенные, и в каждый можно войти, чтобы присвоить себе осиротевшее состояние! Двести флоринов! Хороша цена за мою жизнь! Уже завтра она, быть может, не будет стоить ни гроша! Ах, безумцы!
Он рассмеялся лающим смехом, который, словно скальпель, пронзил женщину до костей и заставил содрогнуться всем телом. Ни одеяла, ни меха не согревали в этой выстуженной комнате, рядом с человеком, одетым сплошь в черное.
Александра попыталась определить его возраст и затруднилась с ответом. Он мог быть ее ровесником, мог оказаться на десять лет старше или моложе. У врача было лицо с резкими чертами, некрасивое, раздражающее взгляд. Сильно вдавленные виски, из-за чего круглый лоб казался излишне выпуклым; отвисшая нижняя губа, притом что верхняя была очень узка; крупный орлиный нос. Особенно странны были глаза: круглые, до того черные, что на фоне радужной оболочки невозможно было различить зрачка. Веки припухшие и слегка покрасневшие, словно от недавно пролитых слез или застарелой бессонницы. Нижние веки почти такого же размера, как верхние, непомерно развитые, отчего глаза доктора приобретали сходство с глазами лягушки или ящерицы. Седеющие черные волосы, остриженные в кружок, придавали этому лицу жутковатую строгость, как траурная рамка.
– Гиппократ, Гален, Авиценна! – произнеся эти имена, мужчина сжал кулаки и судорожно потряс ими, словно пытаясь раздавить нечто невидимое. – Они согласились с тем, что организм во время эпидемий отравляется ядовитой пневмой, испарениями болот, зараженных земель, мертвых тел. А я, дабы не лишиться профессии и клиентуры, должен приплетать к этой теории планету Сатурн, этого Всадника Апокалипсиса, высчитывать ее приливные циклы и отождествлять их с ядовитыми испарениями болот, которые опустошили город?!
На берег выбросился огромный кит, распространивший вокруг себя нестерпимое зловоние… Мои коллеги в один голос твердят, что от него-то и началась чума! Кто-то уверяет, что в начале января ветер неожиданно принес аромат цветущего розового сада, он-то и предвещал чуму… Хотя все знают, что прошлой осенью двадцать генуэзских кораблей, пришедших из зачумленной Каффы, плавали по Адриатике, распространяя болезнь во всех портах, где их соглашались принять. Генуя, не принявшая своих сыновей, отсрочила эпидемию лишь на два месяца. Марсель, открывший генуэзцам порт, пал немедленно. Зачумленные корабли с мертвыми экипажами были изгнаны и навсегда исчезли в море, где продолжают и по сей день носиться по воле волн, с разодранными парусами, как адские колыбели, баюкающие чуму… Пала Венеция… Заражен Авиньон, папская резиденция… Мальорка… Тоскана… Пиза… Отовсюду одни и те же вести!
Мужчина устремил непроницаемый взгляд черных глаз на окно, затянутое вощеной бумагой, и с невыразимой горечью тяжело обронил:
– Неаполь!..
Подойдя к окну, он с неожиданной порывистостью ударом кулака прорвал затягивавшую проем бумагу и воскликнул:
– Абу Бекр Ар-Рази, светоч врачей и философов, завещал нам на случай мора правило «дальше, дольше, быстрее»! Что я могу добавить к этому? Так я и говорю: «Бегите от эпидемии как можно дальше и быстрее. Оставайтесь вдали от города дольше. Не употребляйте в пищу лук-порей, капусту, воду, набранную из колодца вблизи кладбища. Запритесь в своем поместье, питайтесь бульоном и прикажите травить нищих свирепыми псами, чтобы чума не посмела и глаз поднять на ваши окна!» – Он горько расхохотался: – Совет отличный, но для богачей! А что я могу сказать иным, тем, кто не может покинуть город? Что посоветовать тем, кто привязан к нему бедностью, или торговлей, или иным ремеслом? Поставить блюдечко с молоком в комнату больного, чтобы молоко поглотило заразу? Расплодить пауков, чтобы они сушили яд, разлитый в воздухе? Жечь костры и окуривать дома дымом? Звонить в колокола и палить из пушек, чтобы разогнать зараженный воздух? Выпустить в комнате птичку, чтобы она взмахами крылышек отогнала чуму?!
Внезапно щеки Александры коснулось что-то легкое и теплое, как ей показалось – первое теплое прикосновение в этой ледяной комнате. В тот же миг крошечная желтоватая птичка, спорхнувшая с потолочной балки, опустилась на черный рукав мужчины и нежно чирикнула, будто спрашивая о чем-то. Суровое лицо врача немедленно смягчилось.
– Вот и я пал жертвой этого слабоумного поветрия, – сказал он, обращаясь к птице. – Но ты, бедняжка, не разгонишь своими слабыми крылышками чуму, нет! Ты сделаешь лучше: убережешь меня от страшного одиночества, от участи изгнанника, худшей, чем у монаха, отрекшегося от радостей мира!
В этот миг дом до самого основания потряс густой, глубокий удар колокола, раздавшийся, как показалось художнице, над ее головой. Птичка испуганно вспорхнула и, перелетев через всю комнату, уселась на краю очага, на закопченном каменном выступе, усыпанном пеплом. Гримаса исказила лицо врача.
– Laudo Deum, populum voco, congrego clerum,
Defunctum ploro, pestem fugo, festa decoro![6]
Его резкий голос отозвался под деревянным потолком, пересеченным массивными балками, и внезапно сник. Врач ссутулился и подался вперед, положив руку себе на горло. Он с тоской глядел в окно, в проем, заклеенный прорванной посередине вощеной бумагой.
– Нет, я ничего не могу! Ничего! Пусть молятся об исцелении святому Себастьяну, Роху из Монпелье, Пресвятой Деве… Мне подавайте мои двести флоринов, иначе я и концом трости до больных не дотронусь!
Каркающий сухой смех, вырвавшийся из горла врача, был перекрыт очередным ударом колокола. Когда гул, отразившийся от стен, умолк, мужчина с плохо сдерживаемой яростью воскликнул:
– Роху из Монпелье, да, пусть молятся этому новоявленному чудотворцу! Я не могу, подобно ему, исцелять чумных больных молитвой и крестным знамением! Я всего лишь лекарь, протиравший штаны в Париже, в университете, и в моем распоряжении против чумы имеются лишь скальпель, чтобы вскрывать бубоны, раскаленная кочерга, чтобы их прижигать, и териак, чтобы очищать отравленную кровь… Териак…
Он покачал головой, словно возражая невидимому собеседнику, и, приблизившись к столу, стоявшему по левую руку от замершей Александры, взял толстую книгу в черном переплете.
– Териак – лекарство не для всех, для самых богатых, – пробормотал мужчина, переворачивая пергаментные страницы узловатыми длинными пальцами. – Исконный препарат, изобретенный царем Митридатом Евпатором, включает в себя пятьдесят четыре компонента. Андромах, врач императора Нерона, включил в него мясо гадюки, опиум, гиацинт и бобровую струю. В его составе уже семьдесят четыре части. Великий Гален, отец всех врачей, добавил в состав настойку мака.
Черные блестящие глаза врача не отрывались от страниц рукописной книги, которую он продолжал перелистывать, рассеянно, словно бессознательно.
– А вот последняя книга, которую мне прислали из Кордовы, «Лечение отравлений» Рамбама. Мудрец Рамбам! Знали бы мои сограждане, что я держу у себя книги этого еврея, да не только лечебники, а и «Путеводитель растерянных»! Ведь спроси последнего голопузого мальчишку на улице, кто наслал чуму на христиан, и он ответит: «Евреи!» На меня и так косятся с тех пор, как я испросил для себя позволения вскрывать трупы… У Рамбама описано множество «больших» и «малых» териаков. Но даже самый меньший и доступный из них, всего лишь из двенадцати веществ, сейчас стоит на вес золота! Ангеликовый корень, валериана, кардамон, опий, мирра, мед… Все это добывается ценой лишений, изводится без меры, а число жертв между тем не убывает…
Прикрыв рукописную страницу ладонью, врач покачал головой:
– Беднякам я говорю: «Жуйте чеснок!» По моему мнению, пользы от этого грошового средства не меньше, чем от «большого» териака, куда не добавляют разве что кал африканского слона и мочу индийской обезьяны! Вонь чеснока отгоняет чумные миазмы, препятствуя заражению. Великий Гален держался того же мнения…
Третий удар колокола вновь сотряс здание до основания. Тяжелый густой звук отдался в костях у Александры. Врач вздрогнул всем телом и, словно очнувшись, торопливо закрыл книгу и положил ее на стол, заваленный другими фолиантами, заставленный склянками и колбами, пустыми и наполненными.
– Пора в обход, – пробормотал он, наклоняясь и вынимая из-под стола кожаный мешок.
Развязав его, мужчина извлек устрашающего вида маску из выдубленной кожи, сшитую наподобие птичьей морды, с длинным загнутым книзу клювом. На месте глаз красовались круглые стеклянные окуляры. Когда он надел маску, закрепив ее на затылке и вокруг шеи ремнями, и поднял капюшон черного плаща, весь его облик принял такой адский колорит, что Александре и вчуже сделалось жутко. Доктор завершил свой туалет, натянув перчатки из грубой кожи с раструбами, доходящие до локтя. Он взял мешок, вооружился длинной тростью с обитым железом наконечником, и направился к двери, ступая широко и решительно. Ничто в его походке не выдавало подавленности, только что владевшей им.
Когда за врачом закрылась дверь, Александра, ошеломленная всем увиденным и услышанным, предприняла попытку встать. Ей казалось, что тело навсегда слилось с креслом и сделалось неподвижным, до того она окоченела. Холод проник до самого сердца, она чувствовала страшную, тягостную тоску, словно мужчина в черном плаще сумел заразить ее горечью бессилия, так ясно осознаваемого им.
Однако ей удалось согнуть ноги, опереться на резные деревянные поручни кресла и, встав, выпрямиться. Тела своего она почти не чувствовала и двинулась к окну неровной походкой сомнамбулы. Ее неодолимо влекло желание выглянуть из этого окна, увидеть мир, где она оказалась волею сна и который был так реален.
Достигнув оконного проема, женщина приникла к отверстию в бумаге и замерла.
С самого первого мгновения, когда она только оказалась в этой комнате, увидела ее хозяина и оценила обстановку, Александра поняла, что сон унес ее очень глубоко в прошлое – очевидно, во времена «черной смерти», наполовину опустошившей в середине четырнадцатого века европейский континент. Некоторые высказывания, вырвавшиеся из уст мужчины, позволили ей сделать это предположение. Сам его костюм, облик, который он принял напоследок, подтверждал ее догадку. Как-то в одной из небольших кунсткамер Германии, которую ей довелось посетить, Александра видела облачение чумного доктора, остававшееся неизменным вплоть до новых времен. В клюв устрашающей маски закладывались ароматные травы и специи с целью предотвратить заражение через вдыхание чумных миазмов. Длинная трость служила для того, чтобы касаться больных. Перчатки, высокие сапоги, кожаный или провощенный плащ – все было предназначено для защиты от заразы, и все это было совершенно бесполезно. Чумные доктора, вербовавшиеся по приказу папы («Какого?» – судорожно вопрошала она свою память), чтобы оставить в пораженных заразой городах хоть какое-то подобие помощи, были смертниками. Они не могли помочь больным, не могли спастись сами. Их подвиг, далеко не бескорыстный, впрочем, был бессмысленным. Церковь держала за руки медицину, не позволяя проводить даже самые безобидные исследования. Особенной милостью для доктора считалось разрешение на вскрытие трупов – занятие, противоречившее христианской этике. Такое послабление объяснялось лишь всеобщей обреченностью.
Она была готова увидеть за окном нечто необыкновенное, но открывшаяся перед нею картина ошеломляла. Александра два раза была в Неаполе и сразу узнала бухту, тонущую в розоватом жемчужном тумане, очертания Кастель-Нуово, грозного замка, возведенного на взморье. Она искала взглядом колокольню Санта-Кьяры, но не находила ее. А вот Кастель-дель-Ово, крепость на островке, соединенная с городом узкой насыпью, выстроенная Роджером Сицилийским. Александра нашла взглядом холм Сант-Эльмо, и крепость на нем – звездообразный замок с крепостными валами. Она видела море черепичных крыш, жмущихся вокруг холма, словно птенцы под могучими крыльями матери. Видела очертания Везувия, полустертые утренним туманом…
Дом, в котором оказалась сама художница, был расположен на естественном возвышении, как она убедилась, взглянув вниз. Узкий, в одно окно по фасаду и в четыре этажа высотой – Александра выглядывала из окна, расположенного под самой крышей, – дом соединялся с соседними, близко стоящими домами массивными балками. Улица внизу, на уровне первых этажей, тонула в тени. Там, среди живописных груд мусора, вдоль стен лениво струились извилистые ручейки, тут и там собиравшиеся в зеленые, зацветшие лужи. Улица была безлюдна, окна окрестных домов наглухо закрыты ставнями. Смрадный дух отбросов и помоев, слегка ослабленный холодом, расстоянием и соленым морским бризом, все же достигал окна четвертого этажа, заставляя Александру морщиться.
«Там, внизу, – подумалось ей, – в тесном плену сырых стен, покрытых плесенью, стен, которых никогда не касается солнце, не обдувает ветер, запах, должно быть, становится нестерпимым…»
Море было рядом, оно дремало в сотне-другой метров, безмятежно, словно ничего не ведая о случившейся в городе беде. Его животворное дыхание не в силах было разогнать миазмы, которыми пропиталась сама мостовая, почти невидимая под слоем мусора, источавшая заразу. Александра заметила наконец внизу какое-то движение и, присмотревшись, с отвращением отпрянула от окна. Крысы, устроившись на вершине мусорной кучи, раздирали на части тощий кошачий труп. Заставив себя вернуться к окну, художница оперлась о подоконник и снова оглядела длинную извилистую улицу. Никаких признаков жизни она не заметила. Лишь одно открытое окно в доме на углу: на подоконнике стояло растение в горшке, похожее на лавр, на полусгнившей балке, выступающей из замшелой стены, сушилась простыня в темных пятнах.
С колокольни церкви, расположенной, очевидно, сзади дома, в котором оказалась Александра, упал очередной гулкий удар, за ним второй, третий. Колокол звал прихожан к службе, но ни одна дверь не открылась, ни в одном окне не мелькнуло лицо. На улице никто не появился.
Глава 7
Она вставала так рано только в том случае, если спешила на самолет. В пять утра, нашарив и заглушив верещавший над ухом будильник, женщина с тоскливым стоном свернулась клубком под одеялом. Полежав несколько минут, все же заставила себя выбраться из постели. Александра все делала через силу, принуждая себя умываться, одеваться, наливать воду в чайник. Чашка кофе ее не оживила, она по-прежнему ощущала страшную усталость, разбитость не столько физическую, сколько душевную. Родительская квартира казалась ей все более чужой, она чувствовала себя здесь лишней, неуместной. И это было еще тяжелее сознавать из-за обещания родителям задержаться у них надолго.
Александра старалась двигаться тише, но мать, караулившая ее пробуждение, немедленно появилась на кухне.
– В такую рань, куда ты? – спросила она, запахивая на груди халат. – Какие могут быть дела в пять утра?
– Я еду за город.
– Из-за Марины? – догадалась мать и, разом помрачнев, добавила: – Вот ведь история… Почему ты у меня такая невезучая?
– Не повезло в данном случае ей, – возразила художница. – От меня требуется немногое, только поговорить со следователем.
– Я боюсь, ты ляпнешь что-нибудь и у тебя будут неприятности!
Александра, не желая продолжать разговор на тягостную для нее тему (мать словно читала ее собственные опасения), поднялась из-за стола:
– Во второй половине дня я вернусь, и мы обязательно куда-нибудь сходим. Все равно куда. Я давно нигде не бывала. Вы с папой пока решите…
– Только не в музей! – предупредила мать. – Хватит с тебя музеев!
– Хоть в цирк! – согласно кивнула художница. – Мне нужно отвлечься… Ты совершенно права.
Все время, пока она ехала в полупустом метро, дожидалась на платформе вокзала электрички, ее терзала смутная тревога, которая усугублялась чувством вины. Усевшись в вагоне, где, кроме нее, оказалось всего двое пассажиров, Александра с досадой уставилась в окно.
«Почему я чувствую себя виноватой и боюсь встречи с этим молодым человеком? Ведь я спала, когда все это случилось…»
Она то застегивала, то расстегивала молнию на куртке. Привычная, удобная вещь, с которой женщина давно сроднилась, внезапно стала ее тяготить. Ничего другого на смену у нее не было, немногочисленная верхняя одежда осталась в мастерской. Художница попросту не стала обременять себя лишними вещами, захватив только самые необходимые книги и бумаги. Сейчас она жалела об этом. «Что бы мне, как нормальной женщине, взять с собой парочку тряпок… Не резала бы сейчас глаз людям… Да еще встреча со следователем мне предстоит… А может, хорошо, что я не стала переодеваться, это было бы подозрительно… Зачем прятать концы в воду, если никакой вины на мне нет?»
Ужасно было то, что она до конца не верила своим собственным уговорам. Вину Александра ощущала ясно. Это именно она смутила Марину, показав ей фотографию серебряного пса, и спровоцировала ее на путешествие, из которого приятельница вернулась уже мертвой… Александра твердила себе, что обе они стали жертвами случайности… Напрасно. На душе у нее было так тяжело, словно она и впрямь совершила преступление.
В этом подавленном состоянии она и сошла на платформе, где ее встречала, по предварительному уговору, Елена. Женщина сердечно ее обняла, как родную, и выдохнула Александре на ухо:
– Леня пришел, вон стоит.
Высвободившись из ее объятий, художница увидела на пустой заснеженной платформе высокого парня в парке с поднятым капюшоном. Он неуверенно приблизился, явно колеблясь, как правильнее следует поздороваться. Александре показалось, что он хотел подать ей руку, но в последний момент сдержался и произнес отрывисто:
– Леонид.
Он был совсем не похож на мать, как сразу отметила, представившись в ответ, Александра. Веснушчатый, нескладный, с лягушачьим растянутым ртом, он ничем не напоминал изящную смуглую брюнетку Марину. И голос его, басовитый, как будто нарочито низкий, не напоминал резкий, чуть дребезжащий тембр, свойственный его матери. «Покойной матери…» – напомнила себе Александра, чувствуя, как сжимается сердце.
– Вы были с мамой прошлым утром? – напористо спросил он, и женщина, качнув головой, ответила:
– Нет, нет! То есть… Я спала, когда это случилось… Она ушла, не разбудив меня…
– Поговорим дома! – вмешалась Елена, нервно наблюдавшая их встречу. – Холодно сегодня!
И впрямь, из ближнего леса тянуло стужей, пробирающей до костей. Все трое по очереди спустились с платформы по обледеневшей лестнице. Александра, ежась в куртке на «рыбьем меху», замыкала шествие, а Елена возглавляла его. Женщина, приподнимая полы длинной шубы, чтобы не запнуться на ступенях, оглядывалась и сдобным голосом повторяла:
– Сейчас выпьем чаю… И посидим, обсудим все спокойно… Нам ссориться друг с другом нельзя…
– Я и не… – начала художница, но Леонид, шедший чуть в стороне, прервал ее на полуслове:
– А почему нельзя? Если есть из-за чего, можно!
– Снова ты… – расстроилась Елена и, остановившись, притянула к себе парня за рукав куртки: – Смотри, вон там, правее, ее нашли… Я показывала уже… Не могу туда спокойно смотреть, мне все мерещится, что там еще тело лежит…
– А мне что прикажете, посочувствовать вам? – огрызнулся парень, высвобождая руку. – У вас, стало быть, горе, а у меня – так, кот начхал?
– Какой же ты ядовитый, – упрекнула его женщина, впрочем, матерински-снисходительным тоном. – И всегда такой был! Вроде бы взрослый уже, женатый… Пора бы успокоиться немного!
– Да вовсе я не женат, что вы придумываете? – буркнул Леонид. – Просто живем вместе.
– Да, у вас сейчас это принято! – улыбнулась Елена.
– Глядя на старшее поколение, учимся! Пример берем, всем селом! Не вам бы говорить…
Последнее, грубое замечание, явно метившее в хозяйку дома, семейно живущую со своим жильцом без всякой регистрации отношений, ничуть Елену не смутило. Она все так же добродушно улыбнулась в ответ, словно безмолвно отметая нападки. И Леонид, не встретив с ее стороны агрессивной и, видимо, ожидаемой им реакции на свои замечания, умолк. Так, в молчании, они пошли дальше. Немногие прохожие, встреченные ими по пути, здоровались с Еленой и окидывали жгуче любопытными взглядами ее гостей. Александра была рада переступить наконец порог дома.
Птенцов, вопреки ее ожиданиям, находился на кухне, а не лежал в постели. Вид у него был болезненный, глаза запали, приняли выражение терпеливой муки. Он сидел в кресле, рядом с топившейся печью, его ноги укрывал плед, несмотря на то что в комнате было тепло. На мужчине красовался все тот же помятый вельветовый пиджак. Сегодня Птенцов был чисто выбрит, что еще больше подчеркивало его впалые щеки. Он приветствовал вошедших сидя, взмахом руки, а завидев Александру, воскликнул:
– Вот как скоро довелось нам увидеться! Человек предполагает, а Бог…
– Предполагать вообще занятие пустое! – поддержала его сожительница и, подойдя к креслу, заботливо поправила съехавший на сторону плед. – Как ноги?
– По-прежнему, – в голосе мужчины зазвучали капризные ноты, свойственные больным, старикам и детям. – Надо мазь поменять, эта уже не помогает.
– К врачу тебе надо, сколько лет можно одно и то же твердить! – вздохнула Елена.
– Я по врачам не ходок, – усмехнулся Птенцов. – Помереть и без них сумею, а выздороветь мне уже не грозит.
– Одно и то же! – отмахнулась женщина и, торопливо схватив заварочный чайник, отправилась в сени.
– Садитесь же, – настойчиво произнес Птенцов. – Позавтракаем вместе, а потом уже вы с Леней поедете в город…
– Мы вместе?! – испуганно воскликнула Александра. Недружелюбие, явственно проявляемое молодым человеком, смущало ее все сильнее. Сейчас Леонид не смотрел в ее сторону. Отойдя к окну, он занимался тем, что отколупывал тонкую ледяную корку, застывшую вдоль нижней кромки старой рамы.
– Да, вас обоих там хотят видеть, что поделаешь. – Птенцов, напротив, держался с нею необыкновенно сердечно, в его голосе звучало сочувствие. – Но ничего страшного, не бойтесь… Конечно, этот дурень Виктор наговорил полицейским, что было и чего не было, у него же день с ночью путается, протрезветь не может уже много лет… Но они, надеюсь, разберутся, кого слушать, кого не стоит… Лена вчера тоже показания давала, и я…
– Пришлось покривить душой, есть такой грех, но это же для пользы дела! – откликнулась хозяйка, вернувшись из сеней. Подойдя к печке, она ополаскивала заварочный чайник крутым кипятком. Елена все делала быстро, ловко, играючи, в ее полных белых руках каждая вещь становилась красивее. Умытый дешевенький чайник, казалось, улыбался. – Чуточку самую приврала… Это чтобы у вас с вашей красной курткой неприятностей сегодня не вышло.
У Александры заколотилось сердце: