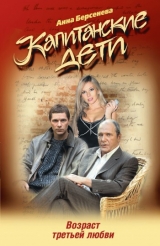
Текст книги "Возраст третьей любви"
Автор книги: Анна Берсенева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 11
Гринев работал в системе МЧС сравнительно недавно, всего год. И положение его в отряде было не совсем определенным, каким-то промежуточным.
Не в том смысле, что оно было шатким, вовсе нет. У них вообще это было не принято: какие-то шаткие положения, или подсиживания, или интриги. То, чем все они занимались ежедневно, как-то само собою исключало возможность подобных отношений.
Все дело было в том, что он не был кадровым военным; это и создавало некоторую двусмысленность. Хотя внутренне Гринев никакой двусмысленности не ощущал. Он так же, как все, считал для себя обязательным подчиниться любому приказу, и на учения ездил, и в спасательных работах участвовал наравне со всеми. И находился, кстати, в отличной физической форме, которой мог похвастаться далеко не каждый старший лейтенант запаса. А уж опыт работы в чрезвычайных ситуациях у него был такой, какого не было ни у одного человека в отряде. Собственно, из-за этого опыта он и пришел сюда год назад, сразу после Абхазии.
Но командир отряда Игорь Мартынюк все-таки интересовался время от времени:
– Ну что, Юрий Валентиныч, не надумал еще?
– Не надумал, не надумал, – отмахивался Юра. – И какая тебе разница, Игорь, сам рассуди? Ну не хочется мне погоны надевать, может, я человек сугубо штатский, бывает же такое?
– Бывает, – соглашался Игорь. – Но было бы удобнее, если б надумал. Мы ж силовики все-таки, Юра, надо понимать. И что тебе плохо? Получил бы сразу капитана, там, глядишь, вскоре и майора. Ты ж мужик, тебе расти надо, перспективу свою видеть.
Игорь был хорошим человеком – с такой глубокой, не демонстрируемой, но неколебимой порядочностью, какую Юра встречал не часто. И Гриневу неловко было объяснять именно этому человеку, почему не хочется ему надевать погоны, пусть и медицинской службы. Он понял это еще в Абхазии, обдумал и закрепил как единственное для себя правильное решение.
Может быть, служи Гринев где-нибудь под Москвой, сложностей с его штатским положением возникало бы больше. Но здесь, на Сахалине, было все-таки проще: они были тысячами километров отделены от самого высокого начальства, сотнями – от не самого, и никакое начальство при таких условиях не стремилось особенно разбираться, почему не хочет делать военную карьеру отрядный врач из Южно-Сахалинска. С обязанностями своими справляется – и ладно.
Через месяц после Абхазии его вызвали прямо из больницы, чуть не из операционной.
Сначала вызвал к себе в кабинет главврач.
– Командование флота вами интересовалось, – объяснил он, когда Гринев вошел в кабинет. – Полетите, Юрий Валентинович?
– Полечу, конечно, раз начальство интересуется, – пожал плечами Гринев.
– А почему не спросите, куда? – усмехнулся главврач.
– Да сами скажете, – улыбнулся в ответ Гринев.
– Логическое мышление работает, – кивнул тот. – Насколько я понимаю, случилось у них что-то. Учения идут, подозреваю, ЧП какое-нибудь на кораблях. Но это мои собственные догадки, они ничего определенного не сообщили. Там у них вообще-то своя спасательная служба, врачи свои тоже есть. Но просят именно вас, из чего я делаю вывод, что имеют в виду ваш специфический опыт. Только это не для посторонних, Юрий Валентинович, – добавил главный, хотя это и так было понятно. – Сейчас машина будет, заедете домой – и на аэродром.
– Да можно и сразу на аэродром, – сказал Гринев. – Домой-то зачем?
Главврач предполагал правильно: во время учений взорвались боеприпасы на военном корабле, несколько раненых были явно нетранспортабельны, и оперировать их надо было на месте. Этим Гринев и занимался всю ночь вместе с военными хирургами из флотской спасательной службы.
– Может, к нам бы перешли, Юрий Валентинович? – предложил ему командир флотских спасателей, когда уже грузили раненых в военный вертолет.
– Да нет, спасибо, – отказался Юра. – Я же не военный, как же к вам?
– Да, у нас своя специфика, – согласился тот. – Не хотите, значит, на флот? Жаль. Опыт жаль терять, сами ведь понимаете. Хоть к эмчеэсовцам бы пошли, у них все-таки не так строго насчет погон.
Эта мысль Юре понравилась. Не то чтобы он думал, будто зря теряет опыт, приобретенный во время войны в Абхазии. Жаловаться на отсутствие работы травматологу, к сожалению, не приходилось и в мирных условиях. Но что-то другое, важное для него было в этой мысли…
Так и возник в его жизни отряд МЧС, и Гринев сразу понял, что поступил правильно, решив оставить в больнице только дежурства, отказаться от должности завотделением. В этом не было с его стороны никакой жертвы – совсем наоборот. В который раз он менял свою жизнь и в который раз убеждался, что не случайно и не напрасно, – по мгновенно обостряющемуся ощущению того, что он живет теперь именно так, как ему и надо, и не смог бы жить иначе.
Оно в Армении у него впервые случилось, это «обострение», и повторилось в Абхазии. Там же, в Абхазии, сидя ночью на крыльце ткварчельской больницы, Гринев попробовал рассказать о нем Борьке – потому что кто мог понять это лучше, чем Годунов?
Тот и понял сразу, без особенных объяснений.
– Обычное дело, – кивнул он со смешной своей серьезностью. – Я, знаешь, тоже что-то вроде аппендицита чувствую: и тянет, и ноет, и все как будто что-то мне неймется… Вот перед Турцией то же самое было. Нас же туда не хотели пускать. – Боря оживился, вспомнив перипетии своей поездки на турецкое землетрясение. – Неверные, дескать, то-се. А мы тогда – к нашему муфтию, к московскому, и показываем ему Коран. У нас, знаешь, Коран был еще из Ирана, там же тоже недавно трясло. Самый ихний верховный мусульманин ребятам в благодарность подписал. Вот, говорим муфтию, как же – «неверные»? А Коран-то, а подпись-то! Тот сразу звонить начал, факс отправил – назавтра вылетели в Турцию. С женой только проблемы, – грустно добавил Борька. – Все-таки она же за комсомольского работника выходила, совсем другое предполагала, особенно в смысле денег и прочего. Ее тоже надо понять…
Так что – какие там жертвы! Наоборот, Юра испытывал теперь чувство глубокого удовлетворения, как в советское время писали в газетах к коммунистическим праздникам.
Хорошо было и то, что в больнице никто не мог теперь предположить, будто Гринев хочет занять чье-нибудь место, подсидеть кого-нибудь. То есть его и раньше не подозревали ни в каких особенных кознях. Но ведь и нет ничего особенного в том, чтобы мужчине, одному из лучших в городе травматологов, делать соответствующую карьеру. И должность главврача для такого, как Гринев, – тоже вполне реальная перспектива…
А теперь зато – полная благодать. Раз Юрий Валентинович в больнице только дежурства себе оставил, значит, в отряде у него, видимо, перспективы еще лучше. И как реакция – предельная общая доброжелательность, никаких подводных камней.
Так он и ушел, как колобок, ото всех проблем, которых сам для себя не хотел.
Зима наконец кончилась, одарив напоследок, уже в феврале, бураном, который сорвал крыши с трех домов и оставил без электричества целый район. Но обошлось без жертв, несколькими травмами и обморожениями, и это было все-таки неплохо.
Юрины больничные дежурства, дневные и ночные, по-прежнему выпадали в основном на выходные. Он все собирался как-то пересмотреть свой график: все-таки надо и Олю пожалеть, все выходные одна, а он то в больнице, то в отряде – распоряжается своим временем как раньше, когда до него никому не было дела… Правда, Оля ни разу не высказала по этому поводу недовольства. Но на ее высказывания ориентироваться и не приходилось. Она вообще не высказывала недовольства ни по какому связанному с Юрой поводу – только счастье оттого, что он есть в ее жизни.
Сегодня Оля освободилась после ночного дежурства и уже бежала переодеваться в сестринскую – Юра встретил ее в коридоре, – а ему предстояло провести на работе весь день.
Гена Рачинский тоже собирался уходить, когда Гринев вошел в ординаторскую: уже надел щегольское оливковое пальто и дописывал что-то в истории болезни, сидя на краешке стула.
– Одуреешь с этой писаниной, – сказал он, поздоровавшись. – Скрипим перышками, как в каменном веке. Сколько времени коту под зад уходит!
– В каменном веке перышек не было, – усмехнулся Юра.
– Ладно, Валентиныч, спокойно тебе отдежурить. Торопцов жаловался – между ребрами, говорит, дергает что-то под корсетом. По-моему, невралгийка, но ты тоже глянь.
– Хорошо, – кивнул Гринев. – Остальное все в порядке, Гена?
– Остальное в порядке, – кивнул он. – На рыбалку сегодня едем с мужиками, оттуда в баньку… Хорошо!
У Гены даже глаза блеснули радостью при мысли о предстоящем отдыхе, а Юра подумал, как всегда: везет же людям, это все-таки талант надо иметь – отдыхать как работать, на полную катушку.
– Смотри, не поздновато для рыбалки? – на всякий случай сказал он.
– Да ну, Юра, ты уж совсем перестраховщиком стал в отряде в этом вашем! Вечно у вас то потоп, то пожар. Какое – поздновато? Март на дворе.
– Конец марта. Ну, это я так, на всякий случай. Тьфу-тьфу-тьфу.
Гринев постучал по столу. Одновременно с его стуком раздался осторожный стук в дверь.
– Да, Олечка, входи! – крикнул Рачинский. – Только она так скребется, – весело объяснил он.
– Геннадий Викторович, мазь Вишневского кончается, – сказала Оля, не входя, а только заглядывая в ординаторскую. – Но сегодня Люсе на перевязки еще хватит, вы не беспокойтесь, Юрий Валентинович, – поспешила она добавить.
– Я знаю, Олечка, скажу начмеду, – кивнул Рачинский. – Иди домой, не волнуйся. Мазь Вишневского! Скоро вообще бинты стирать будем, – сердито сказал он, когда дверь за Олей закрылась. – И шить шпагатом. Девочка молодец какая, а? – подмигнул он Гриневу. – «Юрий Валентинович, вы»… Все-таки ты, Юр, правильную линию ведешь. Восточная женщина – она и есть восточная женщина. Мне б сейчас холостые денечки, я бы, ей-Богу, только на кореянке женился! Даже и жениться бы не стал, это ты тоже правильно. Красивенькая как куколка, а главное, место свое знает. И в постели небось хороша – с остренькими грудками всегда горячие, у меня тоже одна была, как изогнется колечком, так тебе и…
– Заткнулся бы ты, Гена, пока не поздно.
Гринев произнес это таким тоном, что Гена счел за благо не только заткнуться, но и поспешно ретироваться.
– Ну, всего тебе! – сказал он уже в дверях и все-таки добавил напоследок: – Я ж без зла, Валентиныч. Наоборот – одобряю! И что я такого сказал?
Ничего он такого не сказал, все то же самое, что говорил всегда, о любой женщине. И, конечно, действительно без зла. Но у Юры в глазах потемнело, кровь застучала в висках.
«Ну что было делать? – с тоской подумал он. – По морде ему дать? Это уж совсем идиотизм».
Он просто ненавидел такие ситуации и себя в таких ситуациях – когда и психовать глупо, и спокойным быть невозможно. И остается только бурлить в точке кипения да воздух ртом хватать.
Юра терпеть не мог, чтобы кто-нибудь видел его в таком состоянии, и порадовался одному: что Рачинский ушел. И тут же, как назло, раздался стук в дверь – уже не Олин, не робкий, а просто стук постороннего человека, который хочет войти.
– Да! – сказал Гринев, садясь за стол и разжимая кулаки. – Входите.
Он думал, кто-нибудь из больных пришел пожаловаться на колотье в боку или плохую кормежку, и уже приготовился спокойно отвечать. Но вместо предполагаемого больного в ординаторскую вошла совершенно незнакомая дама.
– Здравствуйте, Юрий Валентинович, – сказала она, подходя к его столу.
– Здравствуйте, – произнес Гринев, еще по инерции сердито. – В чем дело?
– Может быть, вы мне сначала сесть предложите? – насмешливо поинтересовалась дама.
Юре стало неловко, что забыл о такой естественной вещи, и он тут же рассердился еще больше – на себя, а заодно на посетительницу.
– Садитесь, – мрачно кивнул он. – Если вы по делу.
– Меня зовут Евгения Стивенс, – сказала она, садясь напротив Гринева.
– Очень приятно. Что я должен делать?
– Потрясающе! – вдруг засмеялась дама. – У вас всегда такая реакция? Вы всегда сразу должны что-то делать?
– Вы пришли изучать мои реакции? – совсем выходя из себя, медленно проговорил Гринев.
Теперь она вызывала у него раздражение уже сама по себе, не по инерции. Дама была молода, не старше двадцати пяти, и как раз такого типа, который он терпеть не мог. Броская, с напоказ стройной фигурой, и одежда подобрана так, чтобы привлечь внимание: серебристо-серый ажурный свитер достает до колен, почти до края узкой черной юбки, сразу заставляя взглянуть на стройные длинные ноги.
И лицо слишком ухоженное, и вьющиеся светлые волосы уложены слишком пышно, и, главное, взгляд… Взгляд этой дамы выражал только одно: абсолютное, глубокое довольство собою, своей эффектной внешностью и привычной неотразимостью. От этого глубокого самодовольства ее холодновато-светлые глаза смотрели на Гринева с веселым любопытством.
– Возможно, и реакции тоже, – весело сказала она и пояснила: – Дело в том, Юрий Валентинович, что я журналистка. Начинающая. Осваиваю новую профессию и прошу вас мне помочь.
– Каким это образом? – удивился он. – Я же не журналист.
– Я тележурналистка, – снова объяснила Евгения Стивенс. – И у меня есть задание: подобрать как можно больше интересных героев для передачи.
Этого только не хватало! Настроение паскудное, женщина ему неприятна, а теперь еще, оказывается, она собирается его сделать героем передачи. Пару раз Гринев краем глаза смотрел подобные передачи, в которых рыбаки и моряки с идиотскими выражениями на лицах рассказывали о своих трудовых достижениях.
– Это, пожалуйста, не ко мне, – поморщился Гринев.
– А к кому? – тут же поинтересовалась журналистка.
– Вот это уж не мое дело.
– Но почему, Юрий Валентинович? Вы же еще не знаете…
– Знаю, – перебил он. – Ваши передачи оскорбляют человеческий вкус.
– Вы еще, между прочим, ни одной моей передачи не видели, – возразила она, к его удивлению, не обидевшись, а глядя все тем же весело-любопытным взглядом. – Так к кому же мне обратиться, если не к вам, как вы думаете?
– Я об этом как-то вообще не думаю, – стараясь говорить как можно вежливее, ответил Гринев. – Наверное, к тому, кто вас ко мне направил. С чего это вдруг, кстати?
– Юрий Валентинович, ну не притворяйтесь! – засмеялась она. – Вы что, идиоткой меня считаете? Удивительно не то, что меня направили, а что о вас раньше передач не делали. Профессия ваша располагает, – пояснила она. – А также эффектная биография. К тому же вы здесь приезжий, из Москвы – значит, особенно заметны.
– Здесь много врачей приезжих, – мрачнея все больше, возразил Гринев. – На Сахалине нет мединститута.
– У вас внешность телегеничная, держитесь вы свободно, – не унималась журналистка. – Да вы во всех отношениях идеальный телевизионный персонаж!
От всего этого потока пошлостей его просто передернуло. А оттого, что самовлюбленная девица по-прежнему смотрела на него с любопытством, как на неведому зверюшку с эффектной биографией, – Гринев вообще едва сдержался, чтобы не выставить ее за дверь без объяснений.
– Вот что, Евгения…
– Витальевна, – подсказала она после некоторой паузы, поняв, что он не продолжит фразу, пока не услышит ее отчество.
– Евгения Витальевна, извините, я на работе. Сейчас ухожу на обход.
– Я могу подождать, – тут же кивнула она. – Поговорим после обхода!
– После обхода у меня перевязки, – вставая, сказал Гринев. – А после перевязок я буду писать истории болезней, если по «Скорой» никого не привезут.
– А после работы? – не отставала Евгения Витальевна. – Я могу после работы с вами поговорить.
– А я не могу после работы тратить силы на пустые разговоры. Мне, как всякому нормальному мужчине, после работы хочется поесть и поспать.
– Всякий нормальный мужчина, Юрий Валентинович, догадался бы, что поесть можно вместе в ресторане, пригласил бы меня, и мы прекрасно бы там побеседовали, – заметила она, тоже вставая.
Теперь ее глаза были ровно на уровне его глаз, и вблизи Юра увидел, что она наконец начинает злиться: глаза вспыхнули, как звезды.
– А потом пригласил бы вместе поспать, – усмехнулся он.
Тут ему, правда, стало стыдно. Конечно, надо было избавиться от этой девицы, но не все же средства хороши! Оттого, что теперь он сам стал виноват, Гринев рассердился еще больше.
Но девица пропустила последние его слова мимо ушей.
«Не в первый раз слышит, – догадался Юра. – Ну конечно, является такая журналисточка – да ей, наверное, каждый второй предлагает».
Оттого, что она заставила его вести себя так же, как ведет себя каждый второй кобель, ему стало и вовсе противно.
– Я не для местного телевидения готовлю передачу, – привела она последний аргумент. – Я из Москвы приехала, может быть, даже по первому каналу пойдет.
– Творческих вам успехов, – пожелал Гринев. – Евгения Витальевна, извините мою грубость. Мне пора идти.
Он уже покручивал на пальце ключ, показывая таким очевидным образом, что она должна выйти вместе с ним.
Евгения Стивенс повела плечами, повернулась и, не простившись, хлопнула дверью.
«Свинство все-таки, – подумал Юра уже в коридоре, закрывая дверь и слыша, как стучат за его спиной каблучки. – А как по-другому было от такой отвязаться?»
Настроение как было испорчено с утра, так и не улучшилось за день. Евгения Стивенс, конечно, забылась, как только привезли первого больного, но недовольство собою осталось, и ничего Юра с этим не мог поделать.
Все в его жизни, что не касалось работы, вдруг показалось ему таким убогим, что хоть волком вой.
Вообще-то Гринев никогда и не считал, что должен жить какой-нибудь особенной, не такой, как у всех, жизнью. Он был полностью занят своим делом, работа придавала смысл его существованию. И так было всегда, и никогда он не мечтал о какой-то необыкновенной, яркой, неповседневной жизни.
Наоборот, Гринев хорошо знал цену повседневности. Чувствовал ее неосознанно в детстве, когда в его жизни так естественно присутствовали любящие люди – для кого-то, может быть, самые обыкновенные, но для него единственные и неповторимые. А потом уже и вполне осознанно понял, как много неповторимого может вместиться в рамки обыденной жизни – за стенами прочно стоящих домов, под крышами, на которые не падают бомбы… И ему не хотелось в жизни никаких спецэффектов, о которых мечтают многие люди – вот хоть эта самоуверенная журналистка.
Дело было совсем не в том, что Гринева не устраивали обстоятельства собственной жизни. И убогость, вдруг так остро им осознанная, была не во внешних обстоятельствах…
Одиночество, к которому он привык, которое давно уже не угнетало, вдруг предстало ему во всей своей тщете и безысходности. Было только странно, что он подумал об этом именно сейчас.
«Да ведь теперь – какое же одиночество? – пытаясь прогнать нерадостные мысли, говорил себе Гринев. – Если бы раньше, полгода назад, было бы понятно. Но теперь-то я не один, дай Бог каждому мужику половину Олиной любви…»
Он попытался представить, что она делает сейчас: готовит что-нибудь на маленькой кухоньке, стирает, смотрит телевизор, спит после дежурства? Но как-то не думалось об этом, даже и неважно было, что она делает. Юра знал, что все Олины занятия пронизаны любовью к нему, ожиданием его, и нежность к ней привычно бередила его сердце.
Он прогнал непонятно откуда взявшиеся мысли об одиночестве – и осталось только мрачное настроение.
Глава 12
В таком настроении, которое теперь, правда, можно было списать на усталость, Юра вернулся вечером с работы.
Ласковый уют, живое человеческое присутствие – все, о чем он всякий раз помнил теперь по дороге к дому, – ощущалось сразу же, на пороге. Оля всегда так радовалась его появлению, как будто он каждый раз возвращался из космоса.
– Ты так рано сегодня! – сказала она, выглядывая из ванной. – Но все-таки уставший, да?
– Откуда ты знаешь? – улыбнулся Юра, разматывая шарф.
– Лицо мрачное у тебя, – сказала Оля, и Юра в который раз поразился ее чуткости ко всему, что касалось его: к смене его настроений, к его усталости и бодрости…
В ванной работала стиральная машина, которую сам он купил вскоре после появления Оли.
Пока не было Оли, Гринев отдавал свои вещи в стирку общежитской вахтерше тете Клаве, и это его вполне устраивало. Но Оля даже обиделась, когда он попытался было продолжить устоявшуюся традицию.
– Почему ты так хочешь, Юра? – спросила она чуть не плача. – Ты думаешь, я постираю хуже?
– Я об этом вообще не думаю, Оленька, – попытался он объяснить. – Зачем мне об этом думать? Тетя Клава отлично стирает, от добра добра не ищут.
– Но мне же будет стыдно мимо нее проходить! – воскликнула Оля. – Что же она будет обо мне думать?!
– По-моему, ничего не будет думать, – пожал он плечами. – Ну, стирай сама, если это для тебя так важно.
Юра тут же забыл бы об этом разговоре, если бы назавтра она не купила стиральную доску и оцинкованную выварку. Увидев, как Оля, согнувшись над ванной, трет его рубашку об эту доску, пока на кухне кипит в выварке белье, он просто остолбенел.
– Слушай, и ты думаешь, так и надо? – спросил он, глядя на ее разгоряченное паром лицо. – Каждый раз вот такое разводить?
– Правда, – расстроилась Оля. – Душно, пахнет нехорошо… Но я просто не успела, пока тебя не было…
Она даже не поняла, о чем он говорит.
– А если бы и успела? – поморщился Юра. – Глупо это, Оля, никому не нужный мазохизм. – Он вспомнил, что она наверняка не знает, что такое мазохизм, и пояснил: – Совершенно мне не нужно твое самоистязание.
Назавтра Гринев зашел в магазин бытовой техники, ткнул пальцем в первую попавшуюся японскую машину, которая показалась ему подходящей для маленькой ванной, заплатил за установку и перестал об этом думать.
Ему и так было достаточно смутного беспокойства совести, которое с самого начала присутствовало в его отношении к Оле. Не хватало еще увеличивать его из-за этой первобытной стирки!
– Сейчас будем кушать, – сказала Оля уже из кухни.
– Что-то не хочется пока. Наверное, правда устал, – из ванной откликнулся Юра. – Приду в себя немного, потом, ладно?
Все было ему не так в этот вечер: холодная вода не освежала тело, кухонные запахи не возбуждали аппетит. Все в нем было словно смещено, все внутри смутно ныло и зудело, как от болезни.
«Может, правда заболел? – тоскливо подумал он, садясь в продавленное кресло. – Даже не заболел, а обычная вялость весенняя, витамины надо попить».
Но его состояние трудно было считать вялостью – наоборот, какое-то нерадостное возбуждение.
«А в Москве еще утро, – снова некстати подумал Юра, глядя, как учительница на экране объясняет какие-то химические формулы. – Ева тоже сейчас урок ведет, наверное. Суббота же, почему школьную передачу показывают? «Утро красит нежным светом…» А это – с чего я вдруг? Давно им не звонил, надо прямо сейчас… Который час у них сейчас?.. Потом…»
Он прикрыл глаза, как будто задремал под ровный голос учительницы. Ничего он не устал – во всяком случае, не больше, чем обычно. Совсем другое…
Оля неслышно вошла в комнату, подошла к его креслу.
– Ты спишь, Юра? – спросила она. – Выключить телевизор, ляжешь?
– Мг-м… Нет, не сплю… – пробормотал он, притворяясь сонным. – Не выключай, я не буду ложиться.
Наверное, ужин готов, надо пойти поесть, пока не остыло, чтобы ей не пришлось разогревать. Но ему не хотелось сейчас ничего. Вернее, Юра сам не знал, чего ему хочется, – и не пошевелился.
Оля присела на ковер у его ног, положила голову ему на колено. Она часто так садилась, и первое время Юра чувствовал неловкость оттого, что женщина сидит, прижавшись к его ноге, как кошка. Он даже привстал из кресла, когда Оля села так впервые.
– Что ты, Оленька? – удивился он. – Хочешь в кресло сесть? Давай я на диван пересяду. Или на колени ко мне садись.
На колени к нему она тогда села с удовольствием – принялась гладить, целовать его виски. Но, догадавшись, что заслоняет ему экран, снова соскользнула на пол к его ногам.
– Мне так хорошо, Юра. – Она покачала головой, отстраняясь от его рук. – Ты сиди, сиди, не обращай внимания. Или тебе неудобно, когда я так сижу?
Ее «неудобно» значило ровно то, что значило: она спрашивала, не мешает ли ему – не загораживает ли телевизор, не давит ли на ногу. В этом смысле ему было удобно, а остальное ей объяснять – смысла не было.
И теперь она села точно так же, прижавшись щекой к его колену и гладя ладонями его лодыжки.
По телевизору уже звучала какая-то тихая мелодия, тихо работала в ванной машина, тихо дышала Оля. А тоскливое его, непонятное возбуждение все не унималось.
Юра почувствовал, как Олины руки на мгновенье замерли, как будто она ладонями прислушивалась к нему, потом скользнули по его ногам выше, коснулись колен. Оля повернулась к нему лицом, приподнялась. Теперь уже она оказалась между его коленями, сама сидя на пятках, как маленькая фарфоровая статуэтка. Он по-прежнему не открывал глаз и не видел всего этого, но чувствовал ее движения.
Оля придвинулась ближе, положила ладони между его ног, погладила нежно и осторожно, как будто спросила, можно ли. Юра не пошевелился – не ответил ей ни словом, ни движением. Она помедлила еще мгновенье, ожидая, потом расстегнула верхнюю медную пуговку на его джинсах. Джинсы были старые, домашние, пуговицы-болты легко выскальзывали из обтрепавшихся петель…
Юра совсем не хотел этого минуту назад, совершенно об этом не думал. И вдруг, от прикосновения ее пальцев, он почувствовал, что все его смутное, неопределенное напряжение словно опускается вниз, получает ясное направление – к ее рукам, ко всему ее податливому телу.
Он немного приоткрыл глаза. Оля уже расстегнула на нем джинсы, чуть стянула их, голову положила между его ног, лаская прикосновением щек, лба, мимолетно касаясь губами. Сквозь ресницы Юра увидел, как двигается ее голова, как начинают плавно двигаться плечи, все ее тело – медленно, все сильнее прижимаясь к его ногам, бедрам, которые уже напряглись, приподнялись навстречу ее движениям…
«Как просто, как хорошо!» – мелькнуло у Юры в голове.
Желание еще только разгоралось в нем, а он уже чувствовал, что его сегодняшнее напряжение нашло наконец выход, собравшись в одной точке тела; Оля словно вытянула из него напряжение одним своим прикосновением.
– Еще, милая моя… – хрипло попросил он, хотя ее и просить об этом было не нужно. – Еще поласкай меня так, девочка моя милая, мне хорошо…
Ее ни о чем не надо было просить, но ему хотелось услышать сейчас хоть какие-нибудь слова, самому их произнести. Ему так же нужны были слова, как прикосновение Олиных губ… Она прихватывала его тело зубами, страстно и возбуждающе, и он понимал теперь, что и раньше хотел этого от нее, но не решался ей сказать, а она, наверное, раньше не понимала…
Юра всегда чувствовал, целуя, как упруги ее широкие губы, но теперь он чувствовал это не губами только, а всем своим телом – во всем его теле отзывались прикосновения ее гибко охватывающих губ, и в голове у него все шло такими же быстрыми кругами, какими двигался ее ласкающий язык…
Он больше не думал, надо ли отстранить ее в последний момент, что она чувствует сейчас, не противно ли ей? Ощущение того, что уходит из тела смута, да не просто уходит, а еще и с таким для него наслаждением, – это было так прекрасно, что он ни о чем уже думать не мог.
И когда напряжение ушло совсем – наконец разрядилось, как молния, сотрясло его тело сильнее электрического разряда, – ему даже жаль стало той сладости, той острой истомы, которую он только что ощущал.
Может быть, это было только физическое ощущение – но насколько же ему необходимое! И так вовремя оно пришло – как раз тогда, когда он не знал, что делать со своей душой, и она болела у него, как будто была материальна, как будто ее можно было взять руками, погладить, приласкать, вылечить любовным прикосновением женских губ… Это было, конечно, невозможно. Но Оля сделала для него то единственное, что могла сделать, – вывела его смуту через тело – и Юра благодарно гладил ее темную головку, снова лежащую у него на колене.
– Ну, иди ко мне, – сказал он, поднимая ее под мышки. – Иди, обними меня, дай и я тебя обниму. Не противно тебе было, Оленька? – прошептал он ей на ухо, когда она уже села ему на руки.
Она покачала головой – тем своим горячо отрицающим движением, которое он так полюбил с самого начала их близости.
– Что ты, Юра! – обхватив его шею руками, в самое ухо прошептала Оля. – С тобой – как может быть противно? Я только боялась, что тебе это не понравится, потому что ты…
– Потому что я – что? – спросил он, заметив, что она запнулась.
– Что ты подумаешь, что я… Что ты решишь, что женщине нехорошо это делать, что нормальные женщины этого не делают…
От ее наивного, до сих пор девического смущения хотелось то ли смеяться, то ли плакать. Юра и рассмеялся, до слез расхохотался.
– Мне было очень хорошо, – сказал он, крепко целуя ее длинные, смущенно глядящие глаза. – Ты ведь хотела, чтобы мне было хорошо?
– Конечно! – воскликнула она, вскакивая. – Чего же еще я могу хотеть!
– Ну и не думай о глупостях. Мне всегда хорошо с тобой, Оленька.
Юра встал, потянулся.
– Ты хочешь теперь поесть? – спросила Оля, застегивая пуговки на своей черной рубашке – оказывается, она их расстегнула, когда вся прижималась к нему, всем телом его ласкала, и открытой грудью. – Ты теперь проголодался, Юра?
– Теперь – да! – снова засмеялся он. – Все-то ты про меня знаешь, догадливая моя, – и как аппетит возбудить… А глянешь на тебя – такая скромница, такая паинька!
Этого, пожалуй, говорить не следовало: Оля слишком буквально воспринимала его шутки.
– Я же не притворяюсь, Юра! – сказала она расстроенным и растерянным голосом. – Я правда хотела, чтобы тебе было хорошо, а не для того…
– Не для того, не для того, я знаю. – Он погладил ее по щеке, провел рукой по прячущейся за пуговками груди. – Пойдем с тобой сегодня куда-нибудь, а?
– Куда пойдем? – не поняла Оля.
– Поужинаем где-нибудь, – пояснил Юра. – Хочешь?
– Конечно! – Лицо ее просияло. – Только жалко, я сегодня первый раз новое блюдо приготовила – такую корейскую рыбу, которую мама на праздник делает…
– А мы в корейское кафе и пойдем – знаешь, у вокзала? Может, там тоже есть такая рыба. Не такая, конечно, только похожая, – уточнил Юра. – А эту завтра съедим, воскресенье же, я дома наконец.
– Что мне одеть? – спросила Оля, открыв шкаф.
– Да что хочешь. – Юра вдруг подумал, что даже не знает толком, какая у нее есть одежда: не обращал внимания, что ли? – Или у тебя нет ничего на вечер?
– Почему, есть, – покачала она головой. – Вот это могу одеть, которое я на Новый год одевала, и еще есть красное в золотых блесточках. Тебе нравится в блесточках?
– Нравится, – улыбнулся Юра, глядя, как она прикладывает к себе какой-то яркий костюмчик. – Надевай в блесточках.








