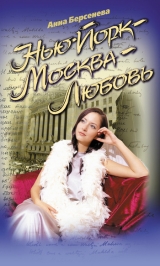
Текст книги "Нью-Йорк – Москва – Любовь"
Автор книги: Анна Берсенева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 15
В осеннем вечернем полумраке разбросанные по комнате вещи были почти и незаметны. Правда, Игнат споткнулся о лежащую у порога туфлю, но едва ли обратил на это внимание. Только качнулся с обычной своей тяжеловатой грацией и прошел дальше. Впрочем, дамское слово «грация» совсем к нему не подходило. И в походке его, и в каждом движении главной была глубокая, глубинная какая-то надежность. Эстер постоянно ловила себя на том, что ей то и дело хочется схватиться за его руку, будто они только и знают, что гуляют вдвоем по скользким мостовым.
Эстер зажгла не люстру, а крошечную настольную лампочку. Эту английскую лампочку в виде гнома с фонариком подарил ей к прошлому Рождеству акробат Ликок.
– У меня еще вино есть, – сказала она. – Крымское, «Белый мускат Красного камня».
– А я думала, мы чаю выпьем, – сказала Ксения. – Я и чашки взяла.
– Зачем чашки? – удивилась Эстер. И тут же догадалась: – А, гарднеровские?
– Конечно.
– Ну так мы из них вина выпьем, – предложила Эстер.
Чашки оказались кстати: Эстер обнаружила в буфете только один бокал. То есть их, конечно, было больше – она ведь сама их покупала, притом совсем недавно: родители были равнодушны к быту, поэтому после них в доме остались только алюминиевые тарелки и такие же кружки. Но найти бокалы теперь, в темноте, Эстер не смогла. К тому же у нее почему-то дрожали руки, и она даже уронила какую-то склянку, стоявшую на буфетной полке. По комнате сразу разнесся отвратительный запах.
– Вот наказанье! – воскликнула Эстер. – Ихтиолку раскокала.
Склянка с ихтиоловой мазью принадлежала ко временам ее детства. Когда Эстер болела ангиной, ей делали с этой мазью компресс, и она ненавидела ее отвратительный запах до тех пор, пока не узнала, что ихтиол добывают из перегнивших останков древних хвощей и папоротников. Мазь сразу приобрела в ее воображении необходимую загадочность, как и сами эти доисторические растения, которые были нарисованы в книжке «Что рассказывала мама».
В ней, в этой книжке, вообще было много всяческих чудес. Родители весь день, а часто и ночами пропадали на работе, Эстер оставалась дома одна и, разглядывая волшебную книжку от начала до конца, а потом от конца до начала, все время думала: почему же ее мама ничего не рассказывает ей ни про вот эти удивительные папоротники, ни про динозавров, ни про висячие сады Семирамиды? Неужели бесконечные разговоры про какие-то планы партии в области каких-то дел, названия которых маленькая Эстер не могла ни запомнить, ни даже выговорить, кажутся им с папой интереснее того таинственного исчезнувшего мира, который описан в книжке, и того живого мира вокруг, который манит не меньшими тайнами, чем нарисованный? Ну хоть про электрический ток рассказали бы – как это он бежит по тоненьким проводам и почему от этого загорается лампочка?..
Английская лампочка-гном неожиданно погасла.
– Ничего, – услышала Эстер в темноте Ксенькин голос. – У тебя свечи остались?
– Кажется, – ответила она. – Посмотри где всегда.
И сразу не услышала даже, а почувствовала, что не Ксенька, а Игнат прошел через всю комнату и выдвинул ящик комода, в котором лежали стеариновые свечи. Конечно, он не хуже Ксеньки знал, где их искать: не счесть, сколько раз они втроем сумерничали здесь в тот год, что Игнат прожил у Иорданских…
Когда комната осветилась ласковым и тревожным свечным пламенем, Эстер увидела, что Игнат уже откупоривает вино. При взгляде на то, как темная бутылка лежит в его широкой ладони, руки у нее задрожали снова. Просто наваждение какое-то!
Чтобы избавиться от этой неуместной дрожи, она не нашла ничего лучше, чем взять в каждую руку по гарднеровской чашке. Может, это был не самый безопасный для чашек поступок, но, к ее удивлению, как только она ощутила хрупкую легкость фарфора, дрожь в руках сразу прошла.
Чашки были совершенно одинаковые – Эстер впервые пригляделась к ним повнимательнее. На каждой красовалось нарисованное мелкими розочками пылающее сердце, в центре сердца нежно синела незабудка, а под сердцем были выведены старинной вязью какие-то слова.
– «Ни место дальностью, ни время долготою не разлучит, любовь моя, с тобою», – прочитала Эстер. – Смешные стихи! – хмыкнула она, поставив обе чашки на стол.
Руки уже не дрожали, да и вообще она вполне овладела собою и даже не смотрела на Игната.
– Почему же смешные? – не согласилась Ксения. Она придвинула к себе чашки и ласково погладила оба пылающих сердца. – Это настоящий любовный фарфор – есть такое понятие. Он простой и правдивый. И трогательный. Язык фарфора вообще трогателен.
– Что еще за язык? – удивилась Эстер.
– Язык его форм, росписи. Художник должен чувствовать его традицию. Ну, и знать ее, конечно, не только чувствовать. Фарфор ведь невозможно начать сначала – выдумать его невозможно. – Эстер расслышала в голосе подружки взволнованные интонации; они появлялись всегда, когда речь заходила о Ксенькином любимом предмете. – Обязательно надо воспроизвести все, что было до тебя, и только потом очень-очень осторожно добавлять свое. А иначе это и не фарфор будет. Он ведь хорошим или плохим вообще не бывает – либо получился, либо нет. Поэтому в нем есть какая-то особенная основательность, – заключила она. И спросила, взглянув на Игната: – Разве не так?
– Какая же основательность? – Он несогласно повел огромным плечом и, не глядя, поставил на стол открытую бутылку; она встала точно между двумя чашками. – Хрупкий он слишком, твой фарфор. Пальцем ткни, и нет его. А жизнь и так…
Игнат замолчал.
– Что – и так? – не дождавшись продолжения фразы, тихо спросила Ксения.
– Ненадежна слишком, вот что, – нехотя ответил он. – В большом смысле ненадежна, понимаешь?
– Как это? – переспросила Эстер. – Что значит ненадежность в большом смысле?
– Может, читать мне поменьше надо было, – глядя на Ксению, сказал Игнат. – Или по строительству только, чтоб для дела. Да сама ты меня, Ксена, к стихам приохотила… Я тут Державина в библиотеке взял, – объяснил он уже обеим подружкам. – Про реку времен, знаете?
– Знаем, – кивнула Ксения.
Эстер не очень помнила, что еще за река времен такая, но спрашивать не стала. Ей вдруг показалось, что любой посторонний вопрос может оборвать тоненькую нить, которая зримо была натянута между Игнатом и Ксенькой. Она словно из фарфора была сделана, эта нить, во всяком случае, казалась такой же хрупкой, как любовные чашки.
– То-то и оно, – сказал Игнат. – Река времен в своем теченье уносит все дела людей. А если что и остается, то и оно без следа вечностью пожрется. Города целые исчезли, страны, народы… Египетские пирамиды, правда, стоят как стояли, да ведь они не из фарфора построены.
– А все-таки чашкам этим двести лет уже, – сказала Ксения.
Голос ее прозвучал как-то жалобно.
– Да я же ничего. – Игнат успокаивающе коснулся рукою ее плеча, но только на секунду коснулся и сразу же убрал руку, словно обжегся об это хрупкое, как сам фарфор, плечо. – Они хорошие, чашки твои. Любовные.
– Вот и давайте выпьем из любовных чашек за всеобщую любовь. К фарфору, конечно, – заявила Эстер.
Все-таки не железная же она – сколько можно наблюдать за этими невыносимыми переглядками и ласковыми касаниями?
Игнат налил вино в обе чашки и в единственный бокал. Ксения придвинула чашки ему и Эстер, а бокал взяла себе. Выпили в молчании. Но это не было то прекрасное молчание, которое не хочется нарушать пустыми разговорами, потому что в нем души касаются друг друга; прежде они часто молчали так втроем. В нынешнем же их молчании была одна лишь стесненность. Эстер не понимала только, почему эта стесненность вдруг появилась между Ксенькой и Игнатом. Причина собственной стесненности была для нее очевидна.
– Как твоя учеба? – наконец спросила Ксения.
– Помаленьку. Лбом упираюсь и учусь. А как еще? Знаний-то самых простых нету, поздновато приходится наверстывать. Языки особо тяжело идут – английский, немецкий. А без них в инженерном деле нынче никуда.
– У тебя глаза усталые, – не глядя на него, сказала Ксения. – И тени под глазами.
– Тени от свечек. А что усталый, кажется тебе.
– Ты ночами не спишь, наверное. Сколько с тобой человек в комнате?
– Двадцать.
– Вот видишь, – вздохнула Ксения. – Двадцать человек, у каждого свои дела, и ночного покоя никто не соблюдает, я уверена. Какой же сон? – И, помолчав, еле слышно спросила: – Почему ты от нас ушел, Игнат?
Он тоже помолчал. А когда наконец ответил, голос его прозвучал глухо, как из глубокого колодца:
– А как по-другому? Я ж не каменный, Ксена.
Потом он разлил по бокалам остатки вина, и снова выпили молча, на этот раз даже без тоста.
– Пойду.
Игнат тяжело поднялся со стула.
«Будто мешок пудовый поднял, – подумала Эстер. – Хотя тяжести он ведь легко носит – засмотришься».
Она вспомнила, как весною, когда Игнат еще жил у Иорданских, в один из воскресных дней они втроем поехали гулять в Серебряный бор. В самой глухой и дальней части леса Ксенька подвернула ногу, да так неудачно, что даже ступить на нее не могла, и Игнат три километра нес ее на руках до трамвайных путей. А Эстер шла сзади, потому что не поспевала за его широкими шагами, и шмыгала носом – все думали, что от сочувствия к подруге, а на самом деле от сожаления, что сама не подвернула обе ноги сразу. Тогда ведь он, деваться некуда, и ее нес бы на руках через лес, и, конечно, шел бы так же легко, играючи, как идет сейчас. Только, наверное, не прижимал бы Эстер к груди так, как прижимает Ксеньку – нежно, будто ребенка.
– Почему ты так рано уходишь? – встрепенулась Ксения.
– На работу пора, в стройуправлении ночью дежурю. На рабфаке это вроде практики у нас. Ну, и заработок тоже.
Глаза его даже сейчас, в мерцающем пламени свечей, были такие же, как днем при ярком свете, и ночью в темноте, и в чистых лучах вечернего солнца, – серые, глубокие и твердые, скальной породы. Такими Эстер впервые увидела их, когда он открыл ей дверь комнаты Иорданских два года назад.
И ни тогда, ни теперь она не понимала, почему эти неизменные глаза вызывают у нее в сердце такую бурю противоречивых чувств, какой не вызывали больше ничьи глаза, даже самые что ни на есть разнообразные, многослойные и переменчивые.
– Вот видишь, ночью на работу идешь. А еще говоришь, будто высыпаешься, – расстроенно сказала Ксения. И добавила, глядя куда-то в сторону: – Ты хоть приходил бы почаще… Бабушка тебя каждый день вспоминает.
Эстер ожидала, что на эту неумелую Ксенькину ложь Игнат ответит естественным вопросом: «А ты? Ты меня вспоминаешь?» – но непредсказуемость, которая так странно соединялась в нем с надежностью, проявилась и на этот раз.
– Приду, – ничего не спрашивая, сказал он. – А если вдруг срочное что, позвони. Я в стройуправлении через три ночи на четвертую, и телефон под рукой. Номер Б-12-22. Дай-ка запишу тебе.
– Я запомню, – по-прежнему не глядя на него, кивнула Ксения. – До свиданья, Игнат.
– До свиданья.
Он тоже кивнул Ксении с Эстер и вышел из комнаты. Эстер сразу показалось, что даже свечи горят теперь напрасно. Все было напрасно без него, но когда она подолгу его не видела, то как-то об этом забывала, а вот в то мгновение, когда он уходил, ощущение зряшности всего, что происходит в его отсутствие, становилось невыносимо острым.
«Так и в лечебницу недолго угодить, пожалуй, – сердито подумала она. – Вся труппа со смеху умерла бы. Герл Левертова сошла с ума от неразделенной любви! Ну да все равно никто не поверил бы».
После того как за Игнатом закрылась дверь, Ксения еще минуту стояла посреди комнаты, неподвижная и напряженная. Потом она вдруг закрыла лицо ладонями, пошатываясь, будто пьяная, добрела до дивана и, упав на него, заплакала.
– Ксенька! – забыв про собственные страдания, ахнула Эстер. – Что с тобой?!
Увидеть Ксеньку плачущей – это было из разряда абсолютных невозможностей. Во всяком случае, Эстер видела ее слезы впервые. И это при всех трудностях Ксенькиной жизни!
– Н-нич-чего… – всхлипывая, проговорила Ксения. – Я… ничего… Звездочка… я сейчас…
– Как же ничего, если вся сейчас слезами изойдешь? – рассердилась Эстер. – Ну-ка рассказывай, что случилось?
– Что же рассказывать? – Ксения отняла руки от лица и подняла на Эстер глаза. По лицу мелькнуло жалкое подобие улыбки. – Ты ведь и сама видишь.
– Ничего не вижу. Ничего такого, чтоб рыдать!
– Люблю я его, Звездочка, – еле слышно произнесла Ксения. – Так люблю, что жить без него не могу ни дня. Сама не знаю, как такое могло получиться.
«Да запросто!» – хмыкнула про себя Эстер.
А вслух сказала:
– Ну и люби себе на здоровье. Он тебя тоже любит. О чем же плакать?
– В том-то и дело.
– В чем?
– Что он меня тоже… Он так говорит…
– Ну и выходи за него, – повела плечом Эстер. Сердце при этих словах упало куда-то не в пятки даже, а, наверное, в преисподнюю. – Или не зовет?
– Он зовет. Звал… Но я не выйду за него замуж.
Ксения совсем успокоилась, во всяком случае, следы слез исчезли с ее щек мгновенно, будто высохли от неощутимого свечного жара.
– Почему не выйдешь? – изумилась Эстер.
«Если б меня позвал, я бы в ту же секунду вышла, – мелькнуло при этом у нее в голове. – И не только что замуж – в рыбацкую деревню с ним уехала бы, или куда там… Все бы бросила, если б он захотел».
В этом она была уверена насмерть. Это было непонятно, это казалось немыслимым – ну что связывало актрису, москвичку, красотку, которую все знакомые считали образчиком непредсказуемого богемного каприза, с поморским крестьянином, который всего год назад не умел пользоваться лифтом и хлебные корки называл охлебками? – но это была правда. Та сильная, необъяснимая правда, что ведет человека по жизни, определяя все его поступки, которые в глазах тех, кто этой его правды не знает, кажутся непонятными и неожиданными.
– Почему не выйдешь? – почти растерянно повторила Эстер.
– Потому что не имею права ломать его жизнь.
В Ксенькином голосе прозвучала та тихая твердость, которую, Эстер точно знала, не могла победить сторонняя воля, даже самая сильная.
– Это в каком же, интересно, смысле? – насмешливо поинтересовалась Эстер. Она еще надеялась пронять Ксеньку иронией. Хотя прекрасно понимала, о чем та говорит. – Насколько мне известно, жизнь ломает мужчина невинной девице, которую бросает с младенцем на руках. Во всяком случае, такого мнения придерживаются все клушки-мамаши, которые мечтают умело сбыть с рук своих клушек-дочек.
– Меня никто не мечтает сбыть с рук, – улыбнулась Ксения. – Не в этом дело.
– А в чем?
– Ты и сама понимаешь, Звездочка.
– А вот и не понимаю!
Эстер сердито стукнула кулачком по столу и поочередно заглянула в обе пустые чашки, надеясь найти глоток муската. Вино осталось в Игнатовой чашке – она выпила его, и от этого случайного глотка голова у нее закружилась, как не кружилась от всего выпитого прежде.
– Дело в том, что, женись он на поповской дочке, все дороги в жизни будут для него закрыты. И удачей еще будет, если это коснется одной только его карьеры.
– Карьеры! – фыркнула Эстер. – По-твоему, он карьерист?
– Игнат не карьерист, – серьезно проговорила Ксения. – Он совсем не карьерист в принятом советском смысле. Но он честолюбив, как всякий молодой человек, в котором жизнь набрала силу. И потом, ведь он талантлив. Да-да, талантлив, неужели ты не видишь? – сказала она, встретив недоверчивый взгляд подруги. – У него живое воображение, при этом он мыслит глубоко и логично. Если Бог поможет, его ждет большое будущее.
– Вот видишь, если Бог поможет! – поймала Ксеньку на слове Эстер. – Разве ты можешь Богу помешать такой ерундой, как замужество?
Ксенькина вера в Бога была тихой, непоказной, но имела те строгие формы, которых и не могла не иметь вера девушки, выросшей в семье священников. Всенощная, Пасха, причастие, Великий пост – все это присутствовало в ее жизни так же естественно, как бодрствование и сон.
Эстер не могла с точностью сказать, верит ли в Бога. Она даже нарочно не задавала себе этот вопрос, потому что словесный ответ на него казался ей невозможным. Но никаких религиозных – синагогальных, по прадедовой, или советских, по родительской вере – обрядов она не признавала точно. Общие для всех обряды претили ее натуре своей назойливой обязательностью.
– Не вредничай, Звездочка, – улыбнулась Ксенька. – И не будем больше об этом, ладно? – Она подошла к окну, коснулась его щекою. На стекле с обратной стороны ночами уже выступала изморозь; шел к концу октябрь. – Узоры уже… – тихо сказала Ксенька. – Видишь, на стекле узоры. «Как на узорчатой тарелке рисунок, вычерченный мелко».
– Как-как? – переспросила Эстер. – Это что, стихи?
– Ну да. Мандельштама твоего стихи, разве ты не знаешь?
– Моего! – фыркнула Эстер. – Он такой же мой, как и твой.
– В меня он не влюблялся.
– В меня тоже. Две туманные записки и одно свидание с оглядкой на жену – думаешь, это любовь поэта? Но стихи хорошие, не спорю. Что это тебя на них вдруг потянуло? – спросила Эстер.
И тут же замолчала. Конечно, Ксеньку потянуло на стихи потому, что о стихах полчаса назад вспоминал Игнат.
– Из-за фарфора, – сказала Ксения. – Там дальше знаешь что? Ну, про узор на тарелке? «Когда его художник милый выводит на стеклянной тверди. В сознании минутной силы, в забвении печальной смерти»… Об искусстве лучше не скажешь.
– Может, тебе все же как-нибудь в училище удалось бы поступить? – с тоской спросила Эстер. – Давай мои документы подадим, а? Все-таки у меня происхождение более-менее сносное. Поступила бы по ним, а там видно было бы.
Невыносимо было сознавать, что Ксенька со всем ее талантом, с вот этим тонким чувством фарфорового узора, выводимого на живой поверхности жизни, никогда не получит настоящего художественного образования, которое кому же получать, как не ей, а так и будет ездить на электричках в деревню Вербилки на фарфоровый заводик и выполнять тайком какие-то мелкие заказы под именем того, кто, сжалившись, с нею этими заказами поделится, да и то неизвестно, не прикроют ли вскоре заводик в Вербилках, как уже прикрыли множество подобных мелких заводиков…
– Авантюристка ты, Звездочка, – улыбнулась Ксения. – Может, мне по твоим документам в Германию выехать, в Мюнхен? Или во Францию, в Севр. Прежде художники по фарфору непременно туда ездили учиться.
– Неплохо бы, – усмехнулась Эстер. – Ты под моим именем в Севр, я под твоим в православный монастырь на Святую землю.
– В Святую землю ты как раз и по своим можешь выехать, и не обязательно в монастырь. Помнишь Розу Моисеевну? Этажом ниже у нас в «Марселе» жила, только в другом крыле?
– Ну, помню. И что?
– Представь себе, ее выпустили в Палестину как убежденную сионистку! Правда, говорят, ее подругу не выпустили, а, наоборот, арестовали, как только она прошение о выезде в ту же Палестину подала.
– Капризы властей непредсказуемы, – усмехнулась Эстер. – Но про Палестину – это мысль… Хотя – ну что я там буду делать? Там, говорят, болота, арабы и пустыни, и все это следует осушать, убивать и орошать до умоисступления. Нет, Земля обетованная не для меня. К тому же древнееврейский выучить невозможно – язык сломаешь. Я вон и английский-то на курсах Берлитца с трудом выучила, чтобы с нашими гастролерами болтать.
– Я Игнату с языком могла бы помочь… Меня ведь бабушка немецкому учила, и очень даже неплохо выучила, – невпопад задумчиво произнесла Ксения.
Впрочем, почему же невпопад? Ясно ведь, что на протяжении всего разговора про Палестину и Севр на самом деле она думала только про Игната.
– Не зря он тебе смелости желал, – сердито сказала Эстер. – И о чем ты думаешь, не понимаю! О каких-то там жизненных путях, которые перед ним якобы закроются… Он тебя любит, а ты!..
– Знаешь… – помедлив, произнесла Ксения. – Знаешь, а ведь Игнат и к тебе очень сильно неравнодушен…
– Что-о?! – Эстер чуть со стула не упала. – Я-то при чем?
– Он неравнодушен к тебе, – повторила Ксения. – Хотя, правду сказать, я не понимаю природу этого его неравнодушия… Она странная какая-то. Мне кажется, он и сам ее не понимает, и это его беспокоит.
– А мне кажется, тебе это кажется, – пожала плечами Эстер. Всего ее самообладания едва хватило для того, чтобы на лице у нее выражалась при этом лишь полная невозмутимость! – Не вижу разницы в его отношении ко мне и к твоей бабушке.
– Ну уж это, положим, не так, – улыбнулась Ксения.
– А давай проверим! – вдруг предложила Эстер.
– Что проверим?
– Как он к кому относится.
– Разве можно это проверить?
Улыбка на Ксенькином лице стала, впрочем, чуть настороженной и даже испуганной.
– А вот и можно! – заявила Эстер. – Меня Тоукер научил. Он гипнотизер, он знает.
Гипнотизер Тоукер работал в Мюзик-холле три месяца и, несмотря на свою английскую сдержанность, не остался равнодушным к испепеляющей, как он сказал, красоте Эстер. Правда, дальше приятной болтовни о том о сем их отношения не зашли. Эстер упражнялась во время этой болтовни в английском и получала разнообразные интересные сведения. Одно такое сведение она теперь и припомнила.
– Чтобы узнать, правда ли тебя любит тот, кто признается тебе в любви, – объяснила она, – надо, чтобы кто-нибудь посторонний неожиданно спросил его об этом. Только чтобы не предмет его любви, и вот именно очень неожиданно спросил. Лучше всего ночью по телефону. А сейчас как раз ночь, и он у телефона.
– Это какая-то игра, – сказала Ксения. – При чем здесь любовь?
– Ну и что с того, что игра? А когда все слишком серьезно, то скучно, – заявила Эстер. – Ну давай позвоним, а, Ксень?
– Но кто же будет звонить? – растерянно спросила Ксения. – И что говорить?
– Я позвоню! Не своим голосом, конечно, а притворюсь, я кого угодно умею пародировать. А спросить надо очень просто: «Кого вы любите?» Что он сразу ответит, то и правда.
И, не дожидаясь, пока Ксенька придет в себя, Эстер сняла трубку телефона, стоящего на тумбочке у дивана. Когда «Марсель» был только построен, телефоны имелись в каждой его комнате. После революции их, разумеется, отключили, но несколько лет назад связь была восстановлена, не зря же в доме жили работники ведомства связи.
– Барышня, – торопливо проговорила Эстер, – дайте Б-12-22.
– Не надо, ну зачем ты!.. – воскликнула было Ксения.
Но Эстер махнула на нее рукою и, прикрыв трубку, прошептала:
– Уже соединяет! – И сразу же произнесла замогильным голосом: – Ответьте, кого вы любите?
Ксенька ахнула и зажмурилась, а Эстер, вслушавшись в ответ, поскорее повесила трубку на рычаг.
– Ну, что он ответил? – приоткрыв один глаз, спросила белая от смущения Ксения.
– Странно… – задумчиво проговорила Эстер.
– Что странно? Сказал, чтоб не хулиганили? Но это вовсе не странно, этого и следовало ожидать!
– Нет, не то, – поморщилась Эстер. – Он сказал, что не знает. «Если б я знал!» – вот что сказал…
– Вот видишь, – тихо проговорила Ксения.
– Что – видишь? Именно что ничего не видно! И ничего не понятно.
– Он сомневается. Он не уверен, что любит меня. И как же я могла бы застить собою его жизнь? Нет, Звездочка, я все правильно решила, – твердо произнесла Ксения. – И он все правильно решил, когда от нас ушел. С глаз долой – из сердца вон.
Эстер ничего на это не сказала. Но совсем не потому, что была согласна с Ксенькиными словами, а потому, что ее охватила растерянность. Это чувство было совершенно ей не свойственно, она даже не сразу поняла, что это именно оно.
«Но как же он не знает? – думала она. – Как же не знает, если и смотрит на нее так, и говорит, и… Даже я знаю, что он в нее влюблен!»
Но голос Игната, услышанный минуту назад, звучал у нее в ушах – да что в ушах, в сердце! – заставляя сомневаться в том, в чем она себя убеждала. Он произнес эти слова: «Если бы я знал!» – именно так, как должен был произнести, если верить словам гипнотизера Тоукера. Так, будто сторонний вопрос стал продолжением собственной мысли, которая билась у него в голове неотступно.
– Я пойду, Звездочка, – нарушила молчание Ксения. – Полночь уже. Я завтра утром в Вербилки хотела поехать, мне, возможно, чайный сервиз дадут расписать. Если не передумают.
Она взяла со стола фарфоровые чашки, уложила в пальмовые коробочки. Тихо щелкнули крышки.
– Все это, может быть, и не главное, – сказала Ксения. – Он, я, наша любовь… Все это, может быть, совсем не главное…
– Ну как ты можешь такое говорить! – воскликнула Эстер.
Она наконец стряхнула с себя странное растерянное оцепенение.
– Но ведь говорю же. Значит, сомневаюсь, правда? Может, то, что я про жизнь понимаю, не дает мне думать, будто любовь в ней главное? А Игнат это чувствует, потому и…
Она махнула рукой и замолчала. Молчала и Эстер.
– Спокойной ночи, Звездочка.
Дверь почти не хлопнула, закрываясь. Ксенька все делала бесшумно. Ее существование в мире было не отчетливее, чем легкий сквознячок между дверью и окном. Ни одна свечка не погасла от этого сквознячка, только тихо качнулось их пламя.
«Но что же тогда главное? – невидяще глядя на закрытую дверь, подумала Эстер. – Не для меня, не для Ксеньки, не для Игната – но вообще, вообще?..»








