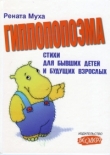Текст книги "Рената Флори"
Автор книги: Анна Берсенева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но Иван Карамазов совсем не обращал внимания на милую Грушеньку. Он в упор смотрел на Ренату. И взгляд его был так же неприятен, как его открытая и совершенно непонятная к ней неприязнь.
Она отвернулась. В конце концов, не мешало бы и поесть – зря, что ли, пришла в ресторан? Рената придвинула к себе хрустальную тарелку, на которой лежали маринованые миноги.
Но ее уловка не помогла.
– Считаете, я глупости говорю? – снова раздался громкий, резкий голос Ивана.
Делать вид, будто она не понимает, к кому обращен вопрос, было глупо. Рената прямо посмотрела на своего назойливого визави.
– Если отбросить вежливые экивоки, то да, – сказала она.
– Даже так?
Он сощурился; глаза сверкнули узко и зло.
– Именно так.
– Почему же, интересно?
– Ничего интересного, – отрубила Рената. – Глупо и пошло считать болезнь какой-то… – Она хотела сказать – преференцией, но сообразила, что Иван может и не знать этого слова. – Каким-то… бонусом. А говорить, что человеку повезло быть эпилептиком, – это, по-моему, не только пошло, но и подло.
Все-таки привычка одними людьми руководить, а за жизни других отвечать давала о себе знать – Рената умела быть резкой.
Почувствовав в себе эту резкость, она в ту же минуту почувствовала и уверенность в себе и наконец решилась посмотреть на Винсента. Он смотрел на нее не отводя взгляда, и взгляд его был печален. Тарелка перед ним оставалась полной – он не притронулся к еде. И бокал с вином стоял рядом с тарелкой нетронутый.
– Если смотреть на искусство с точки зрения бытового удобства, то конечно, – насмешливо произнес Иван. – Конечно, эпилепсия – это нехорошо.
По его тону было понятно, что он даже не предполагает, чтобы такая женщина, как Рената, могла смотреть на искусство с какой-нибудь другой, кроме как бытовой, точки зрения.
Она же, в свою очередь, не предполагала, что дерзкие слова какого-то мальчишки могут так ее задеть.
– Я… – произнесла она, задыхаясь от волнения. – Вы совершенно не правы!..
Она почувствовала, что щеки у нее гневно запылали, чего не происходило с нею, кажется, уже лет двадцать, если вообще происходило когда-либо.
Внизу, в большом зале, на сцене, расположенной под Аполлоновой колесницей, заиграл притихший было оркестр. Зазвучало танго.
– Горячее когда подавать? – спросил официант.
Его вопрос был обращен к Винсенту. Но он официанту не ответил.
Винсент встал и, обойдя стол, оказался рядом с Ренатой. Он сделал это так быстро, даже порывисто, что упал отставленный им стул.
– Я могу пригласить вас танцевать? – спросил он, глядя на сидящую Ренату с высоты своего роста.
Она тоже невольно встала, и тоже порывисто – конечно, только потому, что ей неловко было задирать голову. Танцевать ей совсем не хотелось: гнев был не лучшим сопровождением для танцев.
Но Винсент понял ее порывистое движение именно как желание потанцевать. Он взял ее под руку – прикоснулся к локтю тем же легким, осторожным движением. Вот только когда он сделал это в первую минуту ее появления, Ренату взволновал его жест. Теперь же она почувствовала лишь, что гнев сменяется в ее душе унынием.
«Он хочет меня успокоить, – подумала она. – Успокоить, отвлечь. Чтобы я не чувствовала себя среди близких ему людей такой чужой. Такой старой… И такой серой».
Она вдруг отчетливо, остро, болезненно ощутила свою внешнюю, уже ставшую привычной, блеклость как часть блеклости общей, внутренней, составляющей самую суть ее незамысловатой натуры. И стоило ли при этом обижаться, что даже молодой человек, которому злость заменяет ум, воспринял ее как часть бытового пейзажа?
Как воспринимает ее Винсент, думать ей вообще не хотелось.
Рената повела локтем, освобождаясь от его руки.
– Извините, – сказала она, – у меня голова разболелась. Я пойду.
И, ни на кого больше не глядя, не оборачиваясь, пошла к дверям.
Глава 13
Рената сбежала по мраморной лидвалевской лестнице стремительно, как Золушка. Вот только туфельку не потеряла – видно, такой рисунок не был предусмотрен ее судьбой. И давно она уже была не в том возрасте, когда ждут принца.
«Да и никогда я его не ждала», – думала она, быстро переходя через площадь Искусств под рукой у бронзового Пушкина.
Дома зодчего Росси обступали ее со всех сторон. Вид прекрасных, классически строгих питерских зданий всегда вносил мир в Ренатину душу. Но сейчас этого не происходило – впервые в ее жизни.
Она прошла до конца Итальянской улицы, вышла на узкий мостик, перекинутый через канал Грибоедова. На мостике, как всегда, играли уличные музыканты. Странно, что они играли даже теперь, вечером. В весенней тревожной тьме их музыка звучала уныло. Да нет, это просто настроение у нее сейчас унылое, и нечего на музыкантов пенять.
Рената остановилась на мосту, глядя на тускло-зеленую воду канала. Ее душили слезы.
«Я сама виновата, – думала она, судорожно эти дурацкие слезы сглатывая. – Я стала рутиной. – Наверное, это была не очень правильная фраза, но Ренате было сейчас не до правильности фраз. – Да-да, рутиной. Что такое моя жизнь? Работа – дом – работа. И все это я знаю уже до мелочей, во всем этом нет ничего такого, что будило бы… Да хотя бы воображение будило! Я превратилась в какую-то унылую функцию. Еще вздумала смеяться над пафосом, с которым эти дети рассуждали о Достоевском и ноосфере! А сама вообще, между прочим, только приблизительно знаю, что это за ноосфера такая. Мне просто незачем стало это знать. Чтобы делать кесарево и покупать свежие булки у метро, ноосфера ни к чему. И… И что я о себе вообразила? Какие чувства я могу вызывать у мальчика, который весь – порыв, трепет, у которого и мысль, и чувство светятся в глазах? Даже интереса я не могу у него вызывать, элементарного человеческого интереса, не говоря уже о… Господи, какая глупая фантазия пришла мне в голову, и почему вдруг, и зачем, зачем?!»
Слезы, которые она так старательно пыталась сдержать, все-таки потекли по ее щекам. Давно уже остыли ее щеки от гнева, потому что не было в ее жизни места таким сильным чувствам, как гнев. Она сама не заметила, как это произошло, что в ее жизни не стало места сильным чувствам, но произошло же, и никакие перемены уже невозможны, потому что не может человек переменить свою душу, не может заставить кровь быстрее бежать по жилам. Это тебе не гемоглобин повысить, попил таблеток – и готово.
Вот пожалуйста, даже сейчас ей в голову приходят какие-то медицинские сравнения. От осознания этого силы оставили Ренату совершенно – ноги подкосились, она присела на корточки и в голос зарыдала. Как противна она была себе при этом! Осталось только с моста в воду броситься, как Бедная Лиза какая-нибудь.
Наконец она сумела сдержать слезы – для этого ей пришлось изо всех сил прижаться лбом к холодной чугунной решетке моста. Глупо было плакать. Глупо и, главное, бессмысленно. А жизнь ее так долго – да какое долго, вообще всегда! – была сплошь осмысленной, что этот главный аргумент и сейчас оказался действенным.
Уличные музыканты перестали играть. Рената заметила, что один из них направился к ней. Наверное, решил спросить, не нужна ли помощь, – глаза на его испитом лице были сочувственные, как у Иисуса на старинной пасхальной открытке.
Так оно и оказалось, конечно.
– Вам плохо? – спросил музыкант. – Может, врача вызвать?
– Нет, спасибо, – ответила Рената. – Я сама врач. Все у меня хорошо.
Ей было неловко перед этим сочувствующим человеком. Что, в самом деле, разревелась как дитя? Она ведь прекрасно умеет держать себя в руках.
И в ту самую минуту, как она об этом подумала, Рената почувствовала, что ее плеч касаются другие руки. Она не ожидала этого. Она не могла этого ожидать! Но ей вдруг показалось, что она вот именно ждала этого всегда. И даже не то что ждала… Это не могло быть иначе, вот что ей показалось.
Она замерла, не решаясь обернуться. Руки Винсента лежали у нее на плечах. Она чувствовала их тепло сквозь плотную ткань плаща так же явственно, как недавно сквозь тонкий шелк палантина. Наверное, и голым телом она почувствовала бы их тепло точно так же.
От этой мысли – ясной, просто физически ощутимой мысли – Ренату бросило в жар.
Она не могла проговорить ни слова. Винсент тоже молчал.
«Надо обернуться, – судорожно, так же, как пульсировала в висках кровь, забилась у нее в голове мысль. – Я все-таки старше, чем он, мне проще держать себя в руках. Надо обернуться, сказать ему, что я…»
Но что она должна ему сказать, Рената не знала. И держать себя в руках было ей совсем не просто.
– Я не хотел вас обидеть, – сказал Винсент. – Простите меня.
И звук его голоса оказался таким спасительным, принес такое облегчение! Рената обернулась, стараясь, чтобы его руки не соскользнули с ее плеч. А это не могло получиться иначе, чем если бы она оказалась в его объятиях. Так оно и получилось – она замерла в кольце его рук, прижимаясь щекой к его груди.
– Вы не могли меня обидеть, – поднимая на него глаза, сказала Рената. – Это просто невозможно.
Он улыбнулся. Его улыбка сверкнула над нею высоко, как луна над водой в просвете неба.
– Я не должен был позволить, чтобы Игорь показывал вам свою злость.
– Какой Игорь? – удивилась Рената. И сразу догадалась: конечно, это о том актере, который играл среднего из братьев Карамазовых и которого она поэтому называла про себя Иваном. – А!.. – улыбнулась она. – Я не знала, как его зовут.
– Он в самом деле недобрый человек, – с удивительными своими, глубоко серьезными интонациями объяснил Винсент. – Это его натура, как натура Елены – фанатичность, которую вы в ней сразу заметили. Это, я думаю, уже нельзя изменить в каждом из них. И я расчетливо использовал натуру Игоря в спектакле. Но спектакль кончился. А я позволил его натуре проявляться рядом с вами. Простите меня, – повторил он.
От того, что он объяснял все это, обнимая ее, от того, что и улыбка его, и серьезные глаза сияли при этом вровень с луной, – от всего этого Ренате хотелось не то плакать, не то смеяться. Чувства ее были так остры и свежи в эту минуту, что голова кружилась от них больше, чем от свежести весеннего ветра, который порывисто веял над водою канала Грибоедова.
«До чего же он красивый! – с наивным, детским каким-то восторгом подумала Рената. – Глаза эти, волосы падают на лоб, губы…»
Она подняла руку и коснулась пальцем его губ. Он словно ждал этого – поцеловал ее палец, потом ладонь, потом наклонился… Его губы коснулись ее губ с такой осторожной нежностью, что впору было снова заплакать. Но Рената не заплакала – она вскинула руки и, обнимая Винсента, ответила на его поцелуй с такой страстью, которой не могла от себя ожидать.
А все остальное – разве она могла ожидать от себя этого остального? Того, что сердце забьется навылет, что вся ее жизнь сосредоточится в кольце его рук и ей не захочется разомкнуть пределы этого счастливого кольца… Господи, да с нею ли все это происходит?!
Но задуматься об этом Рената не могла. Она вообще утратила способность обдумывать свои поступки, ту способность, которую привыкла считать главной в своем повседневном поведении. Наверное, дело было в том, что из ее жизни ушло сейчас, улетучилось все повседневное.
– Мы пойдем ко мне? – спросил Винсент.
Не совсем и спросил даже – интонация была полуутвердительная-полувопросительная. Рената почувствовала, что сердце его замерло при этом, как будто в ожидании.
– Да, – сказала она.
И что еще она могла бы сейчас ему ответить? И, главное, зачем было отвечать ему что-то другое?
Винсент жил на Васильевском, близ Тучкова переулка, среди маленьких, в шесть окон по фасаду, ампирных домиков, которые теснились в старой части острова. Дом, в котором он снимал комнату, был, впрочем, не ампирный, а попроще – обыкновенный питерский доходный дом начала двадцатого века.
– Здесь близко жила Ахматова, – сказал Винсент, когда они с Ренатой шли по Тучкову переулку. – Во-он в том доме, видите? Она его называла Тучка. Здесь у нее родился сын. И она написала, что Васильевский остров – это как будто плот.
Рената всю жизнь проработала на Васильевском, но о том, что здесь жила Ахматова, не знала. Ей стало стыдно перед Винсентом. Хотя вообще-то она не могла испытывать перед ним настоящий стыд. Ее чувство к нему было много сильнее стыда.
Они вошли в арку, потом в гулкую парадную с облупленной краской на стенах, потом поднялись по просторной лестнице на третий этаж.
В квартире стояла тишина. Из-за высоких потолков она казалась ощутимой, огромной.
– У меня очень старые соседи, – шепотом сказал Винсент, осторожно, чтобы не щелкнул замок, прикрывая входную дверь. – Просто две старушки. Они рано ложатся спать.
Это прозвучало трогательно, как оправдание. Может быть, он подумал, что Ренате неловко в присутствии посторонних людей приходить к мужчине в такой поздний час?
Она улыбнулась его словам. В тусклом свете единственной коридорной лампочки он, наверное, не разглядел ее улыбку. К тому же он был сильно взволнован, это Рената чувствовала.
Его комната поражала только одним – пустотой. Когда они вошли и Винсент включил свет, Рената не сразу догадалась, с чем связано такое ощущение; она и сама была взволнована не меньше, чем он. Но, присмотревшись, поняла, что оно происходит из-за того, что вдоль стен стоят два чемодана на колесиках и несколько картонных коробок, заклеенных скотчем.
– Вы уже уезжаете? – растерянно спросила она.
Растерянность прорвалась в ее голосе невольно. Рената хотела бы ее сдержать, но это не получилось.
– Да. Завтра.
– Да. Я забыла.
Она сразу же овладела собой, своим голосом. Ну конечно, он ведь говорил, что теперь будет ставить спектакль в Москве. Значит, уезжает. Завтра.
– Вы замерзли? – спросил Винсент. – Я согрею чай.
Самые обыкновенные, ничего серьезного не значащие слова он произносил так, что они приобретали какое-то другое, не обыкновенное значение. При этом ни в смысле, ни в тоне его слов не было ни капли ложной многозначительности. Как это у него получалось? Рената не понимала. Ее способность что-либо понимать так и не восстановилась, вся она по-прежнему состояла не из мыслей, а из одних только чувств, сильных, до болезненности острых.
– Не надо чаю, – сказала Рената.
Она не могла представить, как они стали бы пить вместе чай, вести какие-нибудь неторопливые разговоры, которыми неизбежно сопровождается чаепитие. Она и в ресторане куска не смогла проглотить, даже вина, кажется, не выпила.
– Вы совсем не ели в ресторане, – сказал Винсент.
Он уже не в первый раз вслух произносил то, что едва лишь появлялось у нее в мыслях. Словно настроен на нее он был, как на антенну.
– Я не голодна.
Ее не тяготил этот обмен ничего не значащими фразами. Да и не были они ничего не значащими – их значение заключалось не в поверхностном смысле произносимых слов.
– Я люблю вас, – сказал Винсент.
Они стояли посередине пустой комнаты. Он смотрел на Ренату не отрываясь. От его слов она должна была бы почувствовать растерянность. Но почувствовала одно только счастье. Когда он обнимал ее, целовал – в этом было что-то такое… Это происходило так легко, так мимолетно, словно само собою, как будто так было всегда. Но вот эти его слова – они были не сами собою. Они не родились в пространстве, как порывы ветра или шелест воды – они родились в нем, и весь он был в них, со всей своей сердечной чистотой и серьезностью.
– Я люблю вас сразу же, как только увидел в первый раз, – сказал он. – Каждое ваше движение и ваш необыкновенный взгляд… Это сразу так получилось. Я никогда не думал, что такое может быть с людьми.
Когда он увидел ее в первый раз, она осматривала больную и ей было совсем не до какого-то долговязого парня, который неловко топтался рядом. И какой у нее тогда был взгляд? Рената и не помнила даже. Уж точно, что самый обыкновенный.
Но у него, у него сейчас!.. Взгляд, которым Винсент смотрел на нее, переворачивал душу, взрывал сердце, заставлял забыть обо всем, что стало в ее жизни привычным, обязательным, обыденным, само собою разумеющимся.
Ей показалось, что он всю ее переделывает сейчас своей любовью, меняет ее физический состав; наверное, если бы взять у нее сейчас анализ крови, эритроциты были бы совсем другие, чем до встречи с ним.
«Да ведь и я люблю его. – Рената почувствовала, как счастье растет в ней, растет, заполняет всю пустоту, которая образовалась у нее внутри за целую жизнь. – Я люблю его, и нет ничего важнее».
Она хотела обнять его, поцеловать. Но не сделала этого, потому что хотела видеть его глаза, всего его отчетливо хотела видеть, когда произнесет то, что само рвалось у нее изнутри.
– Я люблю вас, – повторяя каждое его слово – а какие еще могли быть у нее отдельные, не его слова? – сказала Рената. – Это может быть с людьми. Это есть. С вами и со мною.
Часть вторая
Глава 1
«Надо было все-таки встать… Задернуть шторы… Поленилась, и вот…»
Все это проплыло у Ренаты в сознании медленно, легко, как облака плывут по летнему ясному небу. Да и не в сознании плыли у нее эти мысли, а в том блаженном веществе, которым заменяется сознание во время счастливого сна.
И хорошо, что вечером, то есть ночью уже, она поленилась вставать, чтобы поплотнее задернуть шторы. Вот теперь, утром, она и проснулась от того, что солнечный лучик защекотал ей нос, а когда открыла глаза – недолго она выдержала это щекотание, улыбнулась и открыла глаза, – да, когда открыла глаза, то сразу увидела лицо Винсента рядом с собою на подушке, и сразу же ей захотелось не улыбаться даже, а в голос смеяться от счастья.
Он спал крепко, погружен был в сон глубоко, но при этом лицо его сохраняло все черты той трепетной серьезности, которая была присуща ему во время бодрствования, составляя самую сущность его натуры.
Капельки пота блестели у него на лбу. Они почему-то выступали всегда, когда он спал.
«Надо бы ему обследоваться, – подумала Рената. – Ничего в таком поту нет хорошего. Это даже тревожно».
Но счастье ее было так велико, что не оставляло в сердце места для тревоги. И вообще ей даже в мыслях не хотелось этой роли – взрослой мудрости, которая опекает юную трепетность.
Никакой взрослости она в себе больше не ощущала. Тяжесть лет слетела с ее плеч, пустота обыденности выдулась у нее изнутри. То, что она лишь смутно почувствовала, когда Винсент впервые сказал ей: «Я люблю вас» – вот эта перемена всего физического состава организма. Теперь стала для нее совершенно очевидной.
Рената хотела вытереть капли пота у Винсента со лба, но не стала – побоялась его разбудить.
Солнечный луч трепетал на подушке совсем рядом с его головой, тени от ресниц становились от этого глубокими, абрис лица – еще более выразительным, чем обычно, хотя более, Ренате казалось, уже и быть не могло.
Она зажмурилась. Неужели это происходит с нею? Это любимое лицо на расстоянии вздоха, и ресницы вот-вот дрогнут, встрепенутся…
Ее телефон, лежащий на полу у кровати, задрожал и разлился звонкой мелодией. Рената бросила на трубку подушку и, вскочив с кровати, прямо в подушке вынесла ее из комнаты в кухню. И почему не выключила с вечера? Вечная ее привычка всегда быть в поле досягаемости! Зачем она ей теперь?
– Мам, – сказала Ирка, – может, их все-таки уже посадить? Подпереть спину подушками, и пусть сидят. Ну сколько они лежа будут есть, как придурки?
Дочь так и не приобрела привычку сначала здороваться, а потом уж начинать разговор. Рената ругала ее за это, но потом махнула рукой. Самой-то ей эта Иркина бесцеремонность была даже приятна: создавалась иллюзия, что они расстались не два года назад, а сегодня утром, и что их разделяет не океан, а лестничная площадка.
– Не спеши, Ира, не спеши, – ответила Рената. – Не торопи события. Вот сядут сами, тогда и будут сидя есть. И при чем здесь придурки? В подушках сидеть – тоже, знаешь ли, большого ума не надо.
– Ладно, не буду, – вздохнула Ирка. И поинтересовалась: – Курсы твои когда кончатся? Долго еще в Москве пробудешь?
– А куда мне спешить? – не отвечая на ее вопрос, сказала Рената. – Мы же все равно на дезинфекцию до сентября закрыты.
– Приехала бы к нам.
– Приеду, Ир, – сказала Рената. – У меня же загранпаспорт еще не готов.
Это была правда: что у нее просрочен загранпаспорт, Рената узнала, когда собиралась подавать документы на американскую визу. Теперь ей в самом деле пришлось ждать нового паспорта. Но, отвечая дочери, она расслышала в своем голосе виноватые интонации. Да и как их могло не быть? Внуков еще не видала, а вместо того чтобы к ним ехать…
Виноватые интонации были. Но вины никакой Рената не чувствовала. Она чувствовала одно только счастье.
– Все, я побежала! – воскликнула за океаном Ирка. – Дашка проснулась. Орет как резаная, сейчас Сашку разбудит.
Прощаться она тоже не имела обыкновения. И это тоже казалось теперь Ренате отрадным, потому что не напоминало о расставании.
Почему вот уже третий месяц живет в Москве, она дочери не объяснила. Да и что она могла объяснить? Что влюбилась, бросила работу, дом, всю свою привычную жизнь и поехала в Москву вслед за мальчиком, почти Иркиным ровесником? И что если бы он поехал не в Москву, а в Антарктиду, то она, ни минуты не раздумывая, отправилась бы за ним и туда? Рената с трудом представляла, как смогла бы произнести это вслух.
Да и зачем было вслух это произносить? Дочери она сказала, что находится в Москве на курсах повышения квалификации. На работе тоже никому ничего объяснять не пришлось: сначала Рената взяла отпуск за этот год и неиспользованный за прошлый, а потом началась ежегодная дезинфекция и роддом закрылся до конца лета.
Что будет потом, когда лето кончится, Рената не загадывала. В конце концов, она много лет подряд расписывала свою жизнь надолго вперед, а теперь настало иное время ее жизни, и ей не хотелось думать, сколько оно может продлиться.
Рената оставила телефон на столе и вернулась из кухни в комнату.
Винсент улыбнулся ей сразу, как только она появилась на пороге. Солнечный луч все-таки добрался до его лица, высушил капли пота на лбу и светился теперь в его глазах и вот в этой улыбке.
– Звонок тебя разбудил, да?
Рената улыбнулась тоже.
– Нет. – Он покачал головой. Абрис его лица переменился от этого движения – стал другой и все равно прекрасный. – Меня разбудил сон.
– Это как? – удивилась Рената.
– Я увидел сон и проснулся от него.
– И какой же сон?
Она прошлепала босыми ногами к кровати, села на край, коснулась ладонью его щеки. Он прижал ее руку щекою и, чуть повернув голову, поцеловал в ладонь.
– Я не могу это рассказать.
– Почему? – улыбнулась Рената. – Это тайна?
– Да, – серьезно кивнул он. – Но не потому, что я хочу скрыть мой сон от тебя, а потому что он не может тебе понравиться.
Это были неопределенные и какие-то странные слова. Но расспросить поточнее, что они означают, Рената не успела. Винсент обнял ее и притянул к себе. Он сделал это с той порывистостью, которая отличала каждое его движение, во всяком случае, каждое движение, связанное с нею.
И Рената тут же ответила на его порыв – она тоже делала это каждый раз, и каждый раз при этом чувствовала в себе и в нем что-то новое, такое, чего не могла ожидать заранее. Как это могло получаться при одних и тех же объятиях? Непонятно. Но получалось именно так.
Руки его дышали теплом, а все тело под одеялом было прохладным, как река. Сбрасывая ночную рубашку, Рената уже прижималась к нему, а он обнимал ее все сильнее и все нежнее; удивительным образом соединялись в нем нежность и сила.
Винсент уложил ее на подушку так осторожно, как будто она была сделана из какого-то очень хрупкого материала. Но когда он сам лег рядом, осторожность сразу же исчезла из его движений – вытеснилась страстью. И в том, как он касался руками и губами всего ее тела, была уже одна только страсть, и губы у него горели при этом как в жару, и она загоралась от его нетерпеливого жара.
Удивительно было его нетерпение! Оно было частью страсти, ее могучей составляющей, оно не торопило, а лишь горячило их обоих, и Ренату особенно. За долгие годы одиночества ей давно уже стало казаться, что тело ее высохло изнутри, а теперь выяснилось, что это была сухость пороха. Не много времени требовалось ее телу до взрыва! Винсент сразу это понял и в нетерпении своем был нетороплив, и в ласках нетороплив был тоже.
Его губы двигались по ее телу вниз медленно и жарко. И огонь, рождавшийся в ней, бежал вслед прикосновениям его губ, как бежит огонь по бикфордову шнуру. И тело ее начинало звенеть от этих прикосновений таким сильным звоном, что сама она казалась себе проводом, натянутым туго, чтобы улавливать любые, даже незаметные внешне, колебания воздуха.
Рената сжимала коленями плечи Винсента, его голова металась у нее под грудью, и больше она не могла уже сдерживать крик, рвущийся у нее из горла. Ласки его должны были кончиться, она больше не могла их выдержать!
Когда Винсент накрыл ее собою, тело его было уже не по-речному прохладным, а горячим, как пластина раскаленного металла. Это было даже больно, чувствовать его на себе, но какая же счастливая это была боль!
Он тоже вскрикнул – что-то короткое, непонятное – и сразу застонал, забился над нею. Порох, порох!.. Пороховым жаром они вспыхивали оба.
Когда это произошло в первый раз, той ночью в пустой комнате на Васильевском острове, Рената не знала, что ей делать, как только все кончилось. Надо что-нибудь сказать ему? Или, наоборот, лучше молчать? Прижаться к нему теснее, отодвинуться, поцеловать его, встать и поскорее выйти?.. Она растерялась совершенно, она забыла, что делают в таких случаях, да и не забыла – ей просто нечего было вспоминать ни о чем подобном!
Но и той ночью, и каждой ночью, которая наступала после нее, и этим утром, когда солнечный луч плясал на их разгоряченных любовью телах, ей ничего не пришлось ни вспоминать, ни делать. Винсент все делал сам, и Рената не могла даже сказать, что именно он делает. Он просто был с нею, вот и все.
Он лег рядом и сразу же положил ладонь на ее щеку так, что голова ее оказалась у него на плече. Он сделал это каким-то особенным движением, общим с тем, которое только что делало их единым телом.
Они долго лежали так молча, и молчание не тяготило их.
– Сердце… – наконец сказала Рената.
– Что – сердце? – не открывая глаз, спросил Винсент.
– Сердце у тебя прерывисто бьется. Ты устал?
– От чего?
Он улыбнулся, по-прежнему не открывая глаз.
– От… От этого.
Рената почувствовала смущение. Как странно! Она и в молодости не чувствовала ничего подобного, и тем более удивительно было чувствовать смущение теперь, когда весь груз ее жизни должен был бы лежать у нее на плечах.
Но она смущалась как девчонка, и в этом смущении было то же самое счастье, что и в пороховых вспышках ее тела.
– Я не устал тебя любить, – сказал Винсент.
Он-то как раз нисколько не смущался, произнося эти слова. Может быть, потому что они звучали не на родном его языке. А может, по другой причине.
Рената приподнялась, быстро поцеловала его в уголок рта и спросила:
– Есть у тебя сегодня репетиция?
– Да. – Он открыл глаза. – Я назначил на одиннадцать часов утра. У нас еще есть время на завтрак. Что ты хочешь поесть?
– Я что-нибудь приготовлю. Ты полежи еще, ладно?
Иногда Винсент готовил завтрак сам. Иногда она готовила. Это каждый раз получалось как-то само собою.
Рената встала, набросила халат и пошла к двери. Когда она обернулась на пороге, Винсент смотрел ей вслед. Его лицо показалось ей каким-то слишком бледным. Но, наверное, это вот именно только показалось от недостатка света, ведь шторы еще были задернуты, и в комнате стоял полумрак.
Придя после ванной в кухню, Рената открыла окно: ей хотелось, чтобы лето вошло в дом всем своим солнцем, всем утренним воздухом, и все это встретило бы Винсента.
Она слушала, как шумит в ванной вода, жарила тосты и ждала, когда он придет в кухню.
Наверное, это было смешно – то, что она ожидает его появления так, будто они не расстались пять минут назад. Если бы он догадался об этом ее ожидании, то, может быть, засмеялся бы.
Наконец он появился на пороге. Сердце у Ренаты забилось быстрее.
– Чай или кофе? – спросила она.
– Спасибо, только сок.
– Почему? – удивилась Рената.
– Да-да, – ответил Винсент. – Сейчас…
Вид у него уже был рассеянный, и вряд ли он вообще понял, о чем она спрашивает. Перед репетицией он всегда становился такой – вся его сосредоточенность уходила вглубь, а для внешнего мира оставалась лишь совершенная рассеянность. Рената этому уже не удивлялась.
Винсент сел к столу, она поставила перед ним тарелку с тостами, джем, мед, масло – все, что составляло его обычный утренний набор. Когда Ирка еще жила дома, в Питере, и еще не познакомилась с Антоном, Рената часто ездила с ней вдвоем на выходные в Финляндию. Тогда она и полюбила рациональность и простоту европейских завтраков.
Винсент придвинул к себе тарелку, но не ел, а смотрел в окно. Лицо у него все-таки было бледным. Наверное, от погруженности в собственные мысли.
Ей вдруг стало так жаль, что вот сейчас он уйдет и она не будет видеть его долго-долго, может быть, до самого вечера.
– Винсент… – нерешительно сказала Рената. – Послушай…
Винсент сразу встрепенулся, словно вынырнул из глубокого тумана, в который он был погружен и сквозь который ей было к нему не пробиться.
– Да, – сказал он, – я слушаю. Извини.
Слова и привычки вежливости были в нем так сильны и, главное, так органичны, что проявлялись легко, мгновенно, без малейшего усилия с его стороны.
– Можно мне прийти к тебе на репетицию? – спросила Рената.
Он улыбнулся.
– Что ты? – Она невольно улыбнулась тоже. – Почему ты улыбаешься?
– Просто так. Потому что мне хорошо. Ты спрашиваешь моего разрешения, как будто маленькая девочка.
– Но как же я могу не спросить? А вдруг ты не хочешь?
– Что не хочу?
– Чтобы я пришла.
Винсент репетировал «Бурю» уже третий месяц и ни разу не позвал ее посмотреть его репетиции, так что вполне логично было предположить, что он этого не хочет. Мало ли почему! В том мире, в его мире действовали какие-то особенные законы, которых Рената не понимала.
Он улыбнулся. От улыбки его бледность стала еще заметнее, чем от сосредоточенности.
– Ты думаешь, что я могу этого не хотеть?
– Я не знаю, Винсент. – Рената расслышала нотки смущения в собственном голосе. – Я никогда не сталкивалась… со всем этим.
«Все это» была жизнь, которую он вел. Рената не была уверена, что он понял ее слова.
– «Все это» полно тобой, – сказал он. – Ты не должна бояться туда заглянуть.
Все он понял. Он понимал ее слова прежде, чем она успевала их произнести, и точнее, чем она умела их высказать.
Рената быстро обошла стол и обняла Винсента. Его голова прижалась к ее груди.