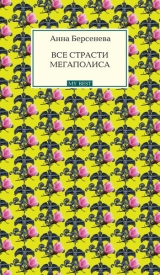
Текст книги "Все страсти мегаполиса"
Автор книги: Анна Берсенева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 11
Пока она занималась вареньем, каплями для полоскания и светской беседой, погода переменилась. Небо, с утра светившееся ясным осенним светом, теперь затянулось тучами. Тяжелые, низкие, они лежали прямо на крышах домов. От этого Соне показалось, что она провела в квартире Дурново не час с небольшим, а целый день. И это заставило ее еще больше разозлиться на себя.
«Еще в шесть утра к страдальцу помчалась бы! – подумала она. – Как его мамаша к собачке».
Бытовая сентиментальность совсем не была ей свойственна, да и никакая не была; оставалось только удивляться собственной глупости.
«Так тебе и надо! – говорила себе Соня. – Взялась возиться с маменькиным сыночком, вот и получила. Мерси за услугу, можете быть свободны! Странно, что еще деньги не предложили. А кстати, за лекарство могли бы и вернуть. Булочки и варенье ладно, зачтем в обмен на браунис».
Настроение было испорчено, идти никуда не хотелось. Да и погода не располагала к прогулкам: ветер бил в лицо, тучи с каждой минутой становились все темнее и вот-вот обещали прорваться дождем.
Соня свернула в переулок, к общежитию.
«Неплохо бы и мне вздремнуть, – решила она. – Хлодвиг Маркович от переживаний утомился, а я чем хуже? Между прочим, я тоже не выспалась. Вот и пойду спать!»
Уснула она сразу, как только легла в кровать. Злость на себя и тем более на семейство Дурново – это было совсем не то чувство, которое могло бы довести ее до бессонницы. Эти люди не задели ее сердце.
Но сон ее все-таки был беспокоен. Какой-то он… московский был, этот сон. Ей снилась женщина, которая, стоя почему-то у входа в общежитие, говорила, что она риелтор, а потом оказалось, что она не риелтор, а креатор. Во сне Соня не знала значения обоих этих слов, но знала, что значения эти неважные, совершенно ей не нужные, какие-то… Поверхностные, вот какие! А потому московские, да, московские. И ее ужасно сердило, что эта женщина зачем-то обращается именно к ней и пытается разъяснить, кем же все-таки работает.
«Я-то при чем? – говорила у себя во сне Соня. – Отстаньте вы от меня! Что вы все время стучите?»
Но женщина не отставала. Она все стучала и стучала по стеклу, и этот непрекращающийся дребезжащий стук не давал спать.
Соня резко села на кровати. В комнате было темно – значит, она проспала весь день. За окном бушевала настоящая буря: шумел дождь, гудел ветер, деревья били ветками по стеклу.
«Да это просто деревья стучат, – подумала Соня. – Дурацкий сон!»
Но тут по стеклу застучали так, как не могли стучать ветки деревьев, – длинной отчаянной дробью.
Соня набросила халат и подбежала к окну. Свет она не включала, поэтому сразу разглядела за стеклом очертания человеческого лица. А присмотревшись внимательнее, поняла, что это лицо Пети Дурново.
Сон так отдалил события сегодняшнего утра, что они казались теперь словно и небывшими. Они даже совсем забылись, эти события, и Соня не могла понять: что делает здесь Петя, почему он мокнет под дождем?
Окно не было заклеено на зиму – Соня распахнула его.
– Петя? – удивленно произнесла она. – Ты почему мокрый?
Вопрос был не из разумных. Каким же еще можно быть, стоя под дождем, если не мокрым?
Открывая окно, Соня еще не совсем отошла от сна. И только когда дождевые струи ударили ей в лицо, она стала возвращаться в действительность.
Петя был не просто мокрый – он выглядел таким несчастным, что при виде его любая женщина разрыдалась бы от сочувствия. Только не Соня, конечно. Особенно после того, что произошло сегодня утром.
– Ты что здесь делаешь? – не дождавшись ответа на первый, глупый вопрос, спросила она. – Что случилось?
Ответа на умные вопросы тоже не последовало. Петя молча смотрел на нее широко открытыми глазами, по его лицу потоками текла вода, словно по лицу мраморной статуи, и от всего этого казалось, что он словно бы не в себе.
– Заходи, – вздохнула Соня. – Да не в дверь, – уточнила она, увидев, что Петя, как солдатик, повернулся кругом. – Который час? Общага уже закрыта, наверное. В окно залазь.
Она не была уверена, что Петя сумеет влезть в окно: первый этаж в старом доходном доме был довольно высоким. Не хватало еще втаскивать его под мышки, как какую-нибудь княжну в челн Стеньки Разина! Или нет, княжну, наоборот, из челна выбрасывали. Какие все-таки глупости лезут в голову спросонья в этой странной, сумеречной ситуации!
Петя влез в окно мгновенно. Он оказался совсем не похож на ватного медведя, наоборот, хотя и не производил впечатления атлета, но легко подтянулся на руках, уперся ногой о выступ в стене, упруго оттолкнулся и, как пружиной подброшенный, перепрыгнул через подоконник.
– Ого! – усмехнулась Соня. – Ты спортом не занимаешься? Прыжками с шестом? Или с чем там… В высоту, в общем.
– Н-нет… Только в фитнес хожу…
Петя наконец разомкнул губы. Они у него были не просто белые, а даже синие. Похоже, он не только промок до нитки, но и промерз до костей. Что могло заставить Петю, который совсем недавно чувствовал себя умирающим от температуры тридцать семь и шесть, оказаться на ночной улице во время самой настоящей бури, – этого Соня не могла себе даже представить. Ясно только, что это могло быть лишь что-нибудь сверхъестественное.
– Учти, у меня малинового варенья нет, – чуть более мягким тоном сказала она. – Держи вот полотенце, вытрись, ты же мокрый весь. Сейчас чайник вскипячу.
Вода в электрическом чайнике вскипела мгновенно, но за это время Сонина злость на Петю все же успела поостыть. Очень уж жалкий у него был вид, да еще носом он шмыгал, как ребенок…
– Так что все-таки случилось? – повторила она, выставляя на стол перед Петей свою самую большую кружку.
Кружка была высокая и узкая, поэтому чай в ней долго оставался горячим. Но Петя, кажется, даже не заметил исходящей паром кружки прямо у себя перед носом.
– Соня!.. – хрипло произнес он. – Соня, извини меня!
– За что? – пожала плечами Соня. – Ты такой, как есть. За это не извиняются.
– Я вовсе не такой! – Эти слова прозвучали с совсем уж детской обидой. Соня не смогла сдержать улыбку. – Я не должен был так себя вести, я понимаю! Но я… Я просто растерялся, Соня, понимаешь? То есть…
Все-таки его было жалко. Явился ночью под окно, в дождь, даже зонтика не взял… Может, перед этим по улицам бродил, собирался с силами. Все это было трогательно, даже учитывая полное отсутствие у Сони сентиментальности.
– Ну, растерялся и растерялся, – примирительным тоном сказала она. – С каждым бывает. Я на тебя не обижаюсь.
«На такого, как ты, грех обижаться», – подумала она при этом.
– Правда?
Петино лицо просияло. Оно до сих пор было мокрым: видно, он и в самом деле был сильно взволнован, если не вытерся сразу же, как только ему было выдано полотенце.
– Правда, – улыбнулась Соня. – Вытирайся и чай пей, а то опять горло заболит.
Но Петя пропустил ее слова мимо ушей. Он встал, уронив полотенце на пол, шагнул к Соне… И обнял ее так крепко, что она чуть не вскрикнула. Все-таки он был сильный и не умел свои силы рассчитывать.
– Петь, ты же… – начала было Соня.
Но он не дал ей договорить. И поцелуй его снова был приятен… Еще даже более приятен, чем утром, – оттого, что губы у него теперь были холодные и пахли не лекарственной мятой, а свежим ночным дождем и осенними листьями.
«Жевал он, что ли, эти листья?» – успела подумать Соня.
И сразу перестала думать – совершенно отдалась поцелуям. В этих поцелуях они были как будто бы не собою, не неловким, немного смешным Петей, не сердитой на его неловкость Соней, а какими-то совсем другими людьми, во всем друг к другу прилаженными, совершенно друг с другом совпадающими…
И то, что они оказались в кровати, было словно продолжением этих поцелуев – простым, единственно возможным продолжением.
Петя и весь был мокрый, не только губы. Мокрый, холодный, свежий – он взбудоражил Соню так сильно, что она забыла обо всем. Да и что у нее было такого, о чем стоило бы сейчас помнить, на что стоило бы променять минуты полного самозабвения?
И все-таки даже сквозь это свое самозабвение она понимала, чем он взбудоражил ее. Своей неловкостью, неумелостью, торопливостью, вот чем. Дрожь его мягких, с округлыми ладонями рук казалась не дрожью, а трепетом.
Правда, сам он был совсем не трепетный, а очень даже тяжелый: когда Петя оказался над нею, то так придавил ее, что Соня охнула. Ей пришлось упереться руками ему в грудь и подтолкнуть его снизу, только тогда он догадался, что надо приподняться, чтобы она могла хотя бы дышать.
Но потом их дыхания слились в общей своей прерывистости, и все эти мелочи перестали что-либо значить.
Неважно было и то, что Петя торопился, и то, что никак не мог развести Сонины ноги, его руки соскальзывали с ее коленей, или это не он, а сама она не могла их развести от волнения?.. И почему она так волновалась – потому, что его волнение передалось ей, или просто сама по себе?.. Но как хорошо все это было, как легко – и волнение, и неловкость, и сбивчивые его слова, среди которых она отчетливо могла разобрать только свое имя!
И даже то, что все кончилось очень быстро, ничуть Соню не разочаровало. Она уже понимала, что все самое лучшее в жизни и бывает мгновенным, мимолетным, и должно таким быть. Хотя едва ли она могла бы обозначить это свое понимание внятными словами, и особенно сейчас не могла, да и не хотела… И нужны ли здесь были внятные слова?
– Тебе… совсем?.. – не глядя на нее, чуть слышно проговорил Петя.
– Что – совсем?
Соня улыбнулась. Как все-таки отличалась его дневная точная речь от этой, ночной! Она не знала, какая из них нравится ей больше. Наверное, все-таки вот эта, искренняя в своей несвязности.
– Ну, совсем… не было со мной хорошо? – запинаясь, пояснил он.
Соня удивленно посмотрела на него. Почему он так решил?
И тут же она догадалась, почему!
– А у тебя это что… В первый раз? – почти так же сбивчиво, как Петя, спросила она.
Ее собственная сбивчивость происходила не от смущения, а лишь от изумления. Соня до сих пор не знала, сколько Пете лет, но что не двадцать и даже не двадцать пять, это точно. И что, получается, она его первая женщина?! Было от чего оторопеть. Но что причина его смущения именно в этом, она не сомневалась.
Петя молчал, отвернувшись. Соне стало стыдно.
«И зачем спросила? – подумала она. – Очень ему приятно в таком признаваться!»
– Я, конечно, пробовал, – наконец ответил Петя. Его голос звучал чуть слышно. – Еще в школе. И в институте потом. И на работе уже, с одной там у нас… И… – Он опять замолчал.
«И что?» – хотела спросить Соня.
Но не спросила.
– И каждый раз… В общем, не получалось. У них не получалось, потому что, наверное, я… В общем, конечно, не у них, а у меня не получалось…
Трудно было что-либо понять из его сбивчивых объяснений – что у кого не получалось, почему. Но Соня была уверена, что и не надо всего этого понимать.
– Глупости, – сказала она. – Все у тебя получилось. Нормально, как у всех.
Тут она сообразила, что и сама сморозила дикую глупость. Хорошенькая похвала мужчине – ты, мол, как все! Да и женщина, которая в постели вспоминает про «всех», хорошенькое производит впечатление.
Но, кажется, Петя этой глупости не заметил.
– Правда? – Он быстро повернулся к Соне и приподнял голову с подушки. – Ты правда думаешь, что дело не во мне?
– Правда, – улыбнулась Соня. – Мне, во всяком случае, понравилось. Вставай, будем чай пить. Ты, конечно, уже разогрелся, но горячее не помешает.
Петя с готовностью вскочил, натянул брюки; Соня и не заметила, когда он успел их снять.
– Ты на мою маму не обижайся, – сказал он, уже сидя за столом.
– Чего мне на нее обижаться? – пожала плечами Соня. – Она мне что, родственница?
– Я у нее единственный, воспитывала одна. С отцом они разошлись, еще когда мне два года было. Он художник. К себе в Калугу вернулся, я его, можно считать, и не видел. Женился, кажется.
– Он вам хотя бы помогал? – спросила Соня.
Вопрос об отце был для нее болезненным, и Петина простая история ее тронула.
– Нет. Они с мамой договорились: он на квартиру не претендует, она за это – на алименты. У меня и фамилия ее. Правда, класса до пятого его была – Федоров. Свою мама боялась давать. Это уж потом можно стало и даже модно.
– Чего боялась? – не поняла Соня. – Что стало можно?
– Дворянской фамилии боялась. То есть среди своих, конечно, не боялась, даже наоборот. Но гусей лучше было не дразнить. Никто ведь не думал, что советская власть когда-нибудь кончится. В общем, она надо мной до сих пор трясется. И чересчур ревностно относится… ко всему.
– Да ладно, – улыбнувшись, махнула рукой Соня. – Расслабься. Я на нее не в обиде.
«Мне-то до нее какое дело?» – подумала она при этом.
– Соня! – В голосе у Пети вдруг зазвучали какие-то странные интонации, одновременно торжественные и просительные. – Я хотел тебе сказать… То есть попросить… Вернее, предложить, чтобы ты… В общем, как ты смотришь на то, чтобы жить… у меня? То есть со мной.
Меньше всего Соня ожидала подобного заявления! После того, что она услышала в его квартире сегодня утром… После недвусмысленных намеков его мамаши на то, что ей следует знать свое место, да что там намеков – прямых указаний!
– Отрицательно я на это смотрю, – не раздумывая, отрезала она.
– Но почему, Соня? – горестно, даже со всхлипом выдохнул он.
– Потому, что кончается на «у». Ну не люблю я у кого-то жить, – чуть мягче объяснила Соня. – Да и не жила никогда. Я сама по себе привыкла.
– Если ты думаешь, что мама будет вмешиваться в наши отношения, то совершенно напрасно! – горячо проговорил Петя. – У меня отдельная комната, даже почти две комнаты, потому что альков и балкон. И к тому же мама все время или в универе, она там преподает, или у себя в кабинете. Она переводчица, дома работает, – зачем-то пояснил он, как будто Соня спрашивала, кем и где работает его мама.
– Не в этом дело. – Соня не сдержала улыбку, хотя вообще-то готова уже была рассердиться на Петю. Даже удивительно: как можно выучиться на адвоката, работать в серьезной фирме и быть таким наивным? Или на работе он совсем не такой? – Просто я не понимаю, зачем мне у тебя жить. Из общаги меня пока не гонят. От дома твоего недалеко, в случае чего доберешься.
Она ожидала, что Петя снова начнет бормотать какие-нибудь сбивчивые объяснения. Но, к ее удивлению, ничего подобного не произошло.
– Жить тебе у меня затем, что ты мне нужна, – сказал он. В его интонациях не было теперь ни тени сомнения, и слова звучали твердо. – И поэтому мне совершенно непонятно, для чего нам расставаться.
– Я тебе нужна?.. – медленно переспросила Соня. – А ты мне? Об этом ты не думал?
– Думал, – кивнул Петя. – И надеюсь, тоже стать тебе нужным.
Все-таки он не был тюфяком, как это казалось при первом, поверхностном общении. Было в нем что-то… Соня даже не знала, как это в точности назвать. Незыблемость, что ли?
– Нет, – сказала она. – Не хочу я у тебя жить, Петя. Ты уж не обижайся.
Часть II
Глава 1
Соня проснулась оттого, что солнце коснулось ее губ. Прикосновение было такое осязаемое, как будто у солнца были не лучи, а теплые пальцы.
Так ей казалось в детстве. То есть и не казалось даже – тогда Соня была уверена, что у солнца вот именно пальцы. А иначе как бы ей удавалось чувствовать их сквозь сон?
Может быть, сегодня она почувствовала это прикосновение точно так же, как в детстве, потому, что детство ей и снилось. Стена дома на Садовой сплошь в лиловом кружеве глицинии, устремленные вверх махровые грозди цветущих каштанов, темно-розовые от цветов ветки иудиного дерева… Весна, Крым.
Последние полгода Крым стал ей сниться каждую ночь, почему, она не понимала, но просыпаться после этих снов было всегда грустно, а иногда и горько.
Что-то словно не закончено там было, не завершено. Но что? Соня не знала.
Она открыла глаза и сразу остановилась взглядом на белом потолке, в центре которого висела синяя люстра. Люстра была очень необычная, похожая на уличный фонарь. Хотя и непонятно было, в чем тут сходство – разве Соня хоть раз видела на улице фонари из синего стекла и тусклой желтой латуни?
«Откуда она здесь? – глядя на люстру, недоуменно подумала Соня. – И где вообще – здесь? И я… Где я?»
Только в Москве ее стала преследовать такая странная утренняя забывчивость. А в последние полгода эта странность лишь усилилась.
– У тебя сегодня выходной? – услышала Соня.
И, повернув голову, увидела входящего в комнату Петю. Он был уже полностью одет: костюм безупречен, туфли сверкают, галстук завязан правильным кособоким узлом. Вместе с ним в комнату вплыл тонкий запах парфюма.
И сразу стало понятно, где она, что за люстра над нею висит и как пройдет сегодняшний день.
– Ну да, – ответила Соня. – Конечно, у меня выходной. А то почему же я сплю?
– Мало ли? – пожал плечами Петя. – Может, ты уволилась.
Чтобы Соня уволилась со студии, это была его розовая мечта. Но она была упрямая и увольняться не хотела. И вовсе не ему назло, а просто не хотела, но Петя в это не верил и полагал, что вот именно из духа противоречия, который, он считал, присущ Соне в высшей мере.
– Не уволилась.
Соня прислушалась. Ее сонное сознание пробуждалось медленно, и только теперь она вспомнила, что сегодня суббота, а значит, Алла Андреевна должна быть дома.
Но в квартире было тихо.
– Все, я пошел, – сказал Петя. – Сегодня за отгул работаю. Вечером в церкви увидимся.
Сонино сознание сделало следующий шаг и зацепилось за мысль о том, что завтра Пасха, потому Петя и говорит о вечерней встрече в церкви. И Аллы Андреевны поэтому не слышно: она, конечно, уже там.
Петя наклонился над лежащей Соней, чмокнул ее в щеку и, не удержавшись, поцеловал еще и в губы, уже не дежурно-прощальным, а долгим поцелуем.
«Пост постом, а мужчина есть мужчина», – усмехнулась про себя Соня.
По счастью, Петя соблюдал пост не настолько строго, чтобы на целые месяцы выпадать из нормальной жизни. Да и вообще, в семье Дурново пост выглядел как-то по-человечески: Алла Андреевна, правда, мяса не ела, однако для сына и сама готовила, и не вмешивалась в Сонины кухонные привычки.
Но в Страстную неделю в доме не было не только мяса – вообще никакой еды не было; Петя питался на работе, а Соня в кафе. Отсутствие еды она обнаружила и сейчас, придя в кухню и открыв поочередно дверцы холодильника и буфета. Холодильник вообще был разморожен и выключен.
В хлебнице нашлась четвертинка «Бородинского», и Соня с отвращением ее сжевала, пока варила кофе. Она любила, чтобы черный хлеб был пышный, с кислинкой, с хрустящей корочкой, и то, что все москвичи считали наилучшим хлебом какой-то плотный и клейкий кирпич, который даже в свежем виде был твердым и от которого появлялась не сытость, а лишь тяжесть в желудке, – казалось ей проявлением московского непонимания настоящей жизни. Еще одним проявлением.
«И как я здесь очутилась? – сердито подумала Соня, без всякого удовольствия прихлебывая горячий кофе. – Ведь уверена же была: нет, ни за какие коврижки!»
Это в самом деле было для нее загадкой. Она нисколько не кокетничала с Петей – еще не хватало бы с Петей кокетничать! – когда сказала, что не будет с ним жить. И как так вышло, что следующим утром она проснулась в его кровати и просыпается здесь уже полгода?
Одним можно было себя утешать: никаких особенных коврижек жизнь в квартире Дурново ей не принесла, так что ее тогдашний поступок можно было считать хотя и глупым, но честным.
Соня вспомнила, как той октябрьской ночью полгода назад почему-то пошла провожать так и не высохшего Петю на Сивцев Вражек, хотя на улице выл ветер и дождь лил как из ведра, и зашла с ним в подъезд, и они долго целовались, сами не замечая, что поднимаются вверх по ступенькам, или это Соня не замечала, а Петя очень даже замечал, хотя глаза у него были закрыты во время поцелуев?.. Как бы там ни было, а они вместе вошли в темную прихожую и, не включая свет, прошли по длинному коридору, а наутро Соня проснулась и впервые увидела над собой синюю люстру, непонятно чем похожую на уличный фонарь.
И вот пожалуйста – «вечером в церкви увидимся»! Как будто иначе и быть не может. А если у нее на вечер совсем другие планы?
Но, по правде говоря, никаких планов не было. И не пойти в церковь было как-то неловко.
В Сониной семье не то чтобы не верили в Бога – может, родители и верили, но с ней об этом не говорили и между собой, когда еще жили вместе, не говорили тоже. Во всяком случае, Соня таких разговоров не слышала. Наверное, поэтому она относилась ко всему, что связано с верой, с какой-то опасливой поспешностью. В церковь на Пасху? Да-да, конечно, приду…
Это ощущение себя не в своей тарелке было особенно отчетливым оттого, что в семье Дурново все относящееся к вере и церкви существовало ровно наоборот, как само собой разумеющееся.
Соня не понимала, как сочетается в Алле Андреевне эта ее королевская, не стесняющаяся себя бесцеремонность, почти цинизм, с соблюдением множества замысловатых церковных правил. Но Петина мать соблюдала все эти правила так естественно, что усомниться в ее искренности было невозможно.
В маленькую церковь близ Староконюшенного переулка Алла Андреевна ходила то к заутрене, то к вечерне, то еще к какой-то службе, которая называлась повечерием; Соня впервые услышала это название от нее. И, что производило на Соню особенно сильное впечатление, Петина мать часто бывала в церкви так, как бывают у близких друзей – без видимой надобности, не по важному поводу, а просто перекинуться парой слов. При этом в Алле Андреевне не было исступленной истовости – она могла забежать в церковь на пять минут после работы, чтобы поставить свечку или раздать милостыню старушкам на паперти.
Все это говорило о каком-то особенном ее отношении к той стороне жизни, которая была Соне недоступна, а потому и вызывала нечто вроде опаски.
Вздохнув, Соня допила кофе и вернулась в Петину комнату – читать роман, переведенный с английского Аллой Андреевной.
* * *
Она вышла из дому уже в сумерках – поздних, потому что и Пасха в этом году была поздняя, майская. Петя успел позвонить раза три, недовольный тем, что она опаздывает. А она так зачиталась, что не могла оторваться от книги, и опомнилась, только когда перевернула последнюю страницу. Даже то, что роман имел отношение к Алле Андреевне, не испортило впечатления.
Соня читала про сумрачный английский парк, и пруд, и маленькую девочку, которая что-то нафантазировала о чужой жизни и любви и сама не заметила, как эту взрослую, ей непонятную жизнь и любовь разрушила… Тревожные, прекрасные сумерки весенней Москвы сливались с английскими сумерками, оттеняли их каким-то особенным образом. И крымские весенние сумерки с их тонкими запахами всеобщего цветения жили при этом в тайном уголке сердца, и Соня ясно чувствовала связь между всеми этими сумерками. Эта связь и была – чувством.
Церковь была маленькая, очень старая, но красивая какой-то совсем молодой красотою. Ее маковки и луковки посверкивали под фонарями тускловато, но празднично.
У церкви толпились люди – входили, выходили ненадолго из душноватого полумрака, чтобы вдохнуть свежий весенний воздух, возвращались обратно. Соня набросила на голову шелковый шарф – вообще-то она даже зимой ничего на голове не носила, но сюда ведь положено, – поднялась по гладким ступенькам и оказалась в церковном приделе.
И сразу же увидела Аллу Андреевну. Прямо мистика какая-то – как будто та была здесь единственная или главная!
Петина мать стояла перед сидящей на скамеечке у стены женщиной, по виду ее ровесницей, но пышной и моложавой.
Женщина эта выглядела не только моложавой, но и нарядной. Она была одета в темно-голубое, очень шедшее к ее ярким глазам платье, из-под кружевной нежно-голубой шали выбивались на лоб светлые локоны, и понятно было, что выбиваются они не случайно, а подчиняясь тому причудливому замыслу, который называется продуманной небрежностью.
Сухая, костистая Алла Андреевна выглядела рядом с ней просто изможденной. Вообще-то Соне очень нравилось, как одевается Петина мать, но сейчас ее одежда, как всегда гармонично подобранная – золотисто-коричневая блузка, твидовый жакет пепельно-ржавого цвета, туфли каштановой кожи на широком низком каблуке, – казалась будничной, тусклой, так ярко и броско цвела ее ровесница.
Соня подошла поближе и хотела поздороваться. Но сначала замешкалась, а потом ей стало неловко вмешиваться в разговор. Она прислонилась к каменной полуколонне, ожидая, когда этот разговор окончится.
– Как, и ты явилась, Катя? Ты поправилась или просто тебя голубое так полнит?
В голосе Аллы Андреевны прозвучала насмешка, и Соня догадалась, почему. На Страстной неделе Петина мать ходила в церковь как на работу, а вчера, в пятницу, провела здесь, кажется, всю ночь. Поэтому сегодняшнее появление свежей и бодрой Кати – наверное, за всю неделю первое появление в церкви – выглядело в ее глазах неуместным.
– Конечно, явилась, Аллочка! – Катины глаза сияли насмешкой, так хорошо скрытой, что ее почти невозможно было разглядеть, но и ни с чем нельзя было перепутать; голос сочился медовым ядом. Вопрос о своей полноте она пропустила мимо ушей. – Нельзя же не прийти. Должна же я от врагов защищаться!
– Какие у тебя враги? – удивилась Алла Андреевна.
– Враги у всех одинаковые, – улыбнулась Катя. – Дьявол, бесы. Вот от них.
Теперь в ее улыбке мелькнуло торжество – оттого что удалось уесть собеседницу. Впрочем, и Алла Андреевна, кажется, испытывала по отношению к Кате точно такое же желание – уязвить ее поглубже.
«Она свое возьмет», – подумала Соня.
В этой ее мысли неприязнь соединилась с непонятной робостью перед женщиной, которая ни в чем своего не упустит и, главное, в точности знает, что именно ей принадлежит.
Алла Андреевна сердито повела плечом. Возразить Кате ей явно было нечего.
– Ладно, – поморщившись, сказала она. – Твои придут?
– Не знаю. – Катино лицо погрустнело и сразу постарело, голос зазвучал совершенно иначе, искренне и доверительно. – Я за них, Алла, так волнуюсь. Ведь все время они на виду. Я думала: ну, молодые, любопытные, ну, пусть натешатся этим своим гламуром, ведь не глупые же они у меня, надоест же им когда-нибудь.
– И что?
Голос и взгляд Аллы Андреевны переменились тоже – в них появилось не то цепкое внимание, которое обычно было ей присуще, а внимание другое, грустное какое-то, что ли. Как будто ни у нее, ни у этой Кати не было секунду назад взаимного желания сказать друг другу гадость.
Как могут происходить такие стремительные перемены, Соня не понимала. Да она никогда прежде, до Москвы, до семейства Дурново, таких мгновенных перемен в людях и не замечала.
– И ничего, – вздохнула Катя. – Бегают по своим тусовкам, как зомби какие-то. И на работе как устают – ведь каждое утро по два часа прямой эфир! – и все равно… Ладно Дима, он с детства такой, вечно бог знает чем увлечется. Но Наташа! Ведь и умница, и жена, и мать хорошая. Можешь себе представить, Аленку начала по модным показам таскать! Мол, девочке уже пять лет, ей интересно… Безумно за них боюсь.
Соня не поняла, что вызывает у Кати такой страх за своих, надо полагать, детей. И эту самую Аленку – съедят ее, что ли, на модном показе?
Но разобраться, в чем тут дело, она не успела. И не успела даже расслышать, что ответила Алла Андреевна.
– Наконец-то!
Соня вздрогнула от неожиданности. Хотя удивляться тому, что Петя ее заметил, конечно, не приходилось.
Голос у него был недовольный. И взгляд, которым он окинул Соню, выражал недовольство тоже.
– Сейчас крестный ход начнется, – сказал он. – Еще немного, и опоздала бы.
– Но не опоздала же, – пожала плечами Соня.
Непонятные они все-таки люди! Пасха, праздник – только и разговоров. А сами прямо в церкви над подругами насмешничают и с попреками лезут. Она уже открыла было рот, чтобы высказать Пете, что думает о его недовольстве, но тот, видимо, и сам сообразил, что оно сейчас неуместно. Или вовремя вспомнил, что Соня за словом в карман не лезет и вряд ли позволит ему себя воспитывать.
– Пойдем, – сказал он и, быстро обняв Соню, примирительно коснулся губами ее виска.






