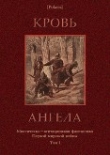Текст книги "Молёное дитятко (сборник)"
Автор книги: Анна Бердичевская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Но Вова не возвращался. Он не хотел.
Он просто и до конца выполнил условие игры – не дышать. Он хотел победить Валю Кашапова. На глазах Ани Барановой. И победил. Ему больше нечего было желать.
Знала ли об этом Аня Баранова? Валя-то уж точно не знал и даже думать не думал. Он играл легко, выигрывал легко, и никого не любил. А сейчас, как и все мы, просто увидел смерть, в том числе и свою смерть. И остолбенел от любопытства и ужаса. Как и все мы. И только Аня Баранова о смерти даже и не подумала.
Аня велела перенести Вову Балкова к костру, укрыть его всем, что нашлось теплого из наших одежек, и мы это немедленно и в точности исполнили. Тогда она снова встала перед Вовой на колени и потребовала нож. У Вальки нашлась финка. Аня решительно и даже грубо развела Вовины посиневшие губы и финкой осторожно разжала стиснутые зубы. После чего, глубоко вздохнув, она склонилась над Вовой и поцеловала его в полураскрытый рот долгим, долгим, бесконечным поцелуем. Мы содрогнулись. Мы даже в кино ничего подобного не видели.
Аня оторвалась от Вовы, несколько раз обеими руками резко надавила в область его сердца, и, набрав побольше воздуху, снова припала губами к его губам…
И мы увидели, как по мертвому Вовиному телу прошла как бы судорога.
Вот как, оказывается, на самом-то деле возвращались к жизни все эти спящие царевны из сказок народов мира… Они оживали от поцелуя любимого. Совершенно очевидно стало, как они оживали. Как Вова Балков.
В какой-то момент он весь напрягся и выгнулся мостом. Рот его широко открылся в смертельном желании дышать. Но у него не получалось. И тогда Аня Баранова, словно вспомнив что-то упущенное, схватила голубые Вовины руки и стала этими безвольными, как плети, руками делать как бы утреннюю зарядку: к груди – в стороны, к груди – вверх, и снова, и снова. Раздался свистящий звук. Это воздух, который загнала Аня Баранова в легкие утопленника, вырвался наружу, и когда Аня в очередной раз развела в стороны Вовины руки, воздух пошел обратно в легкие, это было почти дыхание. Аня продолжала делать с Вовой эту страстную лежачую зарядку, напоминавшую какой-то загадочный любовный акт. Тогда, впрочем, нам и в голову это не могло прийти. Аня вся раскраснелась, бисерный пот покрыл ее лицо и плечи, косы растрепались. Но мы смотрели только на Вову. Мы помогали ему, мы дышали до хрипоты, мы хотели, чтоб он пришел в себя. Чтобы мертвое стало живым. Это было бы чудом, это было невозможно… Но мы дождались этого чуда, и разглядели это чудо, и каждый запомнил его навсегда.
Бедная Белоснежка, бедный Лазарь из Писания, бедный Вова Балков… Возвращаться с того света – это такой немыслимый труд!.. Вот наш утопленник начал дышать, вот он открыл свои порозовевшие, помутившиеся, как майская Бабка, глаза, и, еще совершенно синий, захотел сесть, и даже вскочить, но тут же повалился снова… но это уже было не важно. Смерть, как будто ее и не было только что среди нас, куда-то проскользнула, растворилась, как бы спряталась, стала тенью. Буйная радость овладела нами. Мы даже про Вову забыли, а чего его было теперь помнить, чем он отличался от нас! Ну, чуть поголубее и совсем слабый, с кем не бывает! Мы были счастливы, потому что вместе с Вовой заглянули в смерть, но не умерли, мы прогнали ее из нашего тесного, горячего круга вокруг тлеющего костра, мы занялись делом, забросали в угли, подернутые пеплом, дряблые весенние картошки, и они рвались, как настоящие снаряды, поднимая стайки искр, и мы скакали в сумерках вокруг костра, согреваясь, забывая ледяной страх собственной смерти, ведь она, смерть, в общем-то, одна, одна на всех…
А что же Вова Балков? И Аня Баранова?
Я не помню. Смутно всплывает какая-то ерунда – вручение медали за спасение утопающих. Не помню даже, кому ее вручали. Не похоже, чтоб Ане Барановой. Может, это вообще была другая медаль за другие дела? Странно, не помню.
Однако через двадцать лет, хорошо разглядев в поезде спокойную и добродушную рожу моего уже взрослого приятеля, могу только догадываться: едва ли не в тот же самый далекий майский вечер на берегу речки Бабки он забыл Аню Баранову. Аня спасла его не только от смерти, но и от себя. От того непомерного для его души груза – немой, огромной, разрывающей грудь, первой и последней – любви.
Молёное дитятко
(1962)
Время от времени кто-нибудь да говорит: грущу, депрессия… Я слышу и не слышу. Потому что знаю, как далеко это «грущу» от пропасти по имени «депрессия». Когда депрессия, грущу не скажешь. Говорить неохота… Совсем.
Со мною один раз она случилась. Я осталась жива, но это стоило жизни другому человеку. Депрессия – смертельная болезнь. И, не исключено, заразная… Возможно, эти записки помогут выбраться из ее гигантской и сложной паутины какой-нибудь живой душе.
А история такова.
Мне было четырнадцать лет, стоял март, самое простудное время, когда я подхватила этот вирус. Ничто не предвещало болезни. Мы с мамой жили в те времена вполне, как все, и, как никто, счастливо.
Счастливо… Попробую объяснить, что это значило в нашем случае. Начать придется издалека, с маминого ареста, но это не займет много времени.
Когда маму арестовали, она только что забеременела мною.
К маме везде и все хорошо относились, она нравилась людям и плохим, и хорошим, и очень плохим. Доктор в тюрьме был неплохой человек. И он сказал: мы поможем вам избавиться от ребенка. (В те годы аборты были запрещены, но в тюрьме по этой части могла, оказывается, выйти поблажка.) Мама, услышав предложение этого неплохого, доброжелательного человека, рассмеялась. Что вы, говорит, доктор. Я очень хочу этого ребенка. И ни за что не буду от него избавляться. Доктор попытался моей маме объяснить, как обстоят дела. Вы же политическая, сказал он, вам дадут не меньше восьми лет, а скорее – гораздо больше… Когда вашему ребенку исполнится два года, его отнимут у вас. Каково ему будет в детских домах?..
Но и это маму не убедило. На что она надеялась?
С детства она была верующей девочкой, хотя с годами разуверилась. И все же во время разговора с доктором вспомнила она, как Мария рожала в хлеву, и не от «законного мужа», и в царство Ирода… Рожать почти всем и почти всегда не с руки… Мама меня хотела, вот и все. Вспомнила Богородицу и на всякий случай ей в тюрьме молилась. Так что я была «молёное дитятко».
Когда мне исполнилось два с половиной года, меня действительно у мамы забрали. Я не помню не только о лагере, но и о детских домах просто ничего, совсем ничего. Странно, но так.
Но мама годы разлуки помнила. Тюрьма, как и смерть, – это прежде всего разлука.
Теперь вы можете представить, как мы стали жить с мамой на воле. Сначала счастье наше было неспокойным, мы ему не верили и не могли друг без друга ни минуты совсем. Совсем не расставаться было как раз очень возможно, потому что мы и жили обычно там же, где мама работала: в сельских клубах, провинциальных театрах, комнатке при интернате детей-инвалидов (мама учила их рисовать)… Потом все выровнялось, мама повеселела, я успокоилась, как-то все наладилось. Действительно, мы совершенно счастливо жили. Росла я девочкой здоровой, румяной, училась в школе «на четыре и пять» с вечной тройкой по химии, которая маму не расстраивала. Бог с ней, с химией. И детская моя компания маме нравилась.
Однако годам к четырнадцати мне досталось почувствовать беспокойство и одиночество.
Это естественное состояние в преддверии юности. Оно, возможно, даже жизненно необходимо. Душа осматривается. Бабочка или стрекоза – испытывают они тоску, прежде чем выбраться из куколки?.. Думаю, да. А как выберутся, принимаются разворачивать крылья. И человеческая душа, без отроческой тоски ей не удастся это сделать – расправить крылья. Если все хорошо – зачем совершать это странное, вовсе не очевидно необходимое усилие? Чего вдруг?.. И тогда, по аналогии с насекомыми, вместо синей стрекозы из души получается бодрый рыжий таракан, у которого ведь тоже есть крылья, только не развернувшиеся. Нет, без тревоги и тоски в юности нельзя…
У меня этот период проходил скрытно. Это было мое первое самостоятельное, без мамы, переживание. Как-то совсем не хотелось мне ее тревожить, я должна была справиться сама.
И вот на таком фоне произошла роковая встреча. В нашем пригороде было две школы. Как водится, ребята из «другой школы» были куда интересней, чем свои. Я училась в классе седьмом-восьмом, а мой нечаянно возникший предмет – в девятом-десятом. Он был неправильный. Он был с длинным лошадиным лицом, и сам очень и непропорционально длинный. Одевался в черное и облегающее, в маловатое по росту, и практически не снимал небольшую вязаную черную шапочку, которую натягивал по самые брови. Именно так все сейчас и носят. А в те далекие годы – никто. Вот никто!.. Это очень правильное здесь слово. Всего и был заметен крупный нос на узком лице да глубоко запавшие глаза. А звали его Толя Кузнецов, Кузнечик.
Несмотря на легкомысленное прозвище, он был заметной и даже зловещей фигурой в «другой школе». Он неплохо учился, вернее, хорошо соображал и мог учиться лучше. Если бы хотел. Он был дерзок с учителями, высокомерен с одноклассниками, груб с девочками. Полный букет. И вместе с тем было в нем что-то беззащитное. Он всегда или почти всегда ходил в сопровождении двух-трех мальчишек с невыразительной внешностью, помыкал ими и раздражался. Но и зависел от них. Нуждался в подкреплении такого рода.
Познакомились мы на открытой танцевальной площадке, на которой я и моя ближайшая подруга Люся среди подтаявших потемневших сугробов самозабвенно играли в игру, никому еще не известную, – в бадминтон. Да-да. Мама подарила мне ракетки и волан зимой, и мы не могли дождаться лета.
Как-то мама умела разглядеть за год, за два до всеобщей моды разные любопытные штучки, всякие хула-хупы, транзисторные приемники на узких длинных ремешках, темные очки, фетровые береты, шариковые ручки, джинсы… Когда до нашей глуши дошло слово стиляга, я сразу поняла, что мама стиляга. И всегда была. Я ее дразнила, а мама смеялась и говорила, что стилягам за ней не угнаться…
Мы играли в бадминтон каждый день после школы. Кузнечик, не знаю как, нас заприметил, и однажды, проходя мимо, – мимо не прошел. Он вспрыгнул на заснеженную танцплощадку, где в глубине оркестровой раковины мы с Люсей гоняли волан. Игра для нас была не в том, чтоб подать неудобно партнеру и уронить волан на территории соперника, а, напротив, в том, чтобы волан не падал как можно дольше. Мы играли «свечками», от души наслаждаясь полетом легкого оперенного снаряда, сочувствуя ему, летая с ним вместе… В общем – девчачьи нежности. Это, видимо, и почувствовал Кузнечик.
– Кто ж так играет! – фыркнул он, отпихнул Люсю и поймал посланный мной волан. Его «шестерки» равнодушно и бессмысленно пялились на нас.
– Может, ты знаешь, как надо? – спросила отважная Люся.
– Может, и знаю, – ответил Кузнечик, забрал у нее ракетку и со всей силы саданул легкой ракеткой по легкому волану. Шарах!
И никакого результата, волан исчез.
Мы все оглянулись по сторонам. Нигде не видать… Оказалось, воланчик просто порвал струны ракетки и застрял в них.
Я промолчала. Зато Люся накинулась на Кузнечика с насмешками, обвинениями, заодно и угрозами, что вот мы скажем моей маме. А что моя мама?..
Кузнечик не стал ничего отвечать Люсе, он сунул ракетку с воланом в глубину своей черной куртки, за пазуху, и удалился со своими спутниками. Странные такие были ребятишки…
Мне происшествие не понравилось, однако я почувствовала, что это не конец истории. Только начало.
И действительно, через пару дней после шестого урока возле школьной раздевалки мы с подругой Люсей увидели Кузнечика в неизменной шапочке до бровей и черной куртке, застегнутой до горла. Заметив нас, он куртку расстегнул и вытащил из-за пазухи ракетку, абсолютно исправную. Теплая волна поднялась к моим щекам, а сердце раскрылось. Сетка была восстановлена с помощью обычной рыболовной лески. Я надеялась на нечто подобное. Но Люсе этого показалось мало. Она сказала Кузнечику: «Ты должен еще воланчик! И ты должен извиниться!»
Вот тогда и случилось.
Он достал из кармана помятый волан, странно так улыбнулся, вернее – оскалился, и негромко сказал:
– Никто. Никому. Ничего. Не должен.
Почему эти слова так меня поразили?.. Потому, что сердце было раскрыто?.. Но они поразили, навылет.
Кузнечик разжал руку, волан упал на пол, и вот я уже вижу черную удаляющуюся спину, и понимаю, что мир распался и время остановилось.
Так неожиданно началась моя болезнь.
Пожалуй, не столько слова ранили меня, сколько странный оскал Кузнечика и его стеклянный, мертвый взгляд. Таким я его вдруг увидела.
А ведь до того он мне приглянулся. Как Татьяне Онегин. Могла случиться первая, конечно несчастная, любовь… Но в Кузнечике обнаружилось нечто, к чему никакая литература, никакой мой детский опыт меня не подготовили. Безнадежный, окончательный, все разрушающий холод.
Онегину с его аристократической холодностью далеко было до Кузнечика. Молодой повеса Онегин был все же повесой, мало того, Татьяна разглядела в нем (далеко упрятанную в будущее) возможность отчаянной любви. Любви именно этого молодого красавца именно к ней. Как всякая настоящая женщина, Татьяна знала будущее. Содержала его в себе…
Так я думаю сейчас. А тогда я была недовольной собой девочкой-подростком. Этот нелепый Кузнечик, этот Никто, беззащитный злодей – застал меня врасплох. Своими словами, своим голосом, оскалом, мертвым глазом, черной длинной спиной и походкой – попал, проник в меня, как осколок льда в сердце маленькому Каю… К несчастью, в тот момент я эту, когда-то свою любимую «Снежную королеву», не вспомнила. Четырнадцать лет – как раз возраст забвения сказок, отказа от детства. Они возвращаются, но много, много позже. Если возвращаются.
То, что со мной начало твориться, как я теперь понимаю, было даже похоже на любовь. Похоже в том смысле, что поглощало меня всю, и расширялось, и подчиняло, оккупировало весь мир. Да, это напоминало любовь… Вот только в моем случае знак перепутали. И свет на тьму. С совершенной очевидностью не любовь, а смерть предстала содержанием жизни, то есть единственным содержанием всего вокруг.
Вообще-то это был ад.
Так заболел когда-то Гамлет, когда «распалась связь времен». Но что мне был его опыт! Вот я сейчас зову на помощь себе, тогдашней – Шекспира с Гамлетом, Андерсена с Гердой и Пушкина с его Татьяной… Куда там! Все, что было построено во мне за огромное счастливое детство с мамой, друзьями, книгами, все связи – рассыпались прахом. Никто. Никому. Ничего. Не должен. Я поверила этому. Хуже, я не просто взяла на веру, я догадалась, а потом и убедилась, что это – правда. Почему я так всерьез догадалась?.. Потому, возможно, что и я, как Татьяна, содержала будущее. Я что-то там увидела ужасное… Но до будущего надо еще было дожить.
А мир распадался, разлетался на отдельные и все мельче дробящиеся атомы и элементарнейшие из частиц. С выделением огромной энергии тоски. Как у Демона в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова. Только не так красиво, как у Лермонтова, бедному Врубелю не на чем было бы и глаз остановить. Не на Кузнечике же. И уж, конечно, не на мне, в тот момент самой серьезной и несчастной из самых румяных девочек в мире…
Несмотря на все свое бросающееся в глаза злодейство, Кузнечик не был виноват. Как не был виноват Онегин в том, что его полюбила Татьяна. Кузнечик был вдвойне не виноват, потому что я ведь его не полюбила.
Кстати, почему? Хотя бы тогда, на танцплощадке, когда он впрыгнул в нашу игру, и посмотрел мне прямо в глаза, внимательно, с угрюмым, хищным и холодным интересом. Не из-за лошадиной же морды я ему тогда не ответила взглядом на взгляд. В сущности, интересная была морда, ни на кого в округе не похожая. Часто как раз этого-то и бывает достаточно юной особе для первой любви.
Думаю, я не могла полюбить Кузнечика из-за его безымянных спутников. Он должен был быть одинок. У него должно было хватить духу на одиночество… Евгений Онегин в этом отношении Кузнечика «сделал». Но Кузнечику наверняка на это было бы наплевать, как на весь школьный курс литературы.
Кузнечик, я думаю, депрессией не болел. Он был просто вот такой тип, достаточно живучий. Но бациллоноситель… Он отдал ракетку, уронил воланчик, бросил небрежно свои ужасные слова… И ушел. И жил себе… А я потихонечку погибала, все глубже увязая в этом зыбком, распадающемся, иллюзорном мире, все подробности которого одна за другой выцветали и осыпались, становились серой пылью. Я и сама выцветала и исчезала, как одна из миллионов ненужных подробностей. Никому не нужных. И никогда. Да, конечно, маме… Но и мама, возможно, была лишь иллюзией.
Мое существование стало необязательным, скучным, тягостным делом. Каждое утро, когда я просыпалась, мне хотелось просто лежать, лежать физиономией к стенке, в надежде как-нибудь исчезнуть. Без объяснений.
Только одно обстоятельство, одна светящаяся, доставляющая боль, то есть все-таки горячая и не выцветающая, точка в моем сознании заставляла меня вставать и делать все как всегда. Почти как всегда. Стараться. Точкой этой была жгучая жалость. Моя любовь к маме в эти черные времена стала всего лишь жалостью, но и этого пока хватало, чтобы как-то сопротивляться.
До сих пор мама все про меня понимала. А тут на нее нашла благодатная слепота. Жизнь ей досталась страшная, но у нее было одно прекрасное свойство, она никогда не могла поверить в самое страшное. В то, например, что я могу умереть. И уж тем более она никак не могла бы представить, что я могу умереть от тоски. Что за чушь! Это даже не страшно, этого просто не может быть! Она иной раз вглядывалась в мою спокойную физиономию, я стойко выдерживала ее взгляд. И ходила в школу. И получала тройки уже не только по химии. Но все же не двойки. Вот только в бадминтон я не играла вовсе.
Кончился учебный год, началось лето, короткое в наших краях и оттого обычно такое радостное. Но оно летело мимо меня, как ветер пустыни, только ледяной ветер сменился знойным.
Тем временем я, несмотря ни на что, быстро росла и вообще менялась. У меня, например, в то лето появилась девичья грудь. Вот тебе на. Я как-то не замечала, а когда заметила, то так удивилась, что, несмотря на депрессию, тайно провела утро у зеркала. Эти новости были мне совсем ни к чему, я смотрела на себя в зеркало как на женщину пожившую и совсем незнакомую, чужую. Это была не я.
К концу лета мне стало совсем невмоготу. Даже представить себе, что я, которая уже даже не я, должна буду ходить в школу, изображать усердие, вообще какую-то деятельность, было тошно… Однако уже назревала развязка этой мучительной и, казалось, безвыходной истории. Время – благословенная вещь, всему приходит конец. И если на том свете времени нет, то можно вообразить, что настоящий ад – это застрять, «влипнуть» в безвременье в неподходящий миг… Например, когда депрессия.
В последних числах августа, совершенно совпадая с моим внутренним состоянием, природа творила странное. Несколько дней подряд стояла удушливая духота, а в небе сгущались сухие и многослойные, с разной скоростью летящие тучи. Назревала и назревала гроза, и никак не могла наконец-то назреть, грохнуть, разрядиться. Все это чувствовали. Но я точно знала, что это не тучи летят, а летят мои последние дни и часы. И природа это знает. Все, я кончилась. Я была как сухая туча в этом августовском небе, и меня быстро несло во тьму, из которой нет возврата.
Но в то же самое время я покорно слушалась маму. А она начинала тревожиться. Может, из-за погоды. Она то укладывала меня спать ни свет ни заря, то мерила температуру, то поила липовым чаем. А субботним вечером позвала в кино. Видимо, решив, что мне надо развеяться. И вот я потащилась с мамой в кинотеатр, где шла какая-то трескучая, мучительная для меня комедия. В конце концов и она кончилась, и мы вышли из зала вместе с другими зрителями, почти все знакомыми. Была там и Люся. Был и Кузнечик со своей унылой свитой. Меня это не взволновало, хотя какой-то знак в этом был. Мир как бы сходился в одну, финальную, точку.
Пока шел фильм, опустились сумерки, и на улице зажглись фонари. Мы шли с мамой под руку, она что-то оживленно мне говорила. Я не слышала. Мне вдруг стало все видно как бы со стороны, откуда-то сверху и сбоку. По улочкам поселка из пункта по имени кинотеатр расходились люди, самой оживленной дорожкой была та, что вела к станции. По ней мы и шли. Я отчетливо видела себя с мамой, а несколько сзади, шагах в двадцати пылил башмаками Кузнечик с «шестерками», а еще позади Люся шла с несколькими одноклассниками. Было почти многолюдно – пришло время вечерней электрички, с нее и валил народ. Во встречном потоке людей – из кинотеатра и со станции – не было ничего необычного. Только слышно стало, как пьяные, молодые, по-петушиному срывающиеся голоса грязно бранятся… Это ведь был обыкновенный уральский поселок, в грязной брани недостатка здесь не было никогда. Но я все так же словно сверху увидела этих подростков, и мне ясно стало – вот оно, это они!
Они рвались, не разбирая дороги, сквозь пыльные кусты акации, сквозь газон с лопухами, крапивой и золотыми шарами, и я знала, они говорили о смерти, что сейчас кто-то уж точно умрет, и они говорили правду, а грязная брань была просто привычкой. Они были маленькие и жилистые, с безумными глазами, они ни черта не соображали. Они были готовы убить. Мне было совершенно ясно кого. Я остро почувствовала ту самую, едва ощутимую, но совершенно реальную связь жертвы с убийцей, связь, о которой каждый что-то да знает, даже если не был ни жертвой, ни убийцей.
Мне не было страшно. Меня просто уже не было.
Но мама – была. И она была абсолютно собой, живой, настоящей. Она даже и не заметила того простого и очевидного факта, что нам навстречу идут убийцы, а уж о том, что убить должны меня, мама не могла и в самом страшном сне увидеть. Это было исключено из ее сознания. Она двигалась навстречу к этим четырем, как к несчастным, изуродованным и брошенным детям. Они быстро и неровно шли, поддерживая друг друга, один из них был в окровавленной голубой майке, с разбитым лицом, а крайний с другой стороны этой шеренги размахивал здоровой финкой. Финок моя мама насмотрелась в лагере, этот предмет хорошо ей был знаком и паники не вызвал. И вот, мама неожиданно опередила меня, подошла к ним, вернее, к тому, с разбитой рожей, и подстроилась под его неровный шаг, и стала что-то негромко и буднично ему втолковывать, что, парень, тебе надо промыть рану, что, кажется, глаз всерьез пострадал, что тут неподалеку живет фельдшерица Зина, что надо бы поскорее к ней… И странное дело, этот окровавленный как-то обвис и начал уже приотставать от своих, отлепляться. А остальные трое по инерции, по набранному ходу уже миновали меня, но оглянулись на приятеля, которого мама уже как-то сама и поддерживала. Они мою маму просто не видели. Она была прозрачна для них. Она не была для них жертвой. Она почему-то не годилась вовсе. А я бы им очень даже годилась, но они меня проглядели, отвлеклись. И как морковку из грядки, они выдернули своего приятеля от мамы и рванули дальше, вперед, к кинотеатру. Их окровавленный был для них знаменем полка, его раны – поводом к убийству, любому убийству, кого угодно, кто готов умереть. Я была готова. Но они меня проглядели, моя мама и потеря знамени их отвлекли.
Как ни в чем не бывало мама снова взяла меня под руку, что-то такое сокрушенно говоря об одичании народа и что глаз-то парень действительно может потерять.
А я шла, не чуя ног, но уже спустившись с той черной тучи, одной из многих, зависших над поселком.
И тут мы услышали Люсин отчаянный визг, и кто-то закричал: «Зарезали-и!» И снова я услышала Люсин вопль: «Кузнечик! Кузнечик!..» И много, много людей побежали отовсюду, улица переполнилась народом, а мама, сразу все поняв, обняла меня за плечи и почти побежала, и потащила меня к дому, повторяя: туда нельзя, не надо этого видеть, тебе нельзя туда…
У дома меня вырвало, вывернуло наизнанку, а дома я потеряла сознание. Я болела три дня, температура была под сорок, и мама от меня не отходила, не впуская в дом никого, кроме фельдшерицы Зины, с которой дружила. Сквозь жар и дикую головную боль я слышала, о чем они шептались. Зина рассказывала, как умер Толя Кузнецов. На глазах у Люси и у моих одноклассников эти приезжие парни окружили его, и тот, что с финкой, без лишних слов сунул ножик Толе в печень. А Толя и не сопротивлялся, только улыбался как-то странно. (Я знала – как.) Парни своего раненого бросили – и врассыпную. Но их поймали, всех. Наутро они протрезвели в милиции и говорили, что ничего не помнят. Они даже и не знали, кто из них убийца.
А Кузнечик умер не сразу. Его отнесли на станцию, Зина его там перевязала, но, конечно, нужна была срочная операция. Ждали электричку, чтоб отвезти в город, но не дождались. Толя был почти до конца в сознании и очень, очень не хотел умирать. И все говорил фельдшерице Зине, схватив ее за руку: «Не отпускайте меня, тетя Зина, не отпускайте! Я еще молодой».
Толю хоронил весь поселок, обе школы. И я на похороны пошла, смотрела на то, как совершенно белый Кузнечик лежит, приоткрыв рот, в отвратительном плоском ящике, который я ненавидела. Моя депрессия прошла, как не было. И страшно – до темноты в глазах – я жалела Кузнечика, который так хотел жить, только до самой смерти не знал об этом.
Слова Кузнечика про то, что никто никому ничего не должен, я, конечно, помню, и они не кажутся мне страшными, ничуть. Более того, я с ними вполне согласна. Действительно, никто никому… Только не я. Я должна. Потому что я молёное дитятко. И за меня умер Кузнечик.
Прощай, оружие!
(1956,1966)
В юности я дружила с людьми, старше меня лет на десять-пятнадцать. Приезжала из деревни на электричке в город и приходила в их городские жилища с английскими замками в дверях. Я была юной начитанной деревенщиной, в городских жилищах мне много всякого недеревенского, помимо английских замков, открывалось. Жилища были иногда комнатами в коммуналках, иногда захламленными книгами и газетами полногабаритными квартирами с географическими картами в прихожих, иногда – общежитиями, со стенами, до половины окрашенными мутно-зеленой масляной краской, иногда подвалами и сараями… И всюду, кроме милых мне бесшабашных, безденежных и образованных людей, которых в конце века начнут называть шестидесятниками, меня встречал взгляд в упор Эрнеста Хемингуэя. Я его еще не читала. Его книги невозможно было достать. А портрет глядел отовсюду.
Наконец, ночуя однажды на полу у книжной полки, вдыхая городские противноватые, но и симпатичные запахи, я получила черный, толстый, рассыпающийся том Хемингуэя – почитать на ночь. Открыв его наугад на романе «Прощай, оружие!», я над ним и заснула. Потому что в своих странствиях из сельской местности в городскую и обратно смертельно не высыпалась… Странное дело, перечитав с тех пор – и не раз – всего Хемингуэя, я так до недавнего времени и не заглядывала в «Прощай, оружие!». А когда прочла, вспомнила один случай.
Мне было лет девять, то есть это были времена, когда Великая Отечественная война ушла в прошлое, но мы, дети, родившиеся после войны, еще долго чувствовали ее жар, видели ее отсвет. В беднейшем, просто ветхом деревенском быту, среди просторного и пустынного уральского ландшафта, под низким северным небом мы бредили войной, мы были в нее влюблены, мы играли в нее, погибая и совершая подвиги. Помню, как поздними, но еще светлыми, потому что весенними и северными, сумерками я сижу на развилке ствола огромной старой березы, что стоит на окраине села, и смотрю на запад, на полосу медленного заката, в полной уверенности, что оттуда надвигается враг. И я, ценою жизни, не дам его полчищам войти в мой поселок, на родную станцию Буртым. На плече моем туго натянутый вересковый лук… В этом воспоминании нет для меня ничего смешного. Во мне и сейчас жив тот угрюмый восторг, близость битвы, одиночество, красная полоска заката под свинцовыми облаками…
Помню, кое-где еще лежит снег, а израненная за зиму снежным настом кора березы – там, внизу, у комля – сочится холодным соком. И вдруг я слышу, как над поселком раздается отчаянный голос моей мамы, это она зовет меня по имени, словно чувствуя, что мне грозит гибель в неведомом ей сражении. Я, очнувшись, обнимаю шершавый ствол, сползаю по нему на землю, прижимаюсь губами к порезу на березе, пью сок, и быстро-быстро бегу к поселку, и уже кричу: «Мама, мама, я здесь!..»
Той весной к нам приехала из города моя двоюродная сестра Алька. Мы жили на станции, на самой границе Европы и Азии, в двухэтажном бараке, сложенном из железнодорожных шпал. Алька же обитала в городе, в двухкомнатной квартире, да еще и с ванной. Она была хорошенькая, беленькая и чистенькая, с лукавыми глазами. Она была «городская». Что не мешало мне ее очень любить. Она была младше меня, училась во втором классе, и я с гордостью отвела ее в нашу школу. Ее родители, преподаватели пединститута, вместе уехали на стажировку в Москву, и Альке предстояло заканчивать учебный год в нашей маленькой и скрипучей, потому что деревянная, школе. Это было счастье. Мы и так с мамой жили душа в душу, если не считать моих одиноких вылазок на тропу войны. А тут еще Алька, смешливая, нежная…
Да, тогда мы еще с мамой вовсе не ссорились, даже из-за моих суровых военных походов. Возвращаться из них домой было так приятно, так славно гудел чайник на горячей плите, в которой полыхали дровишки, наколотые мелко, так сладко гремел рафинадный сахар в консервной банке из-под китайского абрикосового компота… Так громко и страстно мурлыкал полосатый кот, так тепло в свете затененной шелковым абажуром лампы мерцали корешки книг… читаных и нечитаных… А уж когда приехала Алька, мы каждый вечер хохотали до упаду, рассказывая всякие небылицы и сказки, играя в «балду», придумывая и вырезая наряды картонным куклам, дамам и господам, женя их друг на друге и разыгрывая презабавные семейные сцены в этих бумажных благородных семействах. Еще мы устраивали театр на мамином диване, и мама была зрителем, очень доверчивым и восторженным… Мы засыпали поздно, бывало, не слышали по холодным туманным утрам будильника, так что опаздывали в школу, а бывало, с маминого благословения прогуливали уроки… Мы были счастливы. В те времена мой вересковый лук прозябал на гвозде, вбитом в дощатую дверь.
Но однажды наступило долгожданное тепло, холм над болотом, на котором стоял барак, просох и зазеленел, а болото под холмом покрылось свежими стручками травы-недотроги. Красноватая, жидкая, эта травка обладала одной волшебной особенностью: когда она созревала, ее стручки не терпели самого легкого прикосновения, они с легким треском взрывались, выбрасывая почти прозрачные крохотные семена… Но это начиналось позднее, в июне, а стоял какой-то неожиданно теплый апрель…