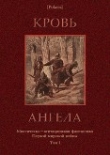Текст книги "Молёное дитятко (сборник)"
Автор книги: Анна Бердичевская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Он был красив. Крепкий, высокий юноша, в белой рубашке, с легко возникающей улыбкой на задумчивом лице…
Все это происходило на железнодорожной станции на Западном Урале, мы с мамой жили там в деревянном клубе, где каждый вечер собиралось практически все население станции и окрестных деревень. Так что я и до первого сентября того далекого года знала Яшу. Просто мне, шестилетней, и ему, шестнадцатилетнему, общаться не приходилось. Да и после нашего совместного школьного звонка мы ни разу с ним не разговаривали. Но я потихоньку, незаметно, как это очень хорошо умеют делать все маленькие девочки, наблюдала за ним.
Он познакомился с Розой при мне, это было в клубной библиотеке.
Розу я тоже знала, она участвовала в самодеятельности, пела, и особенно часто «Над полями да над чистыми». Голос у Розы был грудной, такой живой, такой переливчатый… Она еще в припеве как-то так делала глазами… «Ну, дружней, звончей, бубенчики, заливные голоса! Эх ты, удаль молодецкая, эх ты… (вот тут Роза делала паузу, подпирала щеку пальцем и стреляла глазками туда-сюда) девичья краса!»
Она тогда еще не была красавицей, были на нашей станции молодые женщины куда виднее. Роза была просто веселой, с яркими, почти рыжими волосами, которые она обычно небрежно закалывала узлом на затылке. А иногда не закалывала, волосы падали на плечи и слегка вились.
Много лет множество людей, вспоминая эту историю, говорили: «Она была старше его на десять лет». Я в те годы мало что понимала в возрасте, для меня они оба были большие, а я была маленькая. Однако мы, маленькие, понимали в любви. Я – как локатор, как бинокль ночного видения – просто сразу же улавливала это, уж не знаю какое, излучение. А у Яши, за которым я ходила как тень, любовь вспыхнула внезапно, и я это видела. Он вдруг Розу, которую, конечно, уже встречал в клубе, в одно мгновение увидел всю, разглядел и вздрогнул, и открылся, и то, что он увидел, вошло в него, как солнечный свет.
Роза это почувствовала сразу, в ту же минуту, и была смущена. Но попыталась не придавать значения – ну, переглянулись с парнишкой, чего не бывает. Ну, будем дружить… Если получится…
Парнишка был не прост. Принц какой-то. Роза в свои полные двадцать семь Золушкой не была. Она была телятницей на совхозной ферме и очень свою работу любила, не работу, а своих маленьких – так она называла телят. Ну, пусть еще один будет маленький, Яша. А принцы – это не про нас…
Когда-то Роза была влюблена – в парня из параллельного класса. И он ее вроде любил, и однажды, в белую ночь, в июне, они согрешили на сеновале фермы. Роза созналась своей матери, за что получила по физиономии, но не обиделась, понимала, что дура и виновата. Они с тем парнем собирались пожениться, но в августе пришла повестка, в сентябре он ушел в армию и вот уже сколько лет не появлялся. Остался где-то работать и жить, и, скорее всего, женился.
У Розы были еще мужчины, поговаривали даже о ее романе с нашим клубным баянистом, недаром она эту песню про бубенчики все пела… Не знаю. Историю о Яше и Розе вспоминали и обсуждали на все лады впоследствии много лет, и верить всему нельзя, скорее всего, много болтали лишнего.
Яшу сплетни не трогали, то есть буквально он их не замечал. Его тогда и пушкой было не пробить. Он был само счастье, сам солнечный свет. Ранить его могла только Роза, и то он бы ей все простил. Даже нелюбовь. Но в том-то и беда, что и Роза заполыхала тем ослепительным счастьем, первую вспышку которого я увидела в клубной библиотеке среди скучного осеннего дня.
А потом их можно было встретить где угодно, идущими за руки, и Яше ничего не стоило вдруг, по сердечному порыву, взять нежно Розино лицо в ладони и поцеловать в самые губы, а потом и в глаза. И Роза, как завороженная, позволяла это проделывать на виду у всего поселка. И за это ее осуждали: ладно, Яша, но Роза-то женщина была взрослая.
Где они встречались и встречались ли наедине? Думаю, да, и, наверное, все на той же ферме…
Яшина мама была учительницей истории и обществоведения в старших классах. Она была строгая и красивая, и похожая на женщину с плаката времен войны «Родина-мать зовет», отец Яши погиб на той войне. Яша был ее единственный сын, мальчик очень способный, прекрасно знал историю и литературу. Конечно, он должен был стать историком, литератором, юристом или военным. Он и сам так когда-то думал. А теперь он не думал ни о чем, кроме Розы. И о строгой своей прекрасной маме – не думал. Только о Розе.
А Роза вообще ни о чем думать не могла. Она даже в самодеятельности петь перестала. Она только сияла в лучах любви и стала ослепительно красивой женщиной. Все это видели.
У Розы тоже была мама, и отца Розы тоже убило на войне. Мама, как и Роза, когда-то работала на ферме, а после войны пошла по профсоюзной линии и стала ходить в пиджаке и платке, как та женщина на плакате про Родину-мать. Хотя была она и не такая крупная и красивая, как мама Яши. Но лицо у нее было твердое, умное и нос с горбинкой.
И вот эти две матери встретились. И поговорили.
Каждой из женщин было о чем волноваться. Яшина мама боялась, что сын женится на необразованной Розе, которая старше его на десять лет, сам не получит образования и загубит свою жизнь. Мама Розы думала, что ее шалава-дочь родит безотцовщину и будет всю жизнь маяться одна с ребенком, спать с веселыми пьяными и женатыми мужиками на ферме и, забыв про совесть, губить свою бесшабашную жизнь.
Обе матери любили кино и книжки, конечно, знали историю про Ромео и Джульетту, помнили про вражду их родителей, приведшую к беде, и поэтому, не испытывая друг к другу никакой симпатии, решили поговорить.
Они договорились о том, что Яша должен продолжить образование, а Роза не рожать ребенка. И поскольку Яша совсем еще мальчик, то Роза должна, наконец, понять, что отвечает не только за себя, но и за него. Она должна его пожалеть. Но не как шалава и сучка (так сказала Розина мать, а не Яшина), а как взрослая женщина и будущая мать сыновей и дочерей.
Вот с этого разумного разговора и началась беда.
Роза, получив в очередной раз от матери по физиономии, выпив с баянистом бутылку водки, опухнув от слез и чувства вины, сказала своему Яше, что все, хорошенького помаленьку, что он ей надоел, сосунок, и пора ему подумать об учебе. Яша не поверил. Он стал Розу смешить, дал ей выплакаться на своем мальчиковом, но крепком плече, вытащил из нее весь разговор с ее матерью и пошел объясняться к своей. Его мама была женщиной умней умного и куда начитанней Розиной мамы. Она рассказала Яше о его долге перед памятью отца и перед Родиной, наконец, перед любимой женщиной и будущей семьей. Яша погрустнел и задумался. Но солнечный свет, которым была для него Роза и которым он был переполнен, еще сиял в нем. Он пообещал матери учиться дальше, действительно перестал пропускать уроки, а с Розой стал ходить только в кино. И вот тут мы снова с ним совпали, потому что я в кино ходила все время, каждый день, на все сеансы. Сеансов было то два, то три в день. Утром на поезде привозили несколько грубо грохочущих помятых металлических коробок с кинопленкой, иногда мне позволяли перематывать «части» на специальной «перемотке» – делалось это, чтоб проверить, не драные ли части привезли. Конечно, они были с разрывами, и тогда мне еще приходилось склеивать кинопленку ацетоном – это было прекрасное занятие… Фильмы были часто трофейные или отечественные, но те, что запускались «вторым экраном» – в сельских клубах, как наш. И вот я смотрела кино по три раза за вечер, а некоторые фильмы еще и не по одному разу в неделю, если их почему-либо не увозили. В таких случаях зал пустел, но кино не отменяли никогда. Тогда в зале оставались только Роза с Яшей и я. И мне было слышно, о чем они говорят. Но я, конечно, этого не помню.
Помню только, что мы вместе и с огромным вниманием множество раз посмотрели фильм «Белая Грива». Не знаю, чей это был фильм и когда снят, но драным он был необыкновенно. Я собственноручно клеила его раз за разом, и на каждом сеансе он снова рвался и становился все короче. Это был фильм о мальчике и лошади. Мальчик жил среди жестоких мужчин в деревне у океана. И вот мужчинам досталось укрощать дивной красоты белую лошадь, которая не хотела им покоряться. В конце концов, она убежала и стала жить в камышах, в непроходимой топи. И однажды ее нашел мальчик. Лошадь – мальчик назвал ее Белая Грива – была ранена в ногу. Она никогда не подпускала к себе отвратительно пахнущих, шумных, наглых и грязных мужчин, но вот доверилась мальчику и дала ему перевязать ногу. А потом позволила мальчику сесть на нее верхом, и они все время проводили вместе. Тем временем мужчины, искавшие лошадь, выследили мальчика и Белую Гриву.
Этого следовало ожидать, и это было ужасно.
Кончался фильм тем, что лошадь унесла мальчика на своей голой белой спине к берегу океана, и они поплыли в ослепительно сияющий и бескрайний открытый простор. И осталось тайной – утонут они или спасутся.
Вот об этой тайне и говорили, наверное, Яша и Роза. И, наверное, Яша говорил Розе, что они выплывут. А Роза сомневалась и плакала.
А может, и наоборот.
Только Яша точно не плакал. Он был очень мужественный.
Настала весна, время экзаменов в школе. Яша засел, похоже, за учебники всерьез, я его не видела ни в кино, ни на танцах.
Роза же, напротив, похудевшая и неестественно веселая, в ярких штапельных платьях, на каждой неделе в новом, появлялась на всех танцах, ходила в кино и все время была в окружении местной и приезжей шантрапы. Наш клуб был знаменит по всей железнодорожной ветке, до самого Кунгура. Особенно славились танцы в парке: лучшая музыка – живой оркестрик с аккордеоном, гавайской гитарой и трубой, огромные березы, пахнущий свежей доской настил танцплощадки, гирлянды из окрашенных разноцветным лаком лампочек… Народу в пятницу, субботу, воскресенье съезжалось немало. Роза, окутанная ореолом порока и страсти, пользовалась успехом. Что-то отчаянное, что сияло в ее потемневших, обведенных черной тушью глазах, притягивало взгляды, волновало приезжих.
В июне начались экзамены в школе и грозы над парком с танцплощадкой. Танцы перекочевали в тесное фойе клуба. И от этого они стали еще более страстными, напряженными, жаркими. В тесноте полутемного фойе ныла гавайская гитара и рулады аккордеона уносили в пучину немыслимых и сладких страданий. В фойе царили медленные фокстроты.
Я скучала возле входа в клуб, под деревянными колоннами, подпиравшими фронтон, когда увидела Яшу, в его неизменной белой рубашке с распахнутым воротом. Он меня не заметил, он сейчас никого бы не заметил и не узнал бы, кроме, конечно, Розы. Он шел к ней с чем-то окончательно важным, глаза его были невыносимы, я бы не решилась встретиться с ним взглядом. Но пошла за ним. И вот он стал раздвигать толпу, как корабль, а я, быстро перебирая ногами, почти бежала в его фарватере, не видя ничего, кроме ног, карманов пиджаков, подолов платьев, мусора на полу. И вдруг потеряла Яшу.
Больше я его никогда не видела.
Потом рассказывали: Яша нашел Розу и что-то ей сказал, а она засмеялась, не переставая танцевать со своим ничего не значащим кавалером. Никто не запомнил, что они сказали друг другу, да это, наверное, было и не важно. Бывают минуты, когда важны не слова, поэтому их никто не в силах припомнить или все вспоминают по-разному. Яша позвал, а Роза не пошла, еще плотнее прижавшись к разомлевшему идиоту, приехавшему из-под Кунгура. Вот и все.
И Яша вышел. Кто-то видел, что он пошел на станцию, но и кассирша, и дежурный, и стрелочник божились, что не видели Яшу, что ни билетов он не покупал, ни на перроне не появлялся, ни в товарняки, притормаживающие на стрелках, не прыгал.
Была гроза, дождь лил не сильный, редкими порывами, в небе разливалось почти постоянное электрическое сияние, да и ночь-то была белая, июньская. Нет, никто не видел Яшу после того, как он вышел из клуба. Уже под утро Яшина мать заявила об исчезновении сына, его искали на сеновале телятника, в домах у друзей, позвонили в районный центр. Его искали год, и два, и три, и много позже, далеко от нашей станции на стене какого-то казенного дома я увидела маленький выцветший плакатик с розовой, некогда красной, надписью: «Ушел и не вернулся». На плакате была фотография Яши, на которой он выглядел совсем мальчиком. У него там было скучное лицо отличника, будущего юриста, литератора, учителя истории.
Нет, конечно, по такой фотографии найти его было нельзя.
Я тоже многие годы искала Яшу. Просто всматривалась в мужчин. И однажды в героическом кино я увидела подходящего. Фамилия актера была Урбанский. Я училась в пятом классе и написала на студию Мосфильм письмо актеру Урбанскому. Я написала, что знаю, кто он на самом деле, что настоящее его имя начинается на букву «Я». И что никогда не забуду, как он подавал со мною свой последний школьный звонок, как нес меня на руках и помогал держать колокольчик. Ответа не было. Вскоре на киносъемках в пустыне Урбанский погиб.
Мать Яши к тому времени давно уехала с нашей станции. А Роза вышла замуж за приезжего. На свадьбе она плакала и громко говорила всем, что, если родит сына, то назовет Яшей. Она родила девочку, а через год и сына. И, говорят, посмотрев на своего маленького в роддоме, сказала: «Нет, не похож». И назвала Толей.
И вот я думаю, вся эта история не случилась бы или случилась как-то иначе, если бы… Если бы не драный трофейный фильм, который Яша и Роза, и я посмотрели множество раз. Если б не эта странная лошадь, Белая Грива, которой доверился мальчик. А Белая Грива доверилась мальчику. И они уплыли в сияющий океан и больше не вернулись.
Утопленник
(1957)
– Я тебя откуда-то знаю, – сказал он. – Ты кто?
– А ты кто?
– Утопленник, – ответил он и рассмеялся.
Медленно-медленно всплывает воспоминание с берега речки Бабки.
День солнечный, насквозь пронизанный студеным ветром. Еще цветет черемуха, и, стало быть, стоят черемуховые холода. Но солнце в наших краях (открытые Арктике холмистые пространства с лесами, полями, оврагами, заросшими той самой черемухой) – явление само по себе долгожданное и неустойчивое, может завтра снег пойдет. Стало быть, нет повода не искупаться. Сколько нас? Больше десяти. Больше десятка ребят. Самый заметный – Валя Кашапов, он черен, броваст, у него родинка над верхней губой. За это, а также за великолепное сочетание благородства и наглости моя мама назвала его как-то «Маркиз». Прозвищем не стало, но мне запомнилось. В нашей компании на речке Бабке есть девочки, хотя их немного. Нина Быстрых и Нина Парашютинских. И Аня Баранова. И я. Но я не в счет, я младше всех – на второй год не оставалась, в школу пошла в шесть лет… Я даже еще и не думаю, девочка я или кто.
А как же звали утопленника?
Вова. Вова Балков. Он постарше меня. Он в том возрасте, в том коротком промежутке, когда мальчик-ангел вот-вот превратится в гаденыша-подростка. Отчасти уже… У Вовы ясные, широко поставленные глаза, бледное лицо с бледными же веснушками, а губы красные и мокрые. Тем не менее можно сказать, что у него «надменный рот». Робкий взгляд и надменный рот…
Мужчина, который сидит прямо передо мной в вагоне поезда, дороден, слегка пьян и добродушен. Но я узнаю его, это действительно он, утопленник, Вова Балков. Губы красные и мокрые. Но уже не скажешь, что у него надменный рот.
– А ты Анка-Баранка! – И я с изумлением понимаю, что он путает меня с Аней Барановой. И внезапно вся история об утопленнике выливается на меня, как ушат воды из той самой речки Бабки…
«Утопленник» – так называлась игра. Игра была абсолютно проста и держалась на одномединственном запрете. Практически все настоящие игры так и устроены, они запрещают что-нибудь простое, естественное. Футбол запрещает прикасаться к мячу руками. А ведь что может быть естественней – схватить мяч руками. При чем здесь ноги, почему – только ноги?
Потому. Что игра. Нет запрета – нет игры. Настоящей игры.
В «утопленника» – игра идеальная. Единственное правило в единственном запрете: запрещается дышать. Все остальное более или менее можно. Можно выпихивать соперника из воды. Но на это редко кто решается, силы надо беречь. Можно пытаться обманывать. Например, вынырнешь, когда никого над водой, схватишь воздуха, и – ныряй снова. Выигрывает тот, кто выныривает последним, он-то и становится «утопленником». И тогда он загадывает желание, и каждый участник игры обязан его желанию подчиниться.
Валя Кашапов был чемпионом всех игр в нашем классе. И, конечно, утопленником тоже всегда становился он. И загадывал ужасные, невыполнимые желания, например – съесть муху, а если не хочешь, то должен стать «рабом». Вова Балков был одним из рабов Вали Кашапова. И я как-то раз стала его рабыней, потому что отказалась украсть у мамы пачку «Беломора». Отказалась вообще-то потому, что мама курила «Север». Валя и не знал об этом. А я не сочла нужным объяснять. Отказалась – и все. Рабство, честно говоря, было номинальным, потому что Валька был человеком рассеянным и занятым. Рабы же, как известно, чтобы жизнь им медом не казалась, должны быть мучимы, а это требует от рабовладельца столько времени и внимания… Валька отвлекался, и наше рабство, словно в песок, уходило.
Теперь об Ане Барановой. У нее были русые косы и задумчивый взгляд. Это важно, потому что в те времена на танцах чаще других крутили пластинку, с которой сладкий и вкрадчивый баритон пел: «Я трогаю русые косы, ловлю твой задумчивый взгляд… Над нами весь вечер бере-о-зы, березы чуть слышно шумят… Бере-о-зы… Бере-о-зы… Родные березы не спят…» Летние танцы в Буртыме устраивали на танцплощадке в березовой рощице, вечера были долгие-долгие, светлое небо не желало становиться ночным, у нас уже глаза слипались, а родные березы все не спали и не спали… Вся наша компания полагала, что баритон поет про кукушкину рощу и про Аню Баранову.
Аня того стоила. В этой девочке, как в тихом омуте, было что-то роковое.
Что не мешало нам при необходимости звать ее Анкой-Баранкой.
До Ани Барановой Вова Балков любил только одного человека – Валю Кашапова. Он был влюбленным рабом. В этом не было ничего порочного, в те времена никому и на ум не могло прийти, что пацан может как-нибудь порочно любить другого пацана, пусть даже с родинкой над верхней губой. Про «голубых» в Кукуштане не слыхали, а слово «педераст» хоть и произносилось пацанами довольно часто (оно звучало взрывчато и со свистом, как «п-пидарасс»), но не значило практически ничего, как и любые другие ругательства, без которых не обходился ни один нормальный, и даже доброжелательный разговор. Почему-то им, пацанам всех возрастов, обитавшим в диковатой нашей местности, необходимы были именно грязные, смердящие, практически (в конкретном разговоре) бессмысленные слова-вонючки, все про одно и то же, про то, чему не было названия в приличном толковом словаре. Про секс. И прежде всего, патологический секс. То есть какого в обычной жизни не бывает, очевидные примеры неизвестны, мерцают только смутные и чудовищные догадки…
Это был специальный язык не уверенных в себе, растревоженных, малолетних и взрослых самцов, какой-то свой код. Он помогал им освоиться среди себе подобных и выжить. Пацаны ругались, как волки, лисы, хорьки метят территорию. Что называется – ничего личного.
К любви и ненависти этот их язык не имел отношения, по прямому назначению – с прямым смыслом всех слов – он использовался редко, и больше не пацанами и не мужиками, а отчаявшимися бабами преклонных лет…
Когда же при ссорах дело доходило до крайнего края – до смертоубийства, до смерти одной из враждующих сторон, – наступала пора языка немногословного, сдержанного и даже чеканного.
Несчастная любовь (когда же любовь бывает счастливой, никогда) была явлением не редким в нашей среде, но всегда тайным. Вообще никаких слов. О любви Вовы Балкова сначала к Вале Кашапову, а потом или почти параллельно к Ане Барановой, сам Вова не то что им ничего сказать не мог, а вообще никому и никогда. Возможно, даже себе. Он жил как все, цыкая слюной сквозь редкие зубы и не слишком изобретательно матерясь. Но в то же время абсолютно тайно продолжалась его напряженная, мучительная, бессловесная и безвыходная жизнь. Это было почище, чем игра в «утопленника». В игре если уж не выиграть, то можно было хотя бы все-таки вынырнуть и вздохнуть полной грудью. Вова в своей любви и проиграть не мог. Не мог вынырнуть…
Знала ли я все это в те далекие времена? Или только сейчас, когда встретилась в поезде с взрослым Вовой Балковым, меня вдруг осенило? Знала. Но и осенило тоже.
Каким образом я догадалась о Вовиной тайне, не помню. Но помню же я его лицо, тревожное, тонкое, умученное. Значит, знала что-то о нем, иначе не увидела бы и не запомнила.
Был еще один случай. Мы играли в городки той же примерно компанией, и Аня была с нами. Так вот, Вова что-то такое обидное сказал в мой адрес. Скорее всего, какую-то ерунду. Я не была скандалисткой. Но и подарков всяким обормотам не делала, так что когда он целился в любимую всеми нами городошную фигуру «ворота», я подошла к квадрату, качнула ногой городок, и «ворота» развалились. Конечно, Вова стал материться, брызгая слюной и бегая за мной по площадке. А я, спрятавшись за большой Аней Барановой, пропела известную дразнилку: «Вовка-морковка, спереди винтовка, сзади барабан, на пузе таракан…» Он и правда был похож на бледную северную морковку…
И Аня Баранова засмеялась.
А смеялась она редко.
И тут с Вовой произошло что-то чудовищное. Такое я видела много позже в фильме об оборотне, в котором играл Джек Николсон. Вова Балков в точности так же превратился в зверя, и я, действительно испугавшись, бросилась бежать. И сейчас помню всеми поджилками, как уже далеко-далеко от городошной площадки несусь по деревянным мосткам через болотце к дому Нины Парашютинских, а за мной с битой в руках несется Вова Балков, чтобы убить. И доски под ногами подскакивают в такт его прыжков. А я не чую ног (это очень точное выражение). Вот калитка уже прямо передо мной. Заперта или нет? Открыта! И я захлопываю ее за собой, а свистящая, со свинцовой блямбой на конце городошная бита, с треском ломая штакетник, брякается в закрытую калитку… Как же я могла не догадаться о Вовиной тайне!
История с битой случилась, скорее всего, в сентябре – трава на болотце была, помню, желтой… А к маю мы с Вовой Балковым и не думали о ссоре. Пронесло. Мы очень даже неплохо относились друг к другу. И ходили вместе в кино, и играли в «казаков-разбойников» в одной команде, и вот пришли на Бабку.
Я хорошо помню ритуал наших купаний. Вначале все раздевались по разные стороны куста, повисшего над водой, пацаны до трусов, девочки до трусов и маек. В самом процессе раздевания было что-то крайне волнующее и интимное, раздавался смех, с одной стороны куста хихиканье и шепот, с другой – гогот и непристойности. Но мы как бы не слышали друг друга. Потом мальчишки с воплями и уханьем прыгали с невысокого глинистого обрыва в омуток, в летние месяцы едва скрывавший макушки, а мы, девочки, аккуратно входили в воду чуть выше по течению, на отмели. Вода в Бабке всегда была ледяной, в жаркие дни июля она казалась еще холодней. Но у нас не принято было сокрушаться по этому поводу и даже обращать внимание.
В мае вода неглубокой речки поднималась после таяния снега, и поднималась много выше уровня своего песчаного ложа, достигала красной глины обрывистого берега, подмывала, растворяла эту глину, берег обрушивался, вода бурлила и закручивалась в воронки. Вода становилась «большой» и «красной», так мы это называли… Но все-таки даже в ветреные майские дни большая, красная и страшноватая вода притягивала нас к себе.
В тот день я не купалась. Болела? Болеть настолько, чтоб не купаться?.. Представляется мне, что на губах у меня выскочила простуда в виде розовых корост, и, наверное, меня знобило не только из-за холодного ветра, и, очевидно, к речке я потащилась, предварительно дав клятву маме – не купаться. Не сама болезнь, но клятва могла быть причиной моего некупанья. Я пошла как раз, чтоб убежать от болезни подальше, и потому еще, что у речки мы всегда непременно жгли костер и пекли картошку.
Печеная картошка весной, первая после зимнего перерыва… Я уже с трудом вспоминаю себя, свои поступки и их причины. Но какие-то картины и ощущения отчетливо встают иногда перед моим, как говорится, внутренним взором. И кажется мне, что в них скрывается вся правда моей, и не только моей, жизни…
Я не раздевалась в тот майский день вместе со всеми у едва подернутой зеленью ракиты, а сидела на кромке обрыва в стеганой куртке, перешитой из маминого американского жакета, у костерка, почти не заметного на весеннем солнце, но весело трещавшего на ветру, грела свою простуду и предвкушала вкус печеной картошки. И наблюдала сверху, как под майским небом, в студеной воде плещется моя компания.
Брызги долетали до меня, мальчишки плавали наперегонки, два пацана, как всегда, подныривали под Нину Быстрых и Нину Парашютинских, те визжали…
Только Аня Баранова плавала в сторонке, кружа вокруг омута под самым обрывом, на котором потрескивал костер и сидела я. Аня Баранова плавала ровными саженками, высоко над водой держа свою задумчивую голову с намокшими тяжелыми косами, распустившимися на концах.
– В «утопленника»! – закричал кто-то. – Айда в «утопленника»! – подхватили все и поплыли к Ане Барановой, к омуту под обрывом.
– Эй, на вышке! – крикнул мне Валя Кашапов. – Гляди, чтоб не жулили. И команду дай.
Я встала, подняла руку, и выкрикнула заклинание:
– Три-четыре!
Все мои друзья-приятели скрылись под водой. Только Аня чуть замешкалась, потому что отжимала зачем-то свои мокрые косы. И потому, что вообще отличалась неторопливостью.
Торопливостью отличился Вова Балков. Я еще только руку подняла, а он уже выпрыгнул своим тощим телом до пупа из воды и нырнул, мелькнув пузырящимися сатиновыми трусами, в самый омут. Считалось, что чем глубже нырнешь, тем дольше не вынырнешь. Не знаю. Вообще-то, у каждого была своя манера игры в «утопленника» и свои хитрости. Бывали умельцы, которые приспосабливали для дыхания соломинки, бывали и такие, что уверяли, будто умеют дышать ушами, для чего не ныряли вовсе, а только опускали лицо в воду. Когда в «утопленника» играл Валя Кашапов, все эти хитрости были напрасны. Он нырял глубоко, настолько, чтоб под водой сделать круг и собственноручно дернуть вниз двух-трех подозрительных ему хитрецов. И на этот раз он поступил так с одним из не пожелавших всерьез нырнуть пацанов. Сверху это выглядело восхитительно: как будто подкравшаяся щука утянула на дно утенка. Будь вода попрозрачней, то можно было бы увидеть, как длинное Валино тело мощно и быстро скользит под водой. Но я ничего не видела, сколько ни всматривалась. Вся компания исчезла бесследно.
Мне стало не по себе. Одно дело – играть в «утопленника» вместе со всеми, и совсем другое – вдруг оказаться в полном одиночестве и ждать. Когда вынырнут. Когда наконец вынырнут. Первой, и довольно быстро, над водой показалась голова Ани Барановой. Она спокойно пошла к берегу, снова отжимая свои распустившиеся волосы, заплетая их в косы. Она не стала одеваться и поднялась ко мне на обрыв в мокрой голубой майке, заправленной в синие «пыжики» – девичьи спортивные трусики с резинками внизу.
Мы не были с ней дружны, это было невозможно. Она была из другого, взрослого мира. Она была ровесницей Вали Кашапова и в компании нашей очутилась из-за него, они водились (так говорили у нас в Буртыме) много лет, пересеклись когда-то давно, то ли в первом, то ли во втором классе. Валька продолжал оставаться в каждом классе на два года и в конце концов очутился в нашем. Он был компанейский парень и нас, малышню, не презирал. Во всяком случае, презирал не больше, чем весь остальной род человеческий. А с Аней Барановой они были ровня. Оба рослые, заметные. Одного калибра. Но Валька был огонь, порох, весь на виду, а старшеклассница Аня – сама себе загадка. И вот эта загадка села на корточки поближе к костру напротив меня. Я хорошо помню ее лицо, неправильное, слишком бледное и слишком широкое, со слишком маленьким вздернутым носом и большими карими глазами под высокими бровями. Она немного косила, это совсем ее не портило, просто трудно было поймать ее взгляд, казалось, она на тебя и не смотрит, а куда-то далеко, выше и дальше неинтересной твоей физиономии…
Тем временем над водой одна за другой стали появляться головы с выпученными глазами. Ребята выныривали, как пробки, шумно втягивали воздух и скорее-скорее спешили на берег, к ракитовому кусту, к разбросанной по молодой травке сухой одежде. А я все смотрела на воду и, наконец, увидела, как из центра омута вынырнул, просто вылетел, как торпеда, Валя Кашапов. Все – показалось мне, да и всем остальным, включая Валю Кашапова. Сейчас забросим картошку в уголья потухающего костра, и, пока она будет печься, а день становиться вечером, определим судьбу проигравших. Валька был классным утопленником, умел придумывать смешные и страшные наказания, не все из них были противными.
Но тут Аня, обведя нас странным своим, как бы невнимательным, взором, вдруг спросила:
– А Вова Балков?.. Он ведь еще не вынырнул.
Мы все уставились на речку. Стало слышно, как она течет, бурля и журча, торопясь куда-то и не замечая нас. Неужели где-то там, в этой равнодушной, большой и красной воде все еще прячется новый чемпион?
Мы вскочили и стали кричать: «Вовка! Вова-а-а!» Как будто он мог под водою слышать.
Тем временем Аня Баранова пошла по кромке обрыва вниз по течению реки, она шла все быстрее, потом побежала. Все потянулись за ней, и я тоже. И вот мы видим, как она уже у переката бросается в воду, и ее догоняет Валька. Они вместе тащат по мелководью что-то тяжелое, вяло обвисающее, неживое. Что-то отвратительно, навсегда холодное. Это не Вова Балков. Это не мог быть Вова.
И все-таки это был он. Утопленник.
Я на всю жизнь запомнила тихое явление смерти среди обыкновенного дня, среди мокрых и бледных, замерзших моих приятелей. Боже мой, какие они были живые по сравнению с Вовой Балковым! Его желтые веснушки стали серыми, кожа голубой, надменный рот почти черным. Ужасом от него несло на нас, живых. Однако Аня Баранова встала перед ним на колени, повернула Вову на живот и сложив ладони одну на другую несколько раз резко надавила между Вовиными лопатками. Чтобы вылить из легких воду – догадались мы. Вода не полилась. Аня Баранова снова повернула Вовино тело, и делала она это так ловко, так уверенно, что все мы ни на секунду не усомнились – все правильно. Так и надо обходиться с утопшими. Чтобы вернуть их к жизни.