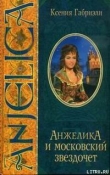Текст книги "Анжелика и ее любовь"
Автор книги: Анн Голон
Соавторы: Серж Голон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 9
Ответить было для нее крестной мукой – ведь она должна подтвердить, что ее двух веселых мальчиков с ней больше нет, что они навсегда сгинули. Это ради них она трудилась, ради них страдала. Она хотела избавить их от нужды, восстановить во всех правах. Она мечтала увидеть их высокими, красивыми, уверенными в себе, блестящими молодыми людьми… Но она никогда не увидит их взрослыми. Они тоже покинули ее.
Она с трудом проговорила:
– Флоримон.., уехал.., давно… Ему тогда было тринадцать. Я не знаю, что с ним сталось. Кантор.., умер, когда ему было девять лет.
Это было сказано таким ровным, бесстрастным тоном, что можно было подумать, будто то, о чем она говорит, ей безразлично.
– Я ждал такого ответа. Он подтверждает мои догадки. Вот чего я никогда вам не прощу, – сказал Рескатор, гневно стиснув зубы, – равнодушия к судьбе моих сыновей! Они напоминали вам о том периоде вашей жизни, который вы желали забыть. И вы отдалили их от себя, чтобы они вам не мешали. Вы стремились к наслаждениям, искали любовных утех. И теперь без всякого волнения признаетесь, что о том из них, который, возможно, еще жив, вы ничего не знаете! Я многое мог бы вам простить, но это – нет, никогда!
Сначала Анжелика стояла, словно оглушенная, потом шагнула к нему, прямая, бледная как смерть.
Из всех обвинений, которые он ей бросил, это было самое страшное, самое несправедливое. Он упрекал ее в том, что она его забыла, и это была не правда. В том, что она его предала, и это – увы! – отчасти было правдой. В том, что она никогда его не любила, – это было чудовищно.
Но она не потерпит, чтобы ее называли плохой матерью, ее, которая ради сыновей подвергала себя таким опасностям, мукам и унижениям, что порой у нее возникало чувство, будто она отдает за них самую кровь из своих жил. Наверное, она не была очень нежной матерью, все свое время проводящей с детьми, но Флоримону и Кантору принадлежало самое заветное место в ее сердце. Рядом с ним… И он еще смеет ее упрекать! Столько лет проплавал по морям, не заботясь ни о ней, ни о детях, и только теперь – откуда что взялось – вдруг вздумал о них беспокоиться! Разве он вырвал их из нищеты, в которую ввергла невинных малюток его опала? Сейчас она его спросит, по чьей вине гордый малыш Флоримон всегда был ребенком без имени, без титула, бесправнее любого незаконнорожденного? Она расскажет, при каких обстоятельствах погиб Кантор. Это случилось по его вине! Да, по его вине. Потому что это его пиратский корабль потопил французскую галеру, на которой находился юный пах герцога де Вивонна.
Анжелика задыхалась от возмущения и боли. Она уже открыла рот, собираясь высказать ему все, – но тут судно резко накренилось, подхваченное особенно высокой волной, и ей пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Она держалась на ногах не так твердо, как Рескатор, который, казалось, был припаян к палубе.
И этой короткой паузы ей хватило, чтобы удержать готовые сорваться с губ непоправимые слова. Может ли она открыть отцу, что он виноват в смерти сына?
Разве мало несчастий судьба уже обрушила на Жоффрея де Пейрака? Его приговорили к смерти, лишили состояния, вынудили покинуть родину, превратили в скитальца, не имеющего иных прав, кроме тех, которые он смог завоевать свой шпагой.
И в конце концов, живя по беспощадным законам тех, кто должен убивать, чтобы не быть убитым, он стал совершенно другим человеком. Она не вправе его за это винить. С ее стороны было младенческой наивностью думать, что он остался прежним – жестокая жизнь требовала от него иного… Судьба и так его обездолила – зачем же наносить ему еще один удар: говорить, что он погубил их ребенка?
Нет, она не скажет ему этого. Никогда! Но она сейчас же – пусть путанно, бессвязно – расскажет ему то, чего он, похоже, не желает знать. О своих горьких слезах, об ужасе, который пережила она, юная, неопытная женщина, вдруг оказавшаяся в пучине нищеты, всеми покинутая. Она не расскажет ему, как погиб Кантор, но расскажет, как он родился, – вечером того самого дня, когда вспыхнул костер на Гревской площади, и как она, бездомная, отверженная горемыка, шла по заснеженным улицам Парижа, толкая впереди себя тачку, из которой выглядывали посиневшие от холода круглые маленькие личики ее сыновей.
Возможно, тогда он поймет. Он судит ее так сурово только потому, что ничего не знает о ее жизни.
Но когда он все узнает – неужели останется таким же бесчувственным? Смогут ли ее слова разжечь искру, которая, возможно, еще тлеет под пеплом в сердце, сокрушенном бременем стольких утрат? Сердце таком же израненном, как и ее собственное…
Но она хотя бы сохранила в себе способность любить. Сейчас она упадет перед ним на колени, будет умолять его. Она скажет ему все-все! Как она всегда любила его… Как пусто было ей без него, как все эти годы она продолжала смутно надеяться и мечтать, что когда-нибудь встретит его вновь. Разве, узнав, что он жив, не бросилась она безрассудно на его поиски, нарушив приказ короля и подвергнув себя бесчисленным опасностям?
Но тут она увидела, что внимание Рескатора обращено не к ней. Он с любопытством наблюдал за дверью салона, которая тихонько-тихонько приоткрывалась… Это было необычно – ведь ее бдительно охранял слуга-мавр. Кто же мог позволить себе войти к грозному хозяину без доклада? Ветер? Туман?
Снаружи дохнуло ледяным холодом, и в дверной проем клубами вплыл туман, тут же рассеявшийся от соприкосновения с теплым воздухом салона. Из-за этой неосязаемой завесы выступило крошечное существо: светло-зеленый атласный чепчик, огненно-рыжие волосы. Эти два ярких пятна с необыкновенной отчетливостью выделялись на фоне начинающейся за дверью серой мглы. За девочкой в зеленом чепчике стоял закутанный в бурнус сторож-мавр. Его черное лицо пожелтело от холода.
– Почему ты, позволил ей войти? – спросил Рескатор по-арабски.
– Ребенок искал мать. Онорина подбежала к Анжелике.
– Мама, где ты была? Мама, пойдем!
Анжелика плохо видела ее. Она оторопело глядела на обращенное к ней круглое личико, на умные раскосые, черные глазки. И облик дочери вдруг показался ей таким чужим, несходство с нею самой столь разительным, что на какое-то мгновение в ней ожили давным-давно забытые чувства: отвращение к ребенку, которого она родила против воли, нежелание признать его, неприятие своей собственной крови, смешанной в этой девочке с грязной кровью насильника, яростное и бессильное возмущение против того, что с ней, Анжеликой, сделали, жгучий стыд.
– Мама, мама, всю ночь тебя не было! Мама!
Онорина настойчиво повторяла это слово – а ведь прежде она пользовалась им редко. Защитный инстинкт, безотчетная боязнь потерять то, что всегда безраздельно принадлежало ей одной, подсказали ей это необыкновенное слово, единственное слово, способное вернуть ей мать, вырвать ее из-под власти этого Черного человека, который позвал ее и запер в своем замке, полном сокровищ.
– Мама, мама!
Онорина была здесь. Онорина – олицетворение всех тех измен, которые Жоффрей никогда ей не простит, печать, опечатавшая закрытые врата навек потерянного рая, – так некогда королевские печати на воротах Отеля Веселой Науки ознаменовали конец всего, чем она дотоле жила, всего, что составляло ее мир, ее счастье.
Картины минувшего и мучительные мысли о настоящем сливались в мозгу Анжелики воедино. Она взяла Онорину за руку.
Жоффрей де Пейрак смотрел на девочку. Мысленно он прикидывал ее возраст: три года? четыре?.. Стало быть, она не дочь маршала дю Плесси. Тогда чья? По его иронической, презрительной полуулыбке Анжелика догадалась, о чем он думает. Случайный любовник… «Красивый рыжий любовник!» Молва столько их приписывала ей, прекрасной маркизе дю Плесси, фаворитке короля… О рождении Онорины, как и о смерти Кантора, она тоже никогда не сможет сказать ему правду. Ее стыдливость восставала при одной мысли об этом. Сознаться в таком позоре – все равно что показать ему омерзительную язву, признак постыдной дурной болезни. Нет, она будет нести это в себе, навсегда скрыв, как скрывает глубокие шрамы, оставшиеся на ее теле и сердце.., след от ожога, вылеченного Коленом Патюрелем и смерть маленького Шарля-Анри…
Онорина, рожденная от безымянного насильника, – это расплата за все мужские объятия, которым она, Анжелика, не противилась и которых искала сама.
Филипп, поцелуи короля, безыскусная и возвышенная страсть бедного нормандца Колена Патюреля, короля рабов, грубые, но веселые утехи с Дегре, утонченные ласки герцога де Вивонна. Ах да, она совсем забыла Ракоци.., а в придачу к нему, наверное, и других…
Сколько лет прошло, сколько лет они оба прожили – вдали друг от друга, каждый по-своему… И того, что было, уже не забыть, не стереть.
Он непроизвольно поглаживал подбородок. Ему явно недоставало недавно сбритой бороды.
– Согласитесь, моя дорогая, – положение создалось весьма затруднительное.
Как может он сохранять этот иронический тон, когда она едва держится на ногах, так щемит у нее сердце…
– Мне хотелось прояснить его, но должен признать, что от моих попыток оно только еще больше запуталось.., нас с вами все разделяет.
– Идем, мама! Ну идем же, мама, идем, – повторяла Онорина, дергая мать за юбку.
– Вы, конечно же, вовсе не стремитесь к воссоединению, о котором несколько часов назад и не помышляли – ведь ваши мысли были целиком заняты другим…
– Мама, идем!
– Да замолчи ты! – крикнула ей Анжелика, чувствуя, что от всего этого кошмара у нее вот-вот расколется голова.
– Что касается меня…
Как бы взвешивая все «за» и «против», он обвел взглядом свою каюту с любовно подобранной дорогой мебелью и великолепными навигационными приборами
– убранством, среди которого протекала его бурная, трудная, увлекательная жизнь, в которой не было места Анжелике.
– ..Я старый морской волк, привыкший к одиночеству. Если не считать нескольких недолгих лет супружества, проведенных в вашем прелестном обществе, женщины всегда играли в моей жизни лишь эпизодические роли. Возможно, узнав это, вы почувствуете себя польщенной. Однако холостяцкое житье породило склонности, которые не очень-то располагают к тому, чтобы опять влезть в шкуру примерного супруга. Корабль мой невелик, в апартаментах места мало. И я предлагаю вам вот что… Давайте на время путешествия соберем все наши карты обратно в колоду и будем считать, что партия закончилась вничью.
– Вничью?
– Останемся каждый на своем месте. Вы – госпожой Анжеликой, в компании своих друзей, а я – здесь у себя.
Итак, Жоффрей от нее отрекается, он ее отвергает… Судя по всему, она ему просто не нужна. И он отсылает ее к тем, кого в эти последние месяцы она привыкла считать своими близкими.
– Может быть, вы еще потребуете от меня забыть все, что вы мне сейчас открыли? – спросила она саркастически.
– Забыть? Нет. Но в любом случае – не разглашать.
– Идем, мама, – твердила Онорина, продолжая тянуть Анжелику к двери.
– Чем больше я над этим думаю, тем больше убеждаюсь, что не в ваших интересах говорить вашим друзьям, что вы, хотя и очень давно, были моей женой. Они могут вообразить, будто вы к тому же – моя сообщница.
– Ваша сообщница? В чем?
Он не ответил. Его лоб прочертила резкая складка – он о чем-то размышлял.
– Возвращайтесь к ним, – бросил он сухо, словно отдавая приказ. – Ничего им не рассказывайте. Это бесполезно. Впрочем, они, скорее всего, просто решат, что вы не в своем уме. Пропавший и вновь обретенный муж увозит вас на своем корабле, не будучи тотчас же вами узнанным, – согласитесь, такая история у любого вызовет сомнения.
Он повернулся к столу и взял кожаную маску, которая защищала его изрезанное шрамами лицо от укусов соленых брызг и взглядов шпионов.
– Не говорите им ничего. Пусть они ни о чем не догадываются. Тем более, что эти люди не внушают мне доверия.
Анжелика уже была у двери.
– Поверьте, это взаимно, – процедила она сквозь зубы.
Уже стоя на пороге, в дверном проеме, держа за руку Онорину, она вновь повернулась и впилась в него жадным взглядом. Он снова надел маску – и это помогло ей яснее понять смысл его недавних слов.
Это был он и в то же время – другой человек, чужак. Жоффрей де Пейрак и Рескатор. Знатный сеньор-изгнанник и морской разбойник, которому пришлось расстаться с прежними привязанностями и жить только суровым настоящим.
Странно, но сейчас он казался ей более близким, чем минуту назад. Она чувствовала облегчение от того, что теперь может обращаться только к Рескатору.
– Мои друзья обеспокоены, монсеньор Рескатор, – сказала она, – потому что не понимают, куда вы их везете. Ведь это весьма необычно – не правда ли? – встретить льды неподалеку от Африки, где мы должны сейчас находиться.
Он подошел к черному мраморному глобусу, испещренному странными знаками. Положив на него руку – руку патриция, хотя теперь она была смугла, как у араба, – он медленно провел пальцем по инкрустированным золотом линиям. Наконец, после продолжительного молчания он словно вспомнил о ее присутствии и равнодушно ответил:
– Скажите им, что северный путь тоже ведет в Вест-Индию.
Глава 10
Граф Жоффрей де Пейрак, иначе – Рескатор, проскользнул в люк и быстро спустился по крутому трапу в трюм. Следуя за несущим фонарь мавром в белом бурнусе, он углубился в лабиринт узких коридоров.
Мерное покачивание нижней палубы под ногами подтверждало, что он был прав: опасность миновала. Хотя они шли в густом холодном тумане, который одел все реи и палубные надстройки тонким слоем инея, он знал – все будет хорошо. «Голдсборо» плыл по волнам легко, как судно, которому ничто не угрожает.
Он, Рескатор, отлично знал этот язык – знал, что означают различные скрипы и подрагивания корпуса и мачт – всего того, что составляет огромное тело его корабля, задуманного для плаваний в полярных морях и построенного по его собственным чертежам на главной верфи Северной Америки, в Бостоне.
Он шел, касаясь рукой влажного дерева, – не столько в поисках опоры, сколько для того, чтобы постоянно ощущать под ладонью могучий, способный противостоять любым опасностям корпус своего непобедимого корабля.
Он вдыхал его запахи: запах секвойи, привезенной с гор Кламат, из далекого Орегона, запах белой сосны с верховьев Кеннебека и с горы Катанден в Мэне – «его» Мэне – сладостные ароматы, которые не могла перебить проникавшая повсюду морская соль.
«Нигде в Европе нет такого прекрасного леса, как в Новом Свете», – подумал он.
Высота и мощь деревьев, великолепие сочной, глянцевитой листвы – все это стало для него подлинным откровением, когда он впервые увидел леса Америки – а ведь к тому времени его, казалось, уже трудно было чем-либо удивить.
«Открытие мира бесконечно. Каждый день мы убеждаемся, что в сущности еще ничего в нем не знаем… Всегда все можно начать сначала… Природа и ее четыре стихии всегда с нами, чтобы поддерживать наш дух и побуждать идти вперед».
Однако долгая схватка с враждебным морем и льдами, которую он вел прошедшей ночью, не принесла ему знакомого удовлетворения: он не чувствовал ни радости победы, ни воодушевления от того, что его душа обогатилась новым сокровищем, которого у него никто не сможет отнять.
Это потому, что затем ему пришлось выдержать другую бурю и она – хотя он и не желал себе в этом признаться – произвела в его душе немалые опустошения.
Мог ли он себе представить, что станет участником такого фарса, где не знаешь чего больше: гнусности или дурного вкуса! Произнести слово «драма» он все еще отказывался.
Он всегда стремился видеть всякую вещь в ее истинном свете. Истории, в которых замешана женщина, как правило, более походят на фарс, чем на драму. И даже теперь, когда речь шла о его собственной жене, женщине, которая, к его великому несчастью, оставила в его сердце более глубокий след, чем другие, он не мог подавить в себе желания саркастически рассмеяться, когда начинал мысленно выстраивать в ряд все сцены этой комедии. Объявляется пятнадцать лет как позабытая супруга, не узнав его, требует, чтобы он отвез ее в Америку, и наконец – того хлеще – собирается просить у него благословения на брак со своим новым возлюбленным. Как известно, случай – господин весьма изобретательный по части создания комичных ситуаций, но тут он, пожалуй, перешел все границы. Следует ли ему, Жоффрею де Пейраку, благословлять его за это? Благодарить, быть может? Довериться этому кривляющемуся шутнику, который только что, словно в насмешку, представил их глазам поблекший призрак прекрасной любви их молодости?
Ни он, ни она не желают возврата к прошлому. Но тогда зачем он открыл ей сегодня утром, кто он такой? Раз уж она так упорно его не узнавала, не проще ли было отпустить ее к столь любезному ей протестанту?
В помещении, куда он через мгновение вошел, было светло, и этот внезапный свет резанул его глаза той же острой слепящей болью, что и пронзившая мозг очевидная мысль.
«Глупец! Ради чего ты прожил сто разных жизней, для чего сотни раз избежал смерти, если до сих пор тщишься скрыть от себя правду о себе самом! Признайся, что ты не мог допустить, чтобы она стала женой другого, потому что ты бы этого не вынес».
Весь во власти гнева он обвел трюм угрюмым взглядом. Несколько усталых матросов спали в гамаках или на грубо сколоченных койках, поставленных возле лафетов пушек. Порты были открыты, потому что на этой батарее, спрятанной в тесном твиндеке, отсутствовала вентиляция. На время плавания Жоффрею де Пейраку пришлось разместить здесь часть экипажа, чтобы более удобное помещение под баком предоставить пассажирам.
Время от времени через какой-нибудь открытый порт вплескивалась морская вода и спящий под ним матрос недовольно ворчал сквозь сон.
Именно здесь проходила ватерлиния, и явственно слышалось, как в борта ударяются волны. Их можно было тронуть рукой и погладить, словно больших укрощенных зверей.
Он подошел к одному из портов. Проникающий сквозь него свет был окрашен в сине-зеленое из-за близости моря.
Всегда такой заботливый, когда дело касалось его команды, Жоффрей де Пейрак сейчас совсем о ней не думал. Громадные бледно-зеленые волны, более светлые на гребнях, более темные внизу, среди которых, казалось, то и дело коварно поблескивали льдины, неодолимо вызывали в его памяти зеленые глаза, чью власть над собою он так упрямо не хотел признать.
«Нет, я бы этого не вынес! – снова подумал он. – Чтобы отдать ее другому, нужно, чтоб она стала мне совсем безразлична. А она мне не безразлична!..»
Вот он и признался в этом самому себе, но такое признание едва ли облегчит для него ответ на вопрос: что делать дальше? Даже самое ясное осознание истины не всегда помогает найти лучшее решение. Кто-кто, а он мог бы сказать о себе, что ко времени вступления во вторую половину жизни научился подходить к своим душевным конфликтам достаточно беспристрастно и спокойно. Пути ненависти, отчаяния, зависти всегда казались ему бесплодными, и он их избегал. Дорогу ревности ему также удавалось обходить стороной – до того дня, когда его посланец принес ему весть о том, что его «вдова», госпожа де Пейрак, сочеталась счастливым браком с известным красавцем и распутником маркизом дю Плесси-Белльер. Тогда он сумел довольно быстро оправиться от разочарования. По крайней мере так ему казалось.
Но рана, как видно, была более глубокой, из тех скверных ран, что снаружи затягиваются слишком быстро, в то время как ткань внутри гноится или усыхает. Про такие случаи ему рассказал его друг, Абд-эль-Мешрат, когда лечил его ногу. Арабский врач не давал зияющей ране под коленом закрыться до тех пор, пока все: нервы, мышцы, сухожилия – не срастется с той скоростью, которую определила для человеческого тела природа.
Как бы то ни было, он страдал из-за женщины, которая больше не существует и не может возродиться.
Но тут, глядя на море, он опять вспомнил бездонные зеленые глаза и с грохотом захлопнул деревянную дверцу порта.
Стоявший за его спиной мавр Абдулла готовился потушить фонарь.
– Не надо, мы идем дальше, – бросил ему граф.
И вслед за мавром нырнул в еще один темный колодец – прорезанный в орудийной палубе люк. Такие спуски были ему до того привычны, что нисколько не отвлекали от мыслей.
Никаким напряжением воли он не смог бы сейчас избавиться от этого наваждения – мыслей об Анжелике. Впрочем, отчасти из-за нее ему и приходилось спускаться на самое дно трюма.
Раздражение, злость, растерянность – он и сам не знал, что из этого преобладает в нем сейчас. Но увы! – только не безразличие! Те чувства, которые возбуждала в нем женщина, пятнадцать лет назад переставшая быть его женой и всячески его за эти годы предававшая, и без того были достаточно сложны, а сегодня к ним добавилось еще и желание!
Что толкнуло ее на этот странный, неожиданный жест – рвануть корсаж и показать ему клеймо, выжженное на ее плече?
Его тогда поразил не столько вид этого позорного знака, сколько царственная красота ее обнаженной спины. Он, привередливый эстет, привыкший рассматривать и оценивать женскую красоту по всем статьям, был ею ослеплен. Прежде линии ее спины не были так безупречны – она еще только избавлялась от отроческой худобы и хрупкости. Когда он на ней женился, ей было всего семнадцать лет. Теперь он вспоминал, как лаская ее юное, едва сформировавшееся тело, иногда думал о том, как прекрасна станет Анжелика, когда вполне расцветет под воздействием прожитых лет, материнства и всеобщего почитания.
Но не он, а другие помогли ей расцвести и достичь нынешнего ее совершенства. И сегодня, когда он меньше всего этого ожидал, она вдруг явила ему тот пленительный образ, который он создал в мечтах много лет назад. Освобожденное от темных, плохо сшитых одежд, ее тело неодолимо вызывало в памяти статуи античных богинь плодородия, стоящие кое-где на средиземноморских островах. Сколько раз он любовался ими, говоря себе, что в жизни – увы! – такие фигуры встречаются редко.
Нынче утром, в полумраке салона ее красота потрясла его еще больше, чем тогда, в Кандии. Молочно-белая кожа, нежданно явившаяся его взору в хмуром сумраке туманной, тоже молочно-белой северной зари, движение плеч, полных, крепких и в то же время поражающих нежностью и чистотой линий, сильные, гладкие руки, не прикрытая волосами стройная шея, с едва заметной продольной ложбинкой, придающей ей какую-то невинную прелесть, – все это пленило его с первого взгляда, и он подошел к ней, пронизанный ошеломляющим чувством, что она стала еще прекраснее, чем раньше, и что она принадлежит ему!
Как она сопротивлялась! Как защищалась! Казалось, она забьется в припадке падучей, если он сейчас же ее не отпустит. Что же все-таки так ее в нем испугало? Его маска? Или догадка, что сейчас он откроет ей что-то такое, что будет ей неприятно?
Что ж, самое меньшее, что здесь можно сказать, – это то что он ее ничуть не привлекает. Все ее желания явно устремлены к другому.
– Идем, идем, – нетерпеливо бросил он мавру. – Я же сказал тебе: мы спустимся в самый низ, туда, куда я помещаю арестантов. «Ее заклеймили цветком лилии, – подумал он. – За какое преступление? За какое распутство? Хотел бы я знать – насколько низко она пала? И почему? Как случилось, что она подпала под влияние этих чудаковатых, чопорных гугенотов? Раскаявшаяся грешница?.. Да, похоже, так оно и есть. У женщин такой слабый ум…»
Он догадывался, что ему нелегко будет получить ответ на эти вопросы, и оттого возникающие в его воображении картины мучили его еще больше.
– Ей выжгли клеймо… Я знаю, что такое застенок, знаю леденящий ужас тех мест, где фабрикуют боль и унижение… Страх, который может внушить жаровня с лежащими в ней странными, докрасна раскаленными инструментами… Для женщины это тяжкое испытание! Как она его перенесла? Почему? Стало быть, король, ее любовник, лишил ее своего покровительства?..»
Они дошли до самого низа. Здесь, в этой темной глубине, не был слышен даже шум моря. Его можно было только чувствовать: тяжелое, могучее, грозно напирающее на тонкий деревянный борт. Эта часть корабля всегда оставалась под водой, и все здесь было покрыто влагой. Жоффрею де Пейраку вспомнились сырые своды камер пыток в Бастилии и Шатле. Жуткие места, но воспоминания о том, что он там претерпел, никогда не преследовали его в сновидениях в годы, прошедшие после его ареста и суда в Париже. Он все же выбрался оттуда, хотя и едва живой, и считал, что для душевного равновесия этого довольно.
Но женщина? И особенно – Анжелика! Он не мог представить себе ее в этих страшных застенках.
«Они поставили ее на колени? Сорвали с нее рубашку? Она громко кричала? Вопила от боли?» Он прислонился к липкой переборке, и мавр, думая, что его хозяин хочет осмотреть трюм, в который они только что вошли, высоко поднял фонарь.
В тусклом свете стали видны наваленные друг на друга окованные железом сундуки и подле них – какие-то большие блестящие предметы, тщательно закрепленные, чтобы их не швыряло при качке. Поначалу глазу трудно было разобрать их форму, но стоило приглядеться – и начинали вырисовываться затейливо украшенные кресла, столы, вазы и множество других, самых разных вещиц: все из золота или – реже – из «малого серебра» – платины. Пляшущие отблески пламени пробудили к жизни теплый блеск этих благородных металлов, которые не могли испортить ни сырость, ни морская соль.
– Ты любуешься своими сокровищами, мой господин? – спросил мавр гортанным голосом.
– Да, – сказал Жоффрей де Пейрак, хотя на самом деле не видел ничего.
Он зашагал дальше и, когда в конце коридора натолкнулся на массивную, обитую медью дверь, его охватило раздражение.
– Протаскать с собой столько золота – и все зря!
Его торговые партнеры в Испании напрасно будут ждать прибытия «Голдсборо». Из-за ларошельцев он вынужден был пуститься в обратный путь, прервав рейс, которым намеревался завершить поставку золота, и не заключив соглашений о будущих сделках. И все это ради женщины, которая, как он пытался себя уверить, совсем ему не дорога! А ведь прежде ни разу не случалось, чтобы он из-за женщины провалил торговую сделку… Но гугеноты ему заплатят! И немало! И в конце концов все устроится к лучшему.