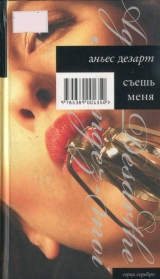
Текст книги "Съешь меня"
Автор книги: Аньес Дезарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
В тот вечер, сидя в роскошном ресторане, мы запалили огромный костер радости.
– Так ты справляешься? – спросил он снова.
– По правде говоря, не очень.
Брат взглянул на меня с удивлением. Чтобы он не подумал, будто я жалуюсь (мы не терпим нытиков), я поспешно добавила:
– Конечно, я многое умею. Но сколько еще не освоено!
– Что, например?
– Бумажки всякие. Их так трудно заполнять. Я не ждала, что на меня обрушится столько бланков, платежек, страховок и налоговых документов – в них сам черт ногу сломит! Кстати, я и сотой доли налогов не заплачу. И с покупками не справляюсь. Все говорят, что за продуктами нужно ездить на оптовый рынок, но нет машины, так что обхожусь обычным рынком и супермаркетом.
– А как ты обходилась в цирке?
– Там все было по-другому. Никаких закупок.
– Что же вы ели?
– Да все, просто я не ходила по магазинам. К нам приезжал один дядька. Фермер. Не какая-нибудь тебе деревня в синем комбинезоне и берете, ничего подобного! Нашего фермера звали Али Шлиман, и он был очень элегантный, всегда в белоснежной рубашке и кремовом костюме. Вот он и приезжал. Я никогда ему не звонила, даже номера его не знала. Ничего не заказывала. Он прибывал на грузовичке чудесного небесно-голубого цвета, цвета безоблачного детства. В кузове было все, что нужно: молоко, сыр, творог, овощи, мясо. Никаких тебе этикеток, клейм, печатей – он сам выращивал животину и сам ее резал. Не разрешал мне мыть овощи. «Тонкий слой земли их защищает. Соскреби его, когда будешь готовить. Не мой овощи, просто оботри». Я свято выполняла все указания Али. Когда я на него смотрела, у меня сжималось сердце. То ли от жалости, то ли… Не знаю.
– За что ж ты его жалела?
– Мне казалось, он так одинок!
– Может, у него на ферме жена, куча детей и два десятка братьев и сестер. А в соседней деревне три любовницы.
– Вряд ли. Но даже если так, все равно у него глаза одинокого человека, что-то отрешенное и древнее во взгляде. И в выражении лица, вернее, в отсутствии выражения. Он мне и банки всякие привозил. С артишоками, консервированными лимончиками, горошком и фасолью всех видов. Привозил специи. Яйца с шершавой скорлупой. Муку в коричневых бумажных пакетах. На пустыре, где расположился наш цирк, он разбил грядку и посадил тимьян, розмарин, петрушку, кориандр, шалфей, мяту, лук-скороду. Я спросила, не боится ли он, что всю эту красоту отравит городской воздух. «Вы и так отравлены, – ответил он, но без всякой враждебности или осуждения. – Вы дышите этим воздухом. Вы пропитаны им. Чего вам бояться выращенной здесь петрушки?» В сумерках я выходила с фонариком и навещала нашу грядку. Сидела на корточках и любовалась шалфеем, он был такой бархатистый и напитанный росой. Или розмарином, у него листочки острые, как будто малюсенькие кинжалы, которые пронзали темноту, и на них висели капельки-пузырьки, и мне казалось, что они вот-вот наколются на острие и лопнут. У лука-скороды голова маленькая и невзрачная, она прячется в земле, а цветок – пышный зеленый помпон, какой-то надменный, и тянется к небу… Тимьян стлался плотной, густой, напористой порослью и напоминал мне подползающий к врагу отряд партизан. Я всегда любила побыть среди растений, спокойных, бессловесных и глухих; у них нет желаний, только потребности. Рядом с ними я могла поразмыслить. И отдохнуть. Мне хотелось стать такой же, как они, слиться с ними.
Тут мой голос пресекся, похоже, пора меня удалять с игровой площадки.
– Что ж ты его не разыскала? – спросил брат.
– Кого?
– Да этого фермера.
– Я не знаю его адреса, не знаю номера его телефона. Не знаю даже, из какой он провинции. И как называется его хутор.
– А я уверен, что его вполне можно найти. По имени и фамилии. Ты ведь знаешь, как его зовут. И, скорей всего, он живет неподалеку от Парижа. Может, расспросишь о нем циркачей?
– Понятия не имею, где они. Получили предупреждение полиции и мигом все свернули. Собрались за один день. И уехали. Хозяин распрощался со мной. Я спросила, куда они теперь. Он ответил: «Извини, мы не можем взять тебя с собой». И больше ни слова. Я сказала, что все прекрасно понимаю и беспокоюсь только за них. Как они прокормят детей и животных? В городах много недобрых людей, а в деревнях и того хуже: смотрят косо на чужаков и сразу гонят прочь. Я боялась, что им не выжить. Но хозяин цирка не унывал. «Чего ты нас оплакиваешь? Разве не понимаешь, что нам здорово повезло? Мы ни гроша не платили за аренду. Бесплатно заняли отличнейший пустырь. Неплохо заработали. Найдем и еще пустырь не хуже. Зря ты нас оплакиваешь, евреечка. (Странно, что он так меня называл, верно?) Не тебе нас оплакивать, верно?» Я кивнула. И побежала выкапывать душистые травки. Все выкопала. Ничего не оставила. Завернула в бумагу. И отдала кульки жене хозяина. Она взяла, посмотрела, поцеловала меня, а когда грузовик чуть отъехал, опустила стекло и выкинула их. Со смехом. Я смотрела, как лежат мои увядающие травки на заброшенном пустыре. Потом подобрала кульки и сложила в сумку. В гостинице я попросила вазу или горшок для моего садика. Гостиница была совсем дешевая. Мне ответили: «Ваз у нас нет». Пришлось посадить травки в раковину. И чистить зубы над ванной. Но они все равно завяли, я их выбросила и заплакала. Я оплакивала все вырванное с корнем, брошенное зазря. Думала, никогда не утешусь.
– Но в конце концов утешилась.
– Да, утешилась.
– Обрати внимание, рано или поздно утешение приходит ко всем.
Мы умолкли, размышляя над неотвратимым концом всякого горя. Молчание нарушил Шарль:
– Почему ты мне тогда не позвонила?
– Когда?
– Когда тебя вышвырнули из цирка, когда ты осталась совсем одна, безработная и бездомная. Мы бы тебя приютили.
– Я не хотела быть с людьми. Я тогда совсем одичала.
Передо мной поставили телячью отбивную, я с наслаждением вдыхала запах мяса. Я могла бы схватить отбивную руками и обглодать до косточки, показать брату, что стала настоящей дикаркой. Но я не набросилась на телятину. Спокойно придирчиво оглядела ее. Ткнула ножом, проверяя, не пережарилась ли. Надрезала. Потекла розоватая кровь, почти водичка. Сок отбивной смешался с темной подливкой, пропитал гарнир, терпкую смесь сладкого корня-козлеца и фасоли, тонких стручков, коричневых, как стрелки лука-татарки. Я отложила до лучших времен тяжкие раздумья о собачьей концептуальности и с величайшим удовольствием принялась за еду.
Глава 10
Мне нравится, возвращаясь домой, каждый раз поднимать железную штору. Словно решетку над воротами средневекового замка. При этом я чувствую себя владетельной синьорой. Оказавшись внутри, я опять опускаю ее – это действие дарит мне чувство безопасности. Металлическое веко, моргнув, – так иногда мы смаргиваем слезу, отгоняем мрачное воспоминание, – заслонило меня от внешнего мира надежней любой двери. Никому и в голову не придет, что в ресторане кто-то ночует; что каждый вечер зеленый диванчик раскладывается, превращаясь в кровать, что под ним прячется ящик со спальным мешком. Ни одна душа не догадается, что некто чистит здесь зубы, моет голову, встает пописать и после приснившегося кошмара вглядывается в зеркало: действительно ли все на своих местах. И разве можно заподозрить, что на одном из столиков стоит вазочка с цветными карандашами вместо цветов, и некто в оранжевом круге пишет, рисует, затевает что-то, пока все спят. Некто, то есть я. Ибо этой ночью я не спала. Я записывала свои гениальные мысли. И составляла план действий, необходимых, чтобы претворить гениальные мысли в жизнь. Так появилось два списка: список номер один, озаглавленный «Гениальные мысли», и список номер два «План действий». Причем второй список во много раз длиннее первого. Не знаю, хорошо это или плохо.
Люблю писать по ночам. Будь я писателем, писала бы только ночью. Как Бальзак. Или не Бальзак? Смутно помнится атласный халат в жирных пятнах. Но его ли это халат? Как Пруст, он и днем не открывал ставень. Я видела кровать Пруста. Стоп. Провал. Провал в памяти. Вместо нее перед глазами кровать Ван Гога. У меня в голове вечный хаос, хорошо бы все-таки навести в ней порядок. Лучше сосредоточусь на списках. Самое главное – четко сформулировать гениальные мысли. Кратко и в то же время ясно. Излишние подробности превратят перечень в повествование и запутают меня, когда я возьмусь за исполнение замысла. О пользе ясности нечего и говорить.
К делу! Итак, гениальные мысли. Первая: ресторан для детей. Вторая: блюда на вынос. Вот и все. Меня осенили всего две гениальные мысли. И обеими я обязана музону, Венсану-цветочнику. Он произнес: «Родные». «Родные» значит «семья», а семья – это дети, а дети – это капризули и грязнули. Семья – это сущий ад, вот тут-то и появляюсь я со своей революционной идеей. Мой ресторан в двух шагах, и здесь накормят детей не хуже, чем в школьной столовой, то есть гораздо вкуснее и по той же цене (знаю, звучит неправдоподобно, но когда я всерьез займусь вторым списком, то справлюсь и с невозможным). Здесь разрешено есть руками, здесь столько вкусного!
Блюда на вынос – на первый взгляд мысль неоригинальная. Во многих ресторанах готовят на заказ, с доставкой на дом, но сейчас речь совсем о другом. Опять-таки меня вдохновил Венсан, принесший мне охапку увядших цветов. Нет, я и не думаю подсовывать тухлятину людям, что устраивают вечеринку или собираются на пикник. Я думаю о том, чтобы продукты не портились. Торговать навынос я буду не каждый день – лишь в тех случаях, когда наварю и нажарю слишком много. Я буду обеспечивать не застолья на сто пятьдесят человек, я буду выручать людей, которым некогда или лень, у которых все валится из рук. Я сразу предупрежу, что продаю остатки и наименее удачные блюда, зато очень дешево, уверена, это их не смутит. Новость быстро облетит квартал. Жители окрестных домов поймут, что «У меня» нечто вроде лотереи. Иногда – удача! Вам достался роскошный кусок вырезки, запеченный в тесте, под соусом из сморчков. Хватит на четверых. А иногда: извините! В ресторане аншлаг, ничего не осталось, но если у вас есть минутка, я продиктую один рецепт, простенький, вы справитесь шутя. Самым симпатичным и верным, тем, кто сами приходят и друзей приводят, я приготовлю сюрпризы, ошеломляющие, невероятные и неожиданные. Праздничные пиры и подарки ко дню рождения. Как же полюбит меня весь квартал! Полюбит до невозможности. Я буду купаться в лучах славы и обожания. Все станут говорить: «Что бы мы делали без тебя?» И матери семейств, и юные парочки, что остались без гроша. Я расцвету. Почувствую себя нужной. Стану собой. Изменю мир вокруг. Наполню его добротой. Сделаю его наконец-то пригодным для жизни!
Я открываю бутылку бордо. Мы выпили всего… Сколько бокалов мы с Шарлем выпили?.. Или бутылок? Не помню, но дома мне захотелось добавить. Для храбрости, чтобы броситься очертя голову в схватку со вторым списком, длинным и сложным, ведь работая над ним, я решу задачи, поставленные в первом.
Я открыла чистую страницу и написала заглавие: «План действий». Подумала, что не буду выстраивать дела по порядку. Запишу как попало. Свалю в одну кучу. Дав простор мыслям, фиксирую самые важные: нужно сходить в мэрию и выяснить, сколько стоят обеды в школьных столовых. Познакомиться со всеми нянями по соседству (этот пункт я сразу же вычеркнула: няни – мои враги по определению, поскольку в их глазах я – коварная конкурентка без стыда и совести). Составить меню из любимых детских лакомств. Подсчитать, во что обойдется их приготовление, и придумать, как максимально снизить цену. Закупить побольше небьющейся посуды. Ни в коем случае не менять оформления, никаких игрушек, игрушки – сплошная безвкусица, и яркие и блеклые, и пластмассовые и деревянные, последние к тому же удручают, утомляют и даже пугают малышей. Поощрить чем-нибудь и взрослых, которые придут с детьми. Чем? Отдельным меню? Нет, пусть лучше вспомнят детство. А захотят поесть всерьез – милости просим! Заказывайте вечером столик или приходите за остатками. Еще нанять помощников: официанта и повариху или, наоборот, официантку и повара. Самое главное, его и ее. Зачем мне он и она? По-моему, так будет меньше ссор. Купить подушек, чтобы дети сидели повыше. Купить вафельницу. А фритюрница нужна? И фритюрницу. И для выпечки блинов что-нибудь. Вот если бы «У меня» был камин! Развести в нем огонь и приготовить жаркое: телячьи отбивные, свинину, куриные грудки! Я оглядела стены и потолок в поисках отдушины для дымовой трубы. Нелепый лепной карниз приковал мой взгляд, я не заметила стула у себя на пути, зацепилась ногой за его ножку, шлепнулась плашмя на кафельный пол и, хоть и пыталась прикрыть лицо руками, рассадила нос и губу о металлический угол стола.
Некоторое время я валялась, как футболист на поле, с гримасой невыносимой боли, как футболист на поле, обхватила голову руками и подтянула колени к животу – футболисты тоже это умеют, вот только непонятно, зачем я так старалась, ведь «У меня» ни одного судьи. И штрафной заслужила я сама. Оказывается, я соскучилась по добрым старым временам супружества, когда причиной всех бед был муж, жестокий нехороший человек, несправедливо притеснявший меня. Как приятно прошипеть: «Чтоб ты сдох!» Глядишь, и на душе полегчало. Пожалуй, разозлюсь-ка я на Шарля, ведь это он меня напоил. Встать мне никак не удавалось, все плясало перед глазами, стены накренились, будто я внутри карточного домика, который сейчас рассыплется, столы разбегались от меня, как огромные тараканы, а стулья подползали, как мрачные жуки, и угрожающе шевелили ножками-рогами у меня над головой. Тут до меня дошло: я пьяна и не соображаю, что пьяна.
Я с трудом вскарабкалась на диванчик и уставилась на мятые бумажки, исписанные великолепным почерком профессиональной мошенницы. Изящные завитушки, летучие вертикальные линии, четкие знаки препинания, идеально ровная строка, легкий наклон вправо – свидетельство добродушия и рассудительности. Изысканный благородный рисунок, текст набегает на страницу волна за волной. Мой каллиграфический почерк обманет кого угодно, он причина всех моих успехов и удач. Взглянув на него, знатоки утверждали, будто у меня все задатки лидера: уверенность в себе, надежность, предприимчивость. Предрекали блестящую будущность в психологии или психиатрии, допускали, что я легко освою профессию педагога или инженера. Даже я сама, глядя на свои записи, тешусь иллюзией собственных безграничных возможностей. И верю каждому написанному слову. Нос и губа кровоточили: капли крови из носа расплывались алыми маками, из губы – мелкими цветочками звездчатки. Несмотря ни на что, я твердо решила осуществить задуманное и беспрекословно следовать всем советам, что надиктовал мне излишек спиртного.
Прежде чем рухнуть на диван и забыться, я добавила во второй список: «Разыскать господина Шлимана».
Меня разбудил не то шорох, не то скрежет. Я мгновенно вскочила. Под железную штору подсунули почту. Сначала показались уголки конвертов, потом их словно втянуло внутрь, и по полу рассыпался белый бумажный ворох, сквозняк подхватил его и понес к дивану. Одинаковые конверты с прозрачным окошком. «Вот чем отличается конверт от ванной», – подумала я спросонья. Окно в ванной – благо, окно на конверте – дурной знак. Удивительно, сколько писем я получила с тех пор, как открыла ресторан. Хотя их нельзя назвать письмами. Люди мне не пишут. Не шлют вестей. Мне нужно привыкнуть к казенной корреспонденции, не удивляться, не ждать, что с листка бумаги на меня глянет душа, не важно, родственная или нет. Что письмо спросит: «Как поживаешь?» И сообщит: «У меня все хорошо. Дети здоровы. Муж устроился на работу. Теперь есть время почитать. И еще я учусь шить у потрясающей портнихи». Или наоборот: «Не знаю, что делать. Вся извелась. Я словно в тюрьме. Каждый день собираюсь уйти из дома». Рассказы о себе, расспросы о тебе. Чья это переписка все приходит мне на ум? Мадам де Сталь или мадам де Севинье? Ах да, письма Розы Люксембург (их я ни с кем не спутаю, ее переписка с Лео Иогихесом есть в моей передвижной библиотеке среди тридцати трех книг, не провалившихся в черную дыру злополучной амнезии). Пришлось подняться и собрать каждодневный сорный урожай. Мы имеем на сегодня два извещения о просроченных платежах с приложенным расчетом законных штрафных процентов; квитанцию принудительных отчислений в пенсионный фонд, не внушающий доверия; предложение бесплатной месячной подписки на информационный бюллетень и выписку из моего текущего счета в банке. Я положила рядом грозные требования об оплате и красноречивые свидетельства того, что я абсолютно неплатежеспособна. Мне захотелось им предложить: «Договоритесь между собой». Уладьте все сами. Безденежье и долги, кто кого переспорит? Вы здесь рядышком на столе. Пускай долги уступят. Пустой банковский счет их переубедит. Я бессильна вас примирить. Мне остается одно: грустить, что не пришло ни одного человеческого письма, что мне прислали только цифры, цифры, цифры. Из духа противоречия я взяла с полки переписку Розы Люксембург. Пусть хоть она пошлет мне весточку. В утешение. Открыла наугад, попалась двести семьдесят седьмая страница. Я прочла: «Больше всего мне понравились твои слова о том, что мы еще молоды, что мы еще поселимся вместе и будем счастливы. Любовь моя, золотко, если бы ты сдержал обещание! Представляешь, у нас есть собственная небольшая квартира, обставленная, как нам нравится, наша библиотека. Можно спокойно работать изо дня в день. Гулять вдвоем, иногда ходить в оперу, приглашать к обеду самых близких друзей. Летом уезжать на целый месяц в деревню, без работы, на отдых!.. (А что, если у нас будет малыш, совсем крошечный? Неужели нельзя? Неужели не будет?)»
Я захлопнула книгу и задумалась об этом крошечном так и не родившемся малыше, заботливо окруженном скобками, будто руками будущей матери, которой не суждено было стать ею, – Роза умерла бездетной, ее убили в 1919 году. Девять утра. Мне нужно срочно бежать за покупками, купить хотя бы самое необходимое, хлеба и фруктов, но я стояла как громом пораженная, не могла пошевелиться, застигнутая врасплох ужасным воспоминанием. Сердце колотилось в груди, стало трудно дышать. Я вспомнила о своей былой восторженности, наивной бесцеремонной откровенности, опрометчивом нежелании оградить любовь спасительными скобками. Как жестоко я была наказана!
Я не видела младенца красивее моего новорожденного сына. Все вокруг смеялись, когда я это говорила. Даже муж потешался надо мной. Но я твердо стояла на своем. «Погляди!» – повторяла я мужу. «Присмотритесь!» – твердила всем родственникам и друзьям. «Он необыкновенный! Само совершенство! Какая форма головы, какое ладное тельце, чистая кожа, ровный носик. А как он смотрит! Сколько ангельской доброты во взгляде! Не верите, сравните с другими. Они сморщенные, носатые, у них цепкие лапки, испуганные глазенки. Кривые ножки, паучьи пальцы с вросшими ногтями или без ногтей. Пронзительные голоса. Мой сын совсем на них не похож. Им невозможно налюбоваться».
Медицинской сестре мои речи внушили беспокойство. Она сочла, что я излишне взвинчена, нервна. Такое отношение лишь усилило во мне полемический задор. «Конечно, где вам заметить разницу! Вы человек занятой. Вам некогда разглядывать младенцев. Каждая минута на счету. Но мой сын в самом деле особенный. Уверяю вас. Пристрастность матери здесь ни при чем. Он лучшее творение природы». И тут муж ударил меня. Наотмашь. По носу и по щеке. Из носа потекла кровь. Моя соседка по палате низко склонила голову. Наверное, сдерживала смех. Сестра взяла моего мужа за руку и вывела в коридор. «У них совсем нет чувства юмора», – с обидой подумала я. И почувствовала себя ужасно одинокой.
Лежа в своей прозрачной кювете, Гуго наградил меня восхитительной улыбкой, о которой, перечисляя его достоинства, я забыла упомянуть. Я замерла в восторге, но внезапно к своему величайшему ужасу ощутила, что внутри как будто что-то разбилось. Любовь исчезла. Я отвернулась к стене. Стала разглядывать беленую поверхность. Наверное, мне просто показалось. Затмение нашло. Немного пережду и погляжу сыну в глаза с прежней счастливой, безграничной нежностью. Я растаю, растворюсь, возгоржусь и резко поглупею. Выдержала паузу. Посмотрела, как моя соседка кормит грудью свою щупленькую страшненькую девочку с тельцем, покрытым пухом, и тремя черными волосинками на нелепой конусообразной головенке. Соседка не поднимала глаз и тихонько вздыхала, то ли разочарованно, то ли с облегчением. Наверное, старалась забыть странную сцену, что разыгралась у нее на глазах. Или втайне злорадствовала: мать лучшего на свете ребенка унизили перед ней, родившей жалкую мохнатую лягушку. Гордячке дали пощечину. Поставили на место. Нечего нос задирать. Ей ведь тоже надоело, что я круглосуточно любуюсь своим детищем. Ну, мы еще посмотрим кто кого, им меня не одолеть.
Ящерица в пустыне поворачивает чешуйчатую голову, неотличимую от присыпанной песком створки раковины, так медленно, что добыча до последнего принимает ее за камень. С той же медлительностью я обернулась к сыну, ожидая, что меня сейчас же накроет волна беспредельной любви. Ничуть не бывало. Любовь не проснулась. Я внимательно вглядывалась в каждую черточку. Пухленькие ручки, сладенькие складочки, щечки-персики. Яркий, с полными, прекрасно очерченными губами ротик чуть-чуть приоткрыт. Маленький курносый носик, смешной и славный. Голубоватые веки, уже отороченные ресницами. Лоб мудреца, недосягаемого для житейских бурь, – его безмятежная гладкость ограничена светлыми бровками «домиком», придающими личику удивленное и одновременно всепрощающее выражение. Голова безупречной лепки, вся покрытая густыми пушистыми волосами. Прижатые к голове ушки, чистые, похожие на перламутровые ракушки-петушки, что мирно греются на песочке. Крепенький, подвижный. Ползунки на нем не собираются в складки, распашонка не расходится на груди, не торчит, наоборот, все одежки сидят на его крупном и удивительно складном тельце на редкость аккуратно. Мирное, ровное дыхание, серые глаза глядят на меня и, как утверждает медсестра, не видят, ведь я далеко, ведь между нами препятствие из плексигласа. Все подмечают, уверена я. Сын глянул мне в глаза, присмотрелся и понял, что все кончено. У меня больше ничего не получится. Не знаю, куда все подевалось. Но пришлось констатировать несомненный ошеломляющий голый факт: любви нет. Есть только благожелательный интерес и невыносимая щемящая жалость, то ли к сыну, то ли к себе самой.
Неделя за неделей шли впустую. Я научилась всему, что положено молодой матери. Персонал родильного отделения пожелал мне счастья, и меня выписали, я вернулась домой и, притаившись, стала ждать. Ждать мгновения, когда вернется любовь. В попытках поймать это мгновение я вбегала в детскую и заглядывала в кроватку, где безмятежно спал цветущий Гуго. По мере того как сын подрастал, в моей груди ширился ком бесчувствия. Я и не подозревала, что отсутствие любви сжимает сердце такой тоской, так давит и томит, вообще не подозревала, что подобное может быть. Я стала приглядываться к другим матерям. К тем, что толкали коляски со спящими, как у меня, или уже сидящими малышами, к тем, что медленно двигались рядом с трехколесными велосипедами, к тем, что со спортивными сумками едва поспевали за подросшими чадами. Я провожала их глазами как завороженная. Все они сохранили сокровище, которого я лишилась. Все-все. Строгие, снисходительные, ворчливые, слащавые. Я улавливала бесчисленные проявления материнской любви. В мимолетном взгляде, едва заметном движении, особой интонации. И ужасно страдала. Ни с кем не заговаривала об этом. Никто не заговаривал об этом со мной. Действительно, мой изъян неразличим.
Гуго рос. Стал играть своими пальчиками. Потом научился сидеть. Ползать на четвереньках. Стоять. Он никогда не болел. Смеялся. Целыми днями заливался смехом. Рано заговорил, причем не лепетал, а вещал, как заправский оратор. Расцвела и его красота. Ресницы стали еще длиннее и гуще. Глаза – еще больше. Кудри как у ангелочка. Ловкость и проворство. Когда мы с ним гуляли в парке, все матери мне завидовали. Не помню случая, чтобы он заплакал. Даже если падал и ушибался. Быстро заводил дружбу с детьми. Никогда не жадничал. Охотно делился ведерками и совочками. Всем улыбался. Занимал и успокаивал других крох, когда самому не было и пяти. Матери не прощали мне превосходства сына над их детьми. Они считали, что я слишком много им занимаюсь. Сын научился ездить верхом, управлять воздушным шаром, плавать, прыгать с вышки. Вместе мы путешествовали на лодке, готовили, рисовали по шелку, читали. Он стал чемпионом по боевому искусству капоэйре. А с отцом он не занимался ничем. Пристраивался у его ног, когда тот читал газету. Или сворачивался клубочком, клал голову ему на грудь и дремал. Я постепенно отвыкла следить, не встрепенется ли мое сердце. Я сдалась. Правда, иногда, подобно рапсоду, воспевающему деяния древности, повествовала себе самой о трех великих днях. С рождения сына до той проклятой пощечины. Возвращалась в прошлое и вспоминала. В памяти любовь отлично сохранилась. Я не могла почувствовать ее вновь, но мне по крайней мере удавалось вообразить, какой она была. Словно смотришь на давнюю фотографию. Где ешь персик на ярком летнем солнышке. Смотришь холодной зимой, персика нет и в помине, однако, сосредоточившись, восстанавливаешь вкус и то ощущение тепла, конечно, отдаленно, приблизительно, не по-настоящему. Словно рисуешь по трафарету. Попытка мучительная, ведь так хочется вернуться в тот летний день, шагнуть в иллюзорное пространство снимка, куснуть персик, погреться на солнце.
Моя тетя страдала диабетом. В старости ей пришлось ампутировать ногу до колена. Когда я навестила ее после операции, она сказала:
– Я шевелю ногой.
Само собой, я решила, что она говорит о здоровой ноге, и ответила:
– Отлично, тетя. Значит, вторая нога не затронута.
Она покачала головой:
– Ты не поняла. Я о той, другой. Ее нет, но я все еще шевелю ею.
Тетя помолчала, задумалась. А потом спросила:
– Где теперь, по-твоему, моя отрезанная нога? Они что, выбросили ее на помойку?
Ее взгляд потух. И теперь я все думаю, на какой помойке порыться, чтобы отыскать ампутированную любовь к сыну.








