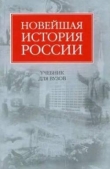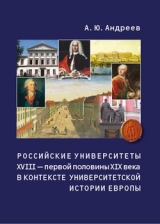
Текст книги "Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы"
Автор книги: Андрей Андреев
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Регламент не только констатировал и законодательно закреплял порядки, сложившиеся в Академии за четверть века ее существования, но и был призван заново переосмыслить соотношение ее «университетского» и «академического» начал. Ключевым новым решением, принятым в Регламенте, являлось разделение Академии наук «на Академию собственно и на Университет». Тем самым, подводилась черта под неудачными попытками реализовать идею петровского проекта 1724 г. о соединении в «одном здании» функций ученого общества и университета.
Если в проекте 1724 г. всячески подчеркивалось, что при наличии академиков «нет надобности особливые собрания сочинять» для университета, то Регламент 1747 г., напротив, предусматривал в Академическом университете именно «особливых профессоров». По утвержденному тогда же штату они занимали пять кафедр: элоквенции и стихотворства; логики, метафизики и нравоучительных наук; древностей и истории литеральной; математики и физики; истории политической и юриспруденции – помимо которых еще полагалась должность ректора университета, который одновременно исполнял обязанности историографа Академии.[536]536
Уставы Академии наук СССР. С. 58.
[Закрыть] При этом в Регламенте четко формулировалось, что «Университет учрежден быть должен по примеру прочих европейских университетов».[537]537
Там же. С. 50.
[Закрыть] Поэтому соотношение между «университетскими» и «академическими» функциями в Регламенте 1747 г. резко отличалось от петровского проекта: тот объединял их вопреки европейской традиции и на «пустом месте» пытался создать нечто небывалое, а Регламент, учась на ошибках предшественников, принимал за точку отчета существующие иностранные университеты, а потому предписывал перенести в Россию их традиционные атрибуты.
Соответственно, университет при Академии наук должен был получить собственный устав «по примеру европейских университетов», сочинение которого возлагалось на президента Академии. После его утверждения, как заранее оговаривалось Регламентом, университет приобрел бы и главное достоинство «законных» университетов в Европе – право производства своих членов в «академические градусы» (в Регламенте названы ученые степени и звания магистров, адъюнктов, профессоров и академиков)[538]538
Там же. С. 52.
[Закрыть]. Поскольку университет после принятия устава получил бы относительную независимость от Академии наук, то, возможно, в дальнейшем допускалось и его полное отделение и существование в качестве самостоятельного Петербургского университета.
Однако все эти намерения остались нереализованными. К сожалению, приходится констатировать, что учебная часть Академии наук и после принятия Регламента 1747 г. не получила прочной организации, главным образом, потому, что предусмотренный университетский устав так и не был принят. Заменяя его в 1750 г. временной инструкцией, президент Академии наук граф К. Г. Разумовский писал, что как «учащие, так и учащиеся поныне не находятся еще в таком состоянии, по которому бы можно было сделать совершенный университетский регламент».[539]539
Рождественский С. В. Указ. соч. С. 180.
[Закрыть] Действительно, хотя в университете предполагалось обучать и своекоштных, и казеннокоштных студентов, что открывало возможность создания полноценной студенческой корпорации, но на деле за весь период деятельности Академического университета в нем училось лишь небольшое количество студентов за казенный счет,[540]540
По штату 1747 г. полагалось 30 студентов с жалованием 100 руб. в год (Уставы Академии наук СССР. С. 58), но реальное количество студентов в 1747–1765 гг. не превышало одновременно 25 человек, а после ряда реорганизаций учебной части Академии наук после смерти М. В. Ломоносова это звание носили ученики старшего класса академической гимназии («элевы»), которых также было немного (История АН СССР. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 424). Е. С. Кулябко пишет, что «поступление вольных студентов на всем протяжении существования Академического университета было чрезвычайно незначительным» (Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. М.; Л., 1962. С. 66); впрочем, в приложенном ею же к работе словаре академических студентов не приведено ни одного такого случая.
[Закрыть] т. е. звание студента по-прежнему фактически являлось должностью, с которой юноши могли начинать восхождение по службе в Академии. Без принятия университетского устава наладить самостоятельное управление университетом, даже при наличии ректора, было трудно, а любые действия, направленные на создание отдельной университетской корпорации профессоров, казались ненужными, поскольку могли поставить профессоров в неравноправное по отношению к штатным академикам положение в тех условиях, когда сами профессора, наоборот, стремились добиться равенства с академиками в своем статусе и жаловании.[541]541
Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге. Т. 2. СПб., 1873. С. XLIII–XLIV. Действительно, по штату 1747 г. жалование академика составляло от 1000 до 1800 руб. в год, а профессора – лишь 660 руб. (Уставы Академии наук СССР. С. 57–58).
[Закрыть]
Попытками достичь реализации принципов организации Академического университета, заявленных в Регламенте 1747 г., была наполнена в 1750 – первой половине 1760-х гг. деятельность в Академии наук М. В. Ломоносова. Его позиция в этом вопросе основана на глубоком понимании задач и устройства европейских, прежде всего немецких протестантских университетов первой половины XVIII в., о которых Ломоносов получил полное и всестороннее представление в период своей учебы в Германии. На собственном опыте он убедился в возможности и необходимости усвоения Россией университетского образования и ратовал за создание отечественного университета не в сублимированном виде, а полноценно, в соответствии с теми образцами, которые встречал в немецком университетском пространстве.
Первую возможность высказать свои взгляды на развитие университетов в России Ломоносов получил уже вскоре после своего возвращения из Германии. В 1743 г., отвечая на вопрос созданной по делу И. Д. Шумахера следственной комиссии, есть ли в составе Академии Университет и «честные и славные науки происходят ли и процветают ли», Ломоносов отправил в комиссию «Нижайшее доказательство о том, что здесь при Академии Наук нет Университета». Оно сводилось к нескольким пунктам:
Всякий университет может считаться действующим с момента инаугурации, при которой «в публичном собрании, по благодарственной Божией службе, читается государева грамота и отдаются новоизбранному ректору надлежащие к университету признаки и привилегии о вольности с церемониями, а потом рассылаются по другим университетам о том печатные известия, чтобы оные новоучрежденный университет за университет почитали, а здесь при Академии наук, такой публичной инавгурации университета не было, и не токмо иностранные академии и университеты, но и здешние обыватели ни о каком Санкт-Петербургском университете не слыхали и не знают»; лекции при Академии наук не соответствуют полному университету, так как здесь не ведется преподавание богословия и юриспруденции; университетские лекции должны быть регулярными, и притом два раза в год, перед началом семестра, о них издаются публичные объявления (каталоги), «а здешние профессора лекции читать во всю свою бытность только два раза начинали, а так, как в университете обыкновенно, беспрерывно оных не продолжали»; при Академии не ведется реестра студентов («матрикул»), а при приеме в студенты не выдают никаких «печатных законов и правил» (вспомним, что именно такой вопрос в Академии уже поднимался в 1734 г., но решен не был); профессора никогда не выбирали здесь на каждый новый год своего ректора или проректора, как это положено университету; в Академии не проводились публичные диспуты между учащимися, «и тем самое главное дело и вольности и почти душу прямого Университета оставили и уничтожили, ибо молодые люди чрез диспуты ободряются и к наукам поощряются»;
7) после публичных диспутов и экзаменов учащиеся университетов должны получать ученые степени, «на что им даются грамоты за университетской печатью, а в здешней Академии ни российский, ни иностранный студент еще и поныне в докторы, лиценциаты или магистры не произведен и произведен быть не может, для того, что такого доктора, лиценциата или магистра в других университетах и Академиях признавать не будут».[542]542
Показания Ломоносова в составе следственного дела Шумахера по какой-то причине не сохранились. Список «Нижайшего доказательства» был впервые опубликован В. И. Ламанским еще в 1865 г. (ЧОИДР. 1865. Кн. 1. Отд. 2. С. 58), однако прямые доказательства авторства Ломоносова в его публикации отсутствовали, и в академическое издание «Полного собрания сочинений» (1950–1959) этот текст включен не был. Лишь в 1962 г. Е. С. Кулябко, сравнив «Нижайшее доказательство» с несколькими другими текстами Ломоносова по тому же вопросу и выявив дословные совпадения, окончательно разрешила вопрос о его авторстве (Кулябко Е. С. Указ. соч. С. 45–48).
[Закрыть]
Можно лишь согласиться с мнением историка, что «Нижайшее доказательство» является «безупречным по исторической справедливости документом».[543]543
Кулябко Е. С. Указ. соч. С. 43.
[Закрыть] Оно содержит стройную, логически обоснованную и законченную систему критериев, которые предъявлялись в середине XVIII в. к учебному заведению для того, чтобы оно могло заслужить название университета. Сравнивая эти критерии с состоянием учебной части Академии наук, Ломоносов приходил к весьма недвусмысленному выводу: «при здешней Академии наук не токмо настоящего университета не бывало, но еще ни образа, ни подобия университетского не видно». Удивительно поэтому, как в своем стремлении доказать существование Петербургского университета с 1724 г. Ю. Д. Марголис и Г. А. Тишкин, вынужденные давать оценку этим высказываниям Ломоносова, приписывают их «эмоциональности» русского ученого и говорят о его «гиперболах».[544]544
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу. Л., 1988. С. 63.
[Закрыть]
Однажды сформулировав свое видение университета, Ломоносов регулярно затем обращался к положению учебной части Академии наук, борясь за ее преобразование в полноправный университет. Так, в январе 1755 г., подавая мнение об улучшении состояния Академии, Ломоносов энергично доказывал необходимость существования настоящего университета в Петербурге, говоря: «Студенты числятся по университетам в других государствах не токмо стами, но и тысячами из разных городов и земель. Напротив здесь почти никого не бывает, ибо здешний университет не токмо действия, но и имени не имеет». Наполнение студентами было бы возможно, «когда бы здешнему университету учинено было торжественное учреждение, и на оном программою всему свету объявлены вольности и привилегии: в рассуждении профессоров, какую имеют честь, преимущество и власть, какие нужные науки преподавать и в какие градусы производить имеют; в рассуждении студентов, какие имеют увольнения, по каким должны поступать законам»[545]545
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. М.; Л., 1959. С. 20–21.
[Закрыть].
Почти те же мысли видны в «Записке о необходимости преобразования Академии наук», датируемой 1758 г., где Ломоносов характеризует положение дел в учебной части Академии за прошедшие со времени утверждения Регламента десять лет. «В университете, хотя по стату не доставало одного профессора математики и физики, однако не было в нем ни подобия университетского по примеру других государств, не было факультетов, ни ректора, по обычаю выборного повсягодно, не было студентов, ни лекций, ниже лекциям каталогов, ни диспуты, ниже формальные промоции в лиценциаты и в докторы, да и быть не могут, затем что Санкт-Петербургский университет и имени в Европе не имеет, которое обыкновенно торжественною инавгурациею во всем свете публикуется; и словом главного дела не было – университетского регламента».[546]546
Там же. Т. 10. С. 41.
[Закрыть]
Именно подготовкой этого регламента был занят Ломоносов во второй половине 1750-х гг., причем основывался он на аналогичных актах немецких университетов. В «Портфелях служебных бумаг Ломоносова» сохранились выписки из уставов университетов в Лейдене, Йене и Галле с его собственноручными пометками.[547]547
ПФА РАН. Ф. 20. Он. 1. Ед. хр. 2. Л. 318–323.
[Закрыть] Однако итоговый проект регламента Петербургского университета, написанный Ломоносовым, до сих пор не обнаружен (он, вероятно, утрачен вместе с многими личными бумагами после смерти ученого).[548]548
См.: Кулябко Е. С., Бешенковский Е. Б. Судьба библиотеки и архива М. В. Ломоносова. Л., 1975.
[Закрыть] Тем не менее, помимо набросков к нему, сохранились и несколько сопроводительных документов, из которых следует, что Ломоносов в полном соответствии со своей системой критериев хотел провести инаугурацию Петербургского университета и на ней обнародовать «университетские привилегии».
Представление об этом было направлено на имя императрицы Елизаветы Петровны 17 февраля 1760 г. в императорскую Конференцию за подписью графа К. Г. Разумовского (как президента Академии наук) и М. В. Ломоносова (как советника академической канцелярии). В нем указывалось, что «без привилегий, каковыми университеты в других государствах пользуются, природные российские и чужестранные самопроизвольно и без Вашего Императорского Величества жалования обучаться в Санкт-Петербургском университете не охотятся, и для такой причины не может оный придти в цветущее состояние, и нельзя чаять такой нашему отечеству пользы, каковую своим приносят иностранные».[549]549
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 9. М.; Л., 1955. С. 565–566.
[Закрыть] Однако утверждению этого документа и намеченной инаугурации Петербургского университета тогда, очевидно, помешали сперва продолжительная болезнь, а затем кончина императрицы.
Но и в новое царствование Екатерины II Ломоносов не оставлял надежды на подписание привилегий. Их последний проект он подготовил в конце 1764 – начале 1765 г., незадолго до собственной смерти. В этом проекте университетские взгляды ученого выразились наиболее развернуто; можно даже сказать, что в случае его утверждения Ломоносову удалось бы реализовать и все то, от чего в итоге пришлось отказаться в проекте Московского университета (см. ниже).
Цель издания университетских привилегий была сформулирована Ломоносовым от имени императрицы следующим образом: «Чтобы каждый и все обще ведали, чем и как могут пользоваться в сем ученом корпусе наши верные подданные и из других народов приезжающие для приобретения знания в науках, наипаче же дабы наше дворянство возымело особливую охоту и рачение к приобретению высоких наук, кои к благородству их умножат почтение и украшение, подадут вящее преимущество к отправлению дел государственных и большую способность к верной нам службе».[550]550
Там же. Т. 10. С. 161.
[Закрыть] Здесь, во-первых, бросается в глаза обращение к студентам не только из российского государства, но и из других стран, а в конце текста привилегий звучит призыв приезжать на учебу юношам «из всех народов», и обращается особое внимание на то, чтобы дворяне «завоеванных провинций» (т. е. Эстляндии и Лифляндии) посылали бы детей не только в иностранные университеты, но и в Петербург. Тем самым, вполне в согласии с мыслями Ломоносова, инаугурация Петербургского университета должна получить общеевропейское звучание, а сам он – в дальнейшем войти на равных в университетское пространство северной Европы. Во-вторых, одной из задач университета поставлено приобщение дворянства к «высоким наукам», т. е. воспитание нового слоя образованных государственных служащих, к чему стремились все просвещенные европейские монархи того времени.
Если цели учреждения университета были изложены Ломоносовым с позиций просвещенного абсолютизма, то конкретные университетские права носили традиционный средневековый характер (как это, впрочем, было и в основываемых просвещенными монархами новых немецких университетах, например Гёттингенском). Петербургский университет согласно привилегиям получал собственный суд, рассматривавший все тяжбы, кроме важных уголовных дел, члены университета освобождались от налогов, их дома – от постоев и полицейских должностей. Университету жаловалась земельная собственность (мыза в Копорском уезде) «в вечное владение со всеми к ней принадлежащими землями и угодьями на всех правах и преимуществах, каковы дозволены нашему дворянству над жалованными им вотчинами в вечное и потомственное владение».[551]551
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 162.
[Закрыть]
Центральное место среди привилегий Петербургского университета Ломоносов отводил праву «производить в ученые градусы по примеру европейскому: в юридическом и медицинском факультете – в лиценциаты и в докторы, а в философском – в магистры и в докторы».[552]552
Там же. С. 163.
[Закрыть] Получение ученых званий для соискателей должно было стать бесплатным (в отличие от западной практики внесения в университетскую казну немалого взноса) и приспособленным к условиям России тем, что одновременно со степенями ученые получали чины по Табели о рангах, «хотя кто из них и не был еще в нашей службе действительно», причем степени лиценциата и магистра соответствовали чину поручика (12 класс), а степень доктора – чину капитана (9 класс). Аттестат университета также должен был давать преимущества при производстве в первый офицерский ранг на военной службе, причем годы учения засчитывали» в выслугу лет. На статской службе разночинец с университетским дипломом получал такие же права при производстве в чины, как и дворянин, не имевший этого диплома.
Нельзя не увидеть, что в этой части проекта привилегий Ломоносов на полвека предвосхитил систему соответствий между учеными степенями и классными чинами, установленную в России в 1803 г. Предварительными правилами народного просвещения, и на три четверти столетия – идеи о связи между уровнем образования и скоростью чинопроизводства, воплотившиеся на практике лишь в 1834 г. с принятием «Устава о службе гражданской».
Предвидение Ломоносова, конечно, далеко не случайно и объясняется тем, что им оказались затронуты действительно важные проблемы: как связать развитие университетского образования в России, подготовку собственных ученых со всеобъемлющей категорией чина, пронизывавшей жизнь российского общества в XVIII–XIX вв. Как упоминалось, проблема ученых чинов впервые возникла в 1720-е гг. с приездом в Академию наук первых членов – профессоров немецких университетов, привыкших у себя на родине к достаточно высокому статусу в обществе и не желавших мириться с тем пренебрежительным отношением к себе, с которым они сталкивались в России. Еще более актуальной эта проблема стала в середине XVIII в. в связи выходом на смену немцам поколения отечественных ученых, одним из которых и был Ломоносов и которым также приходилось бороться за достойное место в обществе. В этой борьбе Ломоносов, с одной стороны, опирался на традиционное корпоративное понимание немецкого университета, но с другой – решал проблемы «модернизации», т. е. искал способы встроить его в государственную систему Российской империи, соединить государственную службу и членство в университетской корпорации, получение от нее ученых степеней. Забегая вперед, заметим, что эта задача оставалась насущной в течение всей второй половины XVIII в., что демонстрировали создававшиеся тогда в России университетские проекты, и была решена только в ходе университетских реформ начала XIX в.
Пока же проект привилегий 1764—65 гг. явился последней попыткой открыть Академический университет на принципах Регламента 1747 г. После смерти Ломоносова эти попытки более не повторялись, а после 1766 г. Академический университет фактически прекратил свое существование.[553]553
Левшин Б. В. Академический университет в Санкт-Петербурге: Историческая справка// Отечественная история. 1998. № 5. С. 79.
[Закрыть] Однако идеи Ломоносова о создании в России полноценного университета по европейским образцам воплотились, хотя и не до конца, при организации Московского университета, о которой пойдет речь дальше в этой главе. Но прежде чем обратиться к анализу этого события, ставшего решающим в судьбе университетской идеи в России, необходимо осветить важнейшую страницу «модернизации» университетов в эпоху Просвещения – создание Гёттингенского университета, занявшего место одного из главных образцов, на который затем ориентировались последующие основания университетов в Европе второй половины XVIII в.
Вершина «модернизации»: Гёттинген
В середине XVIII в. немецкий университет, несмотря на господствующий в его системе глубокий кризис, получил мощный поступательный импульс развития. Идеалы Просвещения и университетские традиции соединились при создании Гёттингенского университета, основание и последующее развитие которого показало пример успешной «модернизации» университета как реформы сверху, проведенной государством с целью повышения эффективности преподавания, дисциплины студентов, облагораживания университетского быта и, в конечном счете, укрепления его авторитета в глазах общества.
Такой результат был достигнут благодаря сочетанию ряда благоприятных для университета условий, определявших политику ганноверских курфюрстов в данную эпоху. Немаловажным для успеха «модернизации» являлось то, что в Гёттингене университет возник как новое основание, от начала и до конца подготовленное государством, а потому над ним не довлел груз интриг и запутанных отношений внутри корпорации. В то же время надо отметить и переходный характер Гёттингена в университетской истории: предвосхитив в своем облике многие черты, которые станут характерными для «классического» университета, он в то же время в своей внутренней организации еще в значительной мере являлся слепком с прежнего «доклассического» университета с его особыми правами и привилегиями, так сказать «наливая новое вино в старые мехи». Тем удивительнее столь длительный и мощный успех, тем большей похвалы достойны основатели Гёттингенского университета и поколения профессоров, поддерживавших его добрую славу.
По сути, Гёттинген явился единственным благополучным и долгосрочным основанием университета в немецких землях XVIII в. (епископские университеты в Фульде (1734), Бонне (1777) и Мюнстере (1780), на облик которых также повлияла эпоха Просвещения, не просуществовали долго,[554]554
См.: Hammerstein N. Aufklärung und katholisches Reich. Untersuchungen zur Universitätsreform und Politik katholischer Territorien des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation im 18. Jahrhundert. Berlin, 1977.
[Закрыть] не смог добиться большой известности и созданный маркграфами Анспах-Байройт лютеранский университет в Эрлангене (1743)). Поэтому Гёттинген может служить примером того, как, вообще, должен открываться новый университет в XVIII в., какие этапы проходит его учреждение.
Первым шагом здесь послужило получение привилегии от императора Карла VI Габсбурга, подписанной 13 января 1733 г. Казалось бы, в середине XVIII в., когда император распоряжался в Священной Римской империи лишь незначительной долей прежней власти, а каждое княжество проводило самостоятельную политику, такая привилегия представлялась анахронизмом. И тем не менее, в этом, во-первых, проявилась сила традиции – ни один немецкий университет до того еще не открывался без привилегии (папской, императорской, или и той и другой), а во-вторых, присутствовал практический смысл, обеспечивая заканчивающим университет признание их ученых степеней по всей империи и возможность поступать на соответствующие служебные должности. Поэтому об издании императорской привилегии для нового университета особо ходатайствовал посланник ганноверского курфюрста при венском дворе и даже опасался противодействия со стороны соседних государств (Пруссии, Гессена и Брауншвейга), но все прошло благополучно, не в последнюю очередь потому, что за полученную привилегию заплатили изрядную сумму в 4000 талеров.[555]555
Die Privilegien und ältesten Statuten der Georg-August-Universität zu Göttingen / Hrsg. von W. Ebel. Göttingen, 1961. S. 8.
[Закрыть]
По своей форме и содержанию документ повторял предыдущую императорскую привилегию, изданную для университета в Галле, и, подобно той, даровал университетские права в их традиционном средневековом виде. Преподаватели и студенты университета должны пользоваться «всеми обычными свободами, почестями, освобождением от налогов, которые предоставлены другим немецким университетам».[556]556
Ibid. S. 16.
[Закрыть] Университет получал право возводить в ученые степени бакалавра, магистра, лиценциата и доктора, признаваемые на всей территории Священной Римской империи. Внутреннее устройство корпорации привилегия определяла в самом общем виде, оставляя остальное на усмотрение основателя университета – курфюрста. Членам университета дарованы права составлять уставы и выбирать ректора. Последний наделялся всеми средневековыми правами пфальцграфа, о которых шла речь в первой главе, как-то: назначать судей, выдавать законные свидетельства внебрачным детям, признавать юношей совершеннолетними, отпускать «рабов на свободу» (servos manumittere, имелось в виду средневековое право освобождения сервов от феодальных повинностей) и даже «короновать поэтов» – ритуал, который перестал использоваться в университетах еще в XVI в.[557]557
Ibid. S. 20–22.
[Закрыть]
Императорская привилегия заканчивалась упоминанием наказаний за ее нарушение, которые заключались в штрафе размером в 50 марок чистого золота, половина из которых уплачивалась в имперскую казну, а половина – ганноверскому курфюрсту.
В контексте всего учредительного процесса получение привилегии от императора еще не означало немедленного открытия университета. С точки зрения имперского права, тем самым, была лишь получена высочайшая санкция на основание университета в Гёттингене. Поэтому в последующие несколько лет при дворе курфюрста продолжалась подготовительная работа, разрешались финансовые вопросы, обеспечивались необходимые помещения, шло приглашение профессоров. Но как, вообще, здесь возникла идея основать университет?
По одному из преданий, предложение открыть университет восходит к служившему при ганноверском дворе Г. В. Лейбницу, который якобы составил проект для курфюрста Георга Людвига (отца курфюрста Георга Августа, фактического основателя университета). Текст этого проекта не сохранился, и, зная взгляды Лейбница на университет, проанализированные выше, можно, вообще, сомневаться, что он существовал. Тем не менее сама идея университетского основания носилась в воздухе после того, как в 1692 г. представители династии Вельфов, герцоги Брауншвейг-Каленберг (впоследствии Брауншвейг-Люнебург, резиденцией которых с 1636 г. являлся Ганновер) получили достоинство курфюрстов, а в 1714 г. Георг Людвиг взошел на английский престол под именем короля Георга I.
К этому времени все немецкие курфюрсты имели в своих владениях университет, а зачастую и не один. Однако открытый домом Вельфов университет в Гельмштедте оказался в руках герцогов Брауншвейг-Вольфенбюттель, соперников ганноверских курфюрстов. Поэтому и соображения престижа, и уже часто упоминавшиеся финансовые расчеты, что университет привлечет в государство иностранцев и, наоборот, даст возможность ганноверским подданным учиться, не покидая родину, подталкивали князей в пользу собственного университета. К тому же после получения курфюрстами английского трона материальные ресурсы, способные обеспечить основание университета, значительно расширились. Было найдено и подходящее место для размещения университета – Гёттинген, небольшой городок в окружении лесистых холмов, место отдыха ганноверских правителей, в котором уже существовала гимназия, занимавшая помещения бывшего доминиканского монастыря (Paulinerkloster), превращенные в первые лекционные залы. Гёттинген также обладал выгодным географическим положением в центре немецких земель, на перекрестках нескольких важных дорог, что могло привлечь студентов с разных концов Германии.
Но одним из главных факторов, способствовавших успешному ходу процесса, стало появление при ганноверском дворе человека, который в подлинном смысле слова выступил основателем Гёттингенского университета. Это был барон Герлах Адольф фон Мюнхгаузен (1688–1770), один из придворных министров, принявший должность куратора университета.[558]558
См.: Buff W. Gerlach Adolph von Münchhausen als Gründer der Universität Göttingen. Göttingen, 1937. Надо заметить, что уже после смерти основателя университета, в 1786 г. в Гёттингене вышла книга немецкого романтика Г. А. Бюргера, увековечившая похождения другого представителя этой ганноверской фамилии, барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, ставшего одним из самых знаменитых литературных героев Нового времени.
[Закрыть] Юрист по образованию, Мюнхгаузен в 1720-х гг. учился в Галле у X. Томазиуса и его единомышленников, и это обстоятельство создавало «мостик» между первым и вторым немецким университетом эпохи Просвещения (позже подобным же образом, благодаря В. фон Гумбольдту, образуется преемственность между Гёттингеном и Берлином).
Именно Мюнхгаузену удалось за короткое время завершить подготовку к открытию университета. При этом огромную роль он придавал сознательному отбору профессоров, лучше многих понимая пороки корпоративного строя и необходимость духа терпимости и свободы для ученых. Свидетель изгнания Вольфа из Галле, Мюнхгаузен всячески стремился не допустить саму возможность повторения подобного в Гёттингене. Поэтому он искал в приглашаемых профессорах прежде всего «сдержанность и миролюбие» (Moderation und Friedfertigkeit)[559]559
Boockmann H. Op. cit. S. 176.
[Закрыть] и одновременно выстраивал при сохранении внешних атрибутов корпорации систему прямого управления университетом со стороны государства так, чтобы блокировать любые проявления «цехового» сознания. Мюнхгаузен впервые четко высказал мысль, что именно государству надлежит определять, в чем состоят обязанности и нормы поведения профессоров с точки зрения общей пользы их служения науке. «Если они (профессора) этого не хотят понять, то им нужно объяснить сверху», – такие слова звучали в одном из писем Мюнхгаузена[560]560
Schelsky H. Op. cit. S. 270.
[Закрыть]. С изменением духа профессорской корпорации, по мнению куратора, будет связано и повышение дисциплины студентов, но не через угрозы и наказания, а через привлечение юношества к глубоким научным занятиям.
Принципы, заложенные Мюнхгаузеном, нашли отражение в последующих документах, сопровождавших учреждение университета. Осенью 1734 г. началась запись студентов, и с октября того же года по указу курфюрста разрешено было открыть преподавание: на первых лекциях профессоров присутствовало уже более 100 человек. Тогда же в качестве внутреннего регламента была выпущена временная инструкция, в основных чертах соответствовавшая будущему окончательному тексту университетского устава[561]561
Gundelach Е. Die Verfassung der Göttinger Universität in drei Jahrhunderten. Göttingen, 1955. S. 7
[Закрыть]. Уже в этой инструкции обращает на себя внимание, что компетенции назначаемого в качестве главы университета королевского комиссара (пост, равный последующему проректору) и Совета университета ограничены научной областью, приемом студентов и соблюдением университетских законов; на хозяйственные же дела они имели очень малое влияние, оставляя их решению Тайного совета в Ганновере. Сам Мюнхгаузен брал на себя бесчисленные распоряжения и заботы по оборудованию университета, вплоть до доставки часов в аудиторные помещения или организации вечернего освещения близлежащих улиц.
7 декабря 1736 г. королем Великобритании и курфюрстом Брауншвейг-Люнебург Георгом II (Георгом Августом) была издана еще одна привилегия университету и одновременно подписаны его общий устав и уставы каждого из факультетов. Тем самым, был сделан второй по важности шаг в учредительном процессе. Завершающим же шагом послужила прошедшая 17 сентября 1737 г. инаугурация университета. Этот праздник, с помощью которого новый университет торжественно объявил о себе остальному ученому миру, прошел с большой помпой и роскошью (были отчеканены памятные монеты, помимо речей профессоров на празднике была исполнена кантата, написанная известным немецким композитором Телеманом специально к инаугурации, и т. д.). Отчеты современников об этом празднике были напечатаны во многих брошюрах и периодических изданиях[562]562
von Seele G. Die Georg-August-Universitдt zu Göttingen (1737—1937). Göttingen, 1937. S. 60.
[Закрыть]. По имени своего основателя новый университет принял название Georgia-Augusta.
Если императорская привилегия, как уже говорилось, носила характер разрешения, то привилегия короля Георга II служила в собственном смысле указом об основании университета, устанавливая подробно всю его внутреннюю и внешнюю организацию. Она, прежде всего, подтверждала и уточняла права профессоров и преподавателей университета. Они получали «сейчас и на будущие времена полную и неограниченную свободу преподавать публично или частным образом».[563]563
Die Privilegien… S. 29.
[Закрыть] В уставах факультетов эта свобода расшифровывалась как право профессоров выбирать для своих лекций любые книги и руководства, какие сочтут нужными. Данное право (знаменитая свобода преподавания – нем. Lehrfreiheit) впервые было закреплено в университетском законодательстве, отвечая столь высоко ценимым Мюнхгаузеном принципам толерантности и взаимоуважения ученых. Понятно, что ее утверждение было значительным расширением появившегося в Галле понятия «веротерпимости» в университете.
Этому отвечало и еще одно новшество, отмеченное в привилегии – полное освобождение произведений профессоров от цензуры.[564]564
Die Privilegien… S. 33.
[Закрыть] Богословский факультет, таким образом, не получал никаких рычагов воздействия, чтобы проводить те или иные конфессиональные взгляды в университете. Его положение в Гёттингене оказалось полностью уравненным с другими факультетами, а самым влиятельным из них, как будет видно, сделался философский факультет. Благодаря этому Гёттингенский университет приобрел в полной мере светский характер. Историки усматривают в этом хоть и не прямое, и не вполне осознанное (политические связи между Великобританией и Ганновером были довольно слабыми), но все-таки воздействие английского светского либерализма, public spirit.[565]565
Vierhaus R. Die modernste Universität im Zeitalter der Aufklärung // Stätten des Geistes. Grosse Universitäten Europas von der Antike bis zur Gegenwart / Hrsg. von A. Demandt. Köln; Weimar; Wien, 1999. S. 247.
[Закрыть]