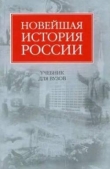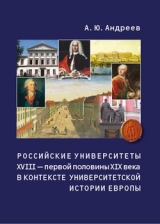
Текст книги "Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы"
Автор книги: Андрей Андреев
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Однако и теперь профессор вновь уклонился от немедленного согласия ехать в Россию. Не отвергая в принципе такую возможность, он сперва сообщал петербургским корреспондентам (и, в конечном итоге, ожидавшему его Петру I), об удерживающих его на месте трудностях и, наконец, после трехлетней переписки, объявил, что хотел бы «заботиться о развитии наук в России из Германии».[493]493
Mühlpfordt G. Op. cit. S. 185—186.
[Закрыть] Среди причин повторного отказа Вольфа от вступления на русскую службу обычно называют семейные обстоятельства (болезнь жены), вопросы престижа (Вольфа могла не удовлетворять должность вице-президента Академии при том, что президентом становился бы его ученик, многими годами младший учителя, Л. Л. Блюментрост).
Но были и более фундаментальные причины, имеющие прямое отношение к исследуемому нами вопросу о восприятии основания Академии наук в среде немецких университетов. Прежде всего, Вольф не мог разобраться в сути того учреждения, которое создается в Петербурге, и, следовательно, не был в состоянии точно очертить круг своей будущей деятельности. Из переписки видно, что он не представлял себе соединения академии и университета в едином целом, но скорее, подобно Лейбницу, противопоставлял их. Фактически такое противопоставление поддерживал и Шумахер, когда писал Вольфу, что вначале тот вступит в должность вице-президента Академии наук, а «если затем – в чем я не сомневаюсь – будет учрежден и университет, и Вам будет угодно взять на себя туже должность, которую Вы теперь занимаете (т. е. должность проректора — А. А.), то Его Императорское Величество будет еще более рад».[494]494
Wolff Ch. Briefe… S. 165.
[Закрыть] Тем самым, в данном письме Шумахера, приглашавшем Вольфа в Россию, основание университета в Петербурге четко отделялось от открытия Академии наук; более того, оно должно было состояться позже (и притом с некоторым оттенком сомнения).
С другой стороны, понятно, что как раз университетская деятельность имела приоритетный характер для Вольфа, который и мыслил себя именно как университетский ученый. Неоднократно отмечалось, что его научные рассуждения рассчитаны на восприятие аудитории слушателей, что он сам был лектором-виртуозом, не представлявшим себя вне постоянного, живого общения со студентами, которое давали ему немецкие университеты, но, очевидно, не мог предоставить Петербург начала XVIII в.[495]495
Grau C. Petrinische kulturpolitische Bestrebungen und ihr Einfluβ auf die Gestaltung der deutsch-russischen wissenschaftlichen Beziehungen im ersten Drittel des 18.ten Jahrhunderte. Habilitationschrift. Berlin, 1966 (ротапринт, экземпляр хранится в библиотеке Гумбольдтовского университета в Берлине). S. 230.
[Закрыть] Шумахер, несомненно, это знал и именно поэтому, чтобы сделать переезд привлекательным, обещал Вольфу аналогичные возможности в России: возглавить новый университет, преподавать в нем те же предметы, что и в Галле, но – во вторую очередь, после основания Академии наук! Вольф же, наоборот, предлагал поменять эти события местами. В письме к Блюментросту из Галле от 26 июня 1723 г., единственный раз в ходе всей переписки, он осмелился напрямую вмешаться в суть проекта основания Петербургской Академии, что само по себе говорило о важности для него этого вопроса. В достаточно почтительных выражениях он высказывал убеждение, что «для страны полезнее было бы, если вместо Академии наук учреждены были бы университеты», поскольку «если за дело приняться с Академии наук, то не пойдет ли после того, как в Берлине, где имя Академии в мире знакомо, но ничего большего от нее не заметно». Если же будут основаны университеты, то через несколько лет в стране расцветет и Академия наук.[496]496
Wolff Ch. Op. cit. S. 19–20.
[Закрыть]
Как представитель той части немецкой университетской среды, которая видела возможности развития науки внутри университетов и, тем самым, в перспективе обеспечивала их поступательное развитие в XVIII в., Вольф не мог одобрить второстепенное положение, которое отводилось «университетскому началу» в проекте Петербургской Академии. Но Блюментрост даже не счел нужным что-либо ответить на рассуждения Вольфа, и это также было весьма красноречиво, подтверждая опасения ученого о том, что переезд в Петербург прекратит его университетскую карьеру.
Поэтому даже в последовавшие затем наиболее трудные в жизни Вольфа дни в ноябре 1723 г., когда он был изгнан из Пруссии, профессор не решился отправиться в Россию, где его давно ждали, но перешел в Марбургский университет. Шумахер с нескрываемым раздражением записал в мае 1724 г. в журнале Академии наук объяснения Вольфа, что «оного де требовала слава его и ныне де слава его не требует его (Марбурга — А. А.) вскоре оставить» – тем самым, Вольф фактически открыто признавался, что поступление в Петербургскую Академию наук не соответствовало бы «славе» и карьерным устремлениям немецкого ученого.[497]497
Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1. С. 44. Следует еще отметить, что, покидая Галле, Вольф (в письме от 1 марта 1724 г.) высказал опасения, что те же пиетисты, которые очернили его в глазах прусского короля, попытаются выставить его еретиком и в России (основания к этому давало существование связей между А. Г. Франке и Феофаном Прокоповичем). В ответ (5 мая 1724 г.) Шумахер предпринял последнюю попытку склонить Вольфа к приезду в Петербург, написав о том, каким высоким уважением он пользуется у всех при дворе, где его чтит духовенство и особенно преосвященный Феофан – см.: Wolff Ch. Op. cit. S. 22; Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1. С. 40.
[Закрыть] Справедливости ради, скажем, что Вольфа приглашали не только в Россию, но и в другие страны, например в Данию, и столь же безуспешно. Заметим также, что после окончательного отказа Вольфа (пришедшего в письме, полученном в России в декабре 1724 г.) тема открытия университета в Петербурге в переписке с ним больше никогда не всплывала, как будто ее обсуждение прежде было лишь частью уговоров Вольфа со стороны его российских корреспондентов.
Как решится «университетский вопрос» в ходе основания Петербургской Академии, оказывалось важным не только для Вольфа, но и для других немецких профессоров, что демонстрирует пример еще одного ученого, общение с которым в середине 1720-х гг. в Петербурге ставили, пожалуй, на второе место после переписки с философом из Галле. Речь идет об Иоганне Буркхарде Менке (1675–1732), друге X. Вольфа, с 1699 г. – профессоре всеобщей истории Лейпцигского университета. Долгие годы Менке поддерживал связи с Россией через воспитателя царевича Алексея барона Г. фон Гюйссена, живо интересовался петровскими преобразованиями: в частности, в 1708 г. ему были высланы первые русские книги, напечатанные «гражданским шрифтом». В 1723 г. Менке предлагал России купить его собранную за несколько десятилетий библиотеку.[498]498
Grau С. Op. cit. S. 214.
[Закрыть] В Лейпциге профессором издавалась газета «Neue Zeitungen für Gelehrten Sachen», в которой освещались вопросы научной жизни Европы. Неудивительно поэтому, что именно к нему обратился Л. Л. Блюментрост, желая ознакомить европейский ученый мир с проектом Петербургской Академии наук.
В феврале 1724 г., спустя всего несколько дней после подписания «генерального проекта об Академии наук и художеств» сделанный на основе его текста «экстракт» был отправлен из Петербурга к И. Б. Менке, а также профессору Лейденского университета Г. Бургаве и некоторым русским посланникам при европейских дворах.[499]499
Копелевич Ю. X. Указ. соч. С. 68. «Краткий экстракт», датированный 10 февраля 1724, см.: ПФА РАН. Ф. 1. Он. 3. Ед. хр. 2. Л. 177–178.
[Закрыть] 17 и 27 апреля 1724 г. в лейпцигской газете Менке появились две заметки, посвященные открытию Петербургской Академии[500]500
Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen. 1724. № 31. S. 311—312.
[Закрыть]. Эта публикация, действительно, послужила сигналом к началу потока запросов в Петербург, где немецкие ученые, желавшие поступить в Академию, хотели уточнить предлагаемые условия.[501]501
Tetzner ]. Die Leipziger Neuen Zeitungen von Gelehrten Sachen über die Anfänge der Peterburger Akademie // Zeitschrift für Slavistik. 1956. В. 1. H. 2. S. 93—120.
[Закрыть]
«Экстракт» не смог дать им ясного представления о сути проекта, в действительности внутренне противоречивого. «Академию или университет открывают в России? в Москве или в Петербурге?» – спрашивали немецкие ученые.[502]502
Копелевич Ю. X. Указ. соч. С. 71.
[Закрыть] Одним из первых, 19 апреля 1724 г. письмо в Петербург отправил сам Менке. Среди прочих уточнений (об условиях жизни, оплаты, путевых издержках и т. д.) на первое место он поставил вопрос: «Привилегированный ли Университет император намерился восстановить, где градусы даются и особливые факультеты чинятся?»[503]503
Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1. С. 39. Ср.: ПФА РАН . Ф. 1. Оп. 3. Ед. хр. 8. Л. 245—246.
[Закрыть]
В этом вопросе сконцентрировались уже не раз обсуждавшиеся основные черты европейского университета в «доклассическую» эпоху. По сути, Менке и хотел разобраться, будет ли в Петербурге основан университет, а потому спрашивал: 1) даны ли ему привилегии («академическая свобода»); 2) дано ли право присваивать ученые степени («градусы»); 3) присутствует ли корпоративная организация в смысле деления на факультеты. Понятно, что на все эти три части его вопроса следовало ответить отрицательно, что и было сделано: 23 августа 1724 г. Блюментрост написал Менке, что «еще за недостатком студентов не намеренось (sic!) Университет восстановить, но токмо собрание ученых, которые бы в науках про себя обращались и по малу юных обучали».[504]504
Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1. С. 52.
[Закрыть]
Итак, в середине 1724 г. забвение «университетского начала» в рамках проекта Петербургской Академии наук обозначилось достаточно четко. Л. Л. Блюментрост решал в это время именно задачу создания ученого общества, для чего обратился к поиску подходящих кандидатур, в первую очередь в среде немецких университетов. Главными его помощниками здесь выступили Вольф и Менке. Надо сразу сказать, что деятельность Блюментроста по организации Академии наук завершилась полным успехом, и ей не помешала даже последовавшая в январе 1725 г. смерть Петра I. Блюментрост смог довести до конца первый набор ученых в Академию и обеспечить ей необходимую поддержку при дворе Екатерины I, а затем провел торжественное открытие Академии 27 декабря 1725 г. К этому моменту он уже месяц как был утвержден в должности президента Академии наук, чем была закономерно отмечена его огромная роль в ее организации.[505]505
См. подробнее: Копелевич Ю. X. Лаврентий Блюментрост и вопрос об обязанностях академиков // Вопросы истории естествознания и техники (ВИЕТ). 1993. № 2. С. 112–114.
[Закрыть] «Хотя Академия, – писал Блюментрост Вольфу 4 декабря 1725 г., – могла бы иметь более славного и ученого президента, однако не знаю, нашла ли бы она более усердного, который бы с такой ревностью, как я, хлопотал о ее благосостоянии».[506]506
Wolff Ch. Op. cit. S. 194.
[Закрыть]
Состав Петербургской Академии наук во многом получился определенным срезом пространства немецких университетов начала XVIII в., а благодаря приезду их представителей в Россию русско-немецкие университетские контакты продолжали развиваться в последующем. В первый состав Академии, сложившийся в Петербурге к середине 1726 г.,[507]507
О складывании первого состава Академии наук — Копелевич Ю. X. Основание Петербургской Академии наук. С. 91–97.
[Закрыть] вошло 14 ученых, занявших должности академиков. Из них 12 человек учились и получили ученые степени в немецких университетах, и всего лишь двое – братья И. Н. Делиль и Л. Делиль де ля Кройер – начали ученую карьеру при Парижской Академии наук. В этом смысле надо заметить, что хотя именно последняя, как подчеркивалось в проекте, послужила основным образцом при создании Академии наук в Петербурге, но ее конкретное наполнение, напротив, черпалось из немецких университетов, представлявших во многом противоположную по формам организации ученую среду.
Действительно, приехавшие немцы еще не могли быть связаны с «модернизированными» университетами, первый из которых в Галле только начал развиваться, а потому пока не давал своих питомцев для других школ. Единственным выходцем из Галле в составе Академии наук был И. X. Буксбаум (ученик авторитетнейшего профессора-медика Ф. Гофмана, одного из учителей Л. Л. Блюментроста), однако его приняли туда в силу того, что уже с 1721 г. он служил в Петербурге в качестве ботаника при Медицинской канцелярии. Большинство же академиков, специально приглашенных из Германии, представляли старые немецкие университеты с глубоко укорененным средневековым корпоративным строем. При этом по два человека прибыли в Петербург из Тюбингенского (Г. Б. Бильфингер,[508]508
Ibid. S. 24. Подробнее о научном творчестве Бильфингера и его роли в России см.: Liebling H. G. B. Bilfinger. Tübingen, 1961; Geyer D. Vom Weltbezug zur Tübinger Provinz: Bilfinger in Petersburg // Literatur in der Demokratie: W. Jens zum 60. Geburtstag. Tübingen, 1983. S. 285—293; Панибратцев А. В. Академик Бильфингер и становление профессионального философского образования в России // Христиан Вольф и философия в России. СПб., 2001. С. 210—224.
[Закрыть] И. Г. Дювернуа) и из Кёнигсбергского (И. С. Бекенштейн, Г. 3. Байер) университетов, а по одному из университетов Франкфурта на Одере (Я. Герман) и Виттенберга (X. Мартини). Остальные в университетах еще не преподавали, но искали там мест (для этой цели X. Гольдбах оказался в Кёнигсберге, а выпускники Базельского университета братья Бернулли находились: Даниил – в Падуе, а Николай – в Берне), наконец, еще двое жили в непосредственной близости от университетов и состояли с ними в научной переписке (И. Г. Лейтман – с Виттенбергским, а И. П. Коль – с Лейпцигским).[509]509
См. жизнеописания первых академиков в кн.: Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870.
[Закрыть] Некоторые из названных профессоров привезли с собой в Россию молодых ученых – магистров их университетов (всего – 8 человек), которые и были зачислены на первые академические «должности» студентов. Двое из них (ученики Бильфингера – Ф. X. Мейер, X. Ф. Гросс из Тюбингена) почти сразу же в 1725 г. были переведены на должности экстраординарных профессоров, а другие на рубеже 1720—30-х гг. по мере освобождения вакансий перешли на места академиков (И. Г. Гмелин, Г. Ф. Крафт, И. Вейтбрехт из Тюбингена, Л. Эйлер из Базеля, Г. Ф. Миллер из Лейпцига). Интересно, что все без исключения названные немецкие университеты, откуда приезжали ученые в Петербургскую Академию наук, принадлежали протестантским конфессиям (преимущественно были лютеранскими), что наглядно демонстрирует уже отмеченный выше перенос университетских связей России из католической на протестантскую часть Европы.
Механизм, благодаря которому именно эти университеты оказались выбранными в качестве источника для приглашений академиков, заключался в следовании рекомендациям немецких ученых, уже завоевавших авторитет в Петербурге. Неудивительно, что большинство членов Академии наук, работавших в Петербурге во второй половине 1720-х гг., так или иначе оказались связаны с X. Вольфом. Помимо него, советы и рекомендации по приглашению академиков Блюментрост спрашивал также и у другого своего учителя, профессора Лейденского университета Г. Бургаве, но тот не предложил никаких кандидатур, напротив, высказав сомнения в возможности создания Академии с таким широким составом[510]510
Копелевич Ю. Х. Указ. соч. С. 71.
[Закрыть]. Наконец, обращался Блюментрост с просьбой о помощи в выборе ученых и в Лейпциг, к И. Б. Менке. Однако быстро выявилась и разница в отношении к процессу приглашения у Менке по сравнению с Вольфом: секретарь графа Головкина Берндиц писал из Берлина в конце ноября 1724 г., что если Вольф «сей корпус яко малую простую академию почитает», то Менке «почитает больше оный яко малый университет» и поэтому не так тщателен в рекомендациях и подбирает ученых «не первого ранга».[511]511
ПФА РАН Ф. 1. Оп. 3. Ед. хр. 8. Л. 201; ср.: Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1885. С. 68.
[Закрыть] Именно поэтому из большого количества кандидатур, названных Менке, в итоге был приглашен лишь специалист по церковной истории И. П. Коль (взявший с собой в Россию в качестве студента Г. Ф. Миллера[512]512
Илизаров С. С. Г. Ф. Миллер (1705–1783). М.,2005. С. 16–18.
[Закрыть]). Как видно, «университетские начала» Академии здесь вновь противопоставлены «академическому» содержанию: из цитированного письма следует, что простые «университетские» критерии для подбора ее состава не достаточны, а нужно так, как это делал Вольф, заботиться о призыве «блистательных ученых» и руководствоваться критериями «социетета наук», т. е. уровнем подготовки и результатами научной работы приглашаемых.
Нельзя не отметить того, что переговоры с многими будущими академиками протекали трудно и они сомневались в успехе и прочности задуманного предприятия. Далеко не всех сразу прельщала перспектива отправиться в далекую и неведомую Московию, даже за изрядное жалование. Так, перед отъездом в Россию историка Г. Ф. Миллера его отец писал, что у него такое чувство, словно он провожает сына в могилу.[513]513
Müller G. F. Nachrichten zur Geschichte der Akademie der Wissenschaften // Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 6. История Академии наук Е Ф. Миллера с продолжениями И. Е Штриттера (1725–1743). СПб., 1890. S. 64.
[Закрыть] Хотя контракты с зарубежными учеными подробно регламентировали условия их проживания в России (включая бесплатную квартиру, свечи, дрова), но основная проблема заключалась в том, что привыкшие к жизни в корпоративной среде немецких университетов их представители в Петербурге находили совершенно другие отношения к ним со стороны властей, совершенно другой статус ученых в обществе.
Прежде всего, бросалось в глаза отсутствие у академиков классного чина, полагавшегося согласно Табели о рангах всякому, кто поступал на российскую государственную службу. Присвоение такого чина приглашаемым в Россию ученым не предусматривалось ни их контрактами, ни проектом об учреждении Академии наук. На практике это порой выливалось в комичные ситуации, когда в траурной процессии на похоронах герцогини Голштинской Анны Петровны, дочери Петра I и Екатерины I, академики были поставлены по порядку рангов сразу следом за дворянскими недорослями, или когда академик-юрист Бекенштейн, специально приглашаемый для совета по сложным делам на заседания Юстиц-коллегии, считался самым младшим ее членом и сидел ниже чиновника-канцеляриста.[514]514
Müller G. F. Op. cit. S. 163; Пекарский П. П. Указ. соч. С. 200.
[Закрыть] Однако за всем этим, действительно, стоял неполноценный социальный статус ученых в России, что вызывало у них справедливые нарекания.[515]515
См.: Фундаминский М. И. Социальное положение ученых в России XVIII столетия // Наука и культура России XVIII века. Л., 1984. С. 52–70.
[Закрыть] Так, в 1733 г. отказ в присвоении «чина и преимуществ здешних советников государственных коллегий» стал главной причиной отъезда из России Даниила Бернулли (который продолжил затем фамильные традиции в качестве профессора Базельского университета и приобрел мировую известность своим трудом «Гидродинамика» (1738), где содержалось основное уравнение стационарного течения идеальной жидкости, получившее его имя).[516]516
Пекарский П. П. Указ. соч. С. 108–109.
[Закрыть]
Характерной была позиция академика Бекенштейна, дошедшая до нас в описании Г. Ф. Миллера. Правовед из Кёнигсберга прибыл в Петербург в уверенности, что «найдет здесь Академию, устроенную по подобию немецких университетов», и обнаружившаяся разница показалась ему «даже слишком значительной». Источник его недовольства заключался в том, что здесь не было факультетов, и в частности юридического, который представлял Бекенштейн, а главное, не было «предпочтения одной науки перед другой», т. е. идущей со средневековья университетской корпоративной иерархии, согласно которой юридический факультет считался выше всех остальных (кроме богословского, которого в России не было), и, следовательно, Бекенштейн должен бы занять положение самого старшего профессора в Академии, что, очевидно, не соблюдалось. Кроме того, его не удовлетворяло, что здесь «ученые не принимали какого-либо участия в управлении своего общества, а все зависело от воли президента и, что для него было самым непереносимым, библиотекаря (т. е. И. Д. Шумахера — А. А.), которого он никогда не желал считать среди ученых».[517]517
Müller G. F. Op. cit. S. 54.
[Закрыть]
Последней фразой Миллер указывал на зарождение широко известного по историографии явления – «шумахерщины», одним из первых борцов с которой был Бекенштейн, а вслед за ним и другие академики. Тем самым, корни «шумахерщины» лежали, с одной стороны, в неурегулированности правового статуса академиков, а с другой – в противоречиях между корпоративными традициями немецких университетов, которые привозили в своем багаже прибывшие из Германии члены Академии наук, и взглядом на нее как на целиком подчиненное государству ученое общество, который поддерживался такими чиновниками, как Шумахер, т. е., в итоге, все в том же противостоянии «университетского» и «академического» начал.
Одна из первых попыток восполнить недостатки статуса Академии и ее членов была предпринята в сентябре 1725 г., когда большая часть академиков первого состава уже съехалась в Петербург. Тогда, по-видимому, под руководством Блюментроста был составлен Регламент Академии наук, первоначально на немецком языке, а затем его русский перевод был передан для рассмотрения в Сенат.[518]518
Копелевич Ю. X. Указ. соч. С. 83.
[Закрыть] Многие академики полагали, что императрица Екатерина I утвердила тогда Регламент; по крайней мере, в некоторых случаях именно положения Регламента, а не утвержденные нормы «генерального проекта» 1724 г. реально действовали в Академии во второй четверти XVIII в. (это касалось расширения числа кафедр, функций президента, назначаемого императорским указом, введения должностей экстраординарных профессоров и др.) Академик Г. Б. Бильфингер с гордостью писал тогда о высочайше дарованных «статуте и привилегиях», каких «не имеет еще никакая академия или университет».[519]519
Там же. С. 88.
[Закрыть]
Однако на самом деле по каким-то не вполне ясным причинам Регламент 1725 г. не был утвержден, так и не вступив в силу. По мнению Г. Ф. Миллера, работа над Регламентом не была проведена с должной основательностью, и он «содержал многое, что не соответствовало истинной пользе академии».[520]520
Müller G. F. Op. cit. S. 123.
[Закрыть] С точки зрения исследуемой нами темы важно оценить, насколько в Регламенте 1725 г. было отражено «университетское начало» Петербургской Академии[521]521
Проект Регламента 1725 г. (на русском и немецком языках) см.: ПФА РАН . Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 6. Л. 17—30; опубликован в изд.: Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1. С. 297—324. Далее сноски в тексте даны на параграфы Регламента.
[Закрыть]. Соотнесение с правами немецких университетов запечатлелось здесь куда сильнее, нежели в проекте 1724 г., чему не могло не способствовать и прямое воздействие немецких профессоров – членов Академии, уже приехавших в Петербург. Принятие Регламента означало бы заметный шаг в сторону превращения Академии в университетскую корпорацию с традиционным устройством и правами, характерными для Германии, хотя и дополнительными задачами, поставленными перед ней как перед «социететом наук».
Так, п. 1 Регламента фактически означал дарование «академической свободы» в том ограниченном смысле, что как члены Академии, так и «подлежащие им», т. е. студенты и переводчики, «к другому суду в каком либо деле, или юстициальном, или политическом, и под каким либо претекстом позываемые, без ведома академии ко оному суду явитися не были понуждаемы прежде, пока оная академия, уразумев дело, виноватых имеет к суду отослать, куды надлежит». На соблюдении этой нормы в отношении младших академических должностей в конце 1725 г. со ссылкой на еще не утвержденный Регламент настаивал Л. Л. Блюментрост[522]522
Копелевич Ю. X. Указ. соч. С. 88.
[Закрыть]. П. 3 вводил для учившихся при Академии льготы при поступлении на действительную службу: их обещали «паче всех прочих в публичные достоинства производить». Согласно п. 4 все учащие и учащиеся получали право «без всякого задержания приезжати и отъезжати, и хотя бы какая либо удержанию причина соплеталася, где похотят, тамо пребывание имети» (что перекликалось с известной средневековой свободой передвижения магистров и студентов). В п. 5 содержалось право Академии возводить в ученые степени («градусы академические») – определяющая черта «законного» университета в Европе.
Показательно, что члены Петербургской Академии в Регламенте 1725 г. именовались уже не академиками, как в проекте 1724 г., но профессорами, и такое название постоянно употреблялось на практике в 1720—40-е гг. При этом они делились на ординарных и экстраординарных профессоров (должности последних были предусмотрены в п. 37 Регламента). П. 6 даровал всем им право свободной беспошлинной корреспонденции. В то же время в п. 8 порядок учения вновь располагался по классам Академии, а не по университетским факультетам. Публичные лекции каждый из членов Академии должен был читать в объеме четырех часов в неделю по руководству, составленному и опубликованному им самим или написанному другим автором (п. 29); кроме того, п. 35 разрешал академикам вести приватные коллегии (являвшиеся одной из основных статей заработка профессоров в Германии), но не в ущерб другим их занятиям.
Итак, Регламент 1725 г. продолжал линию, намеченную проектом 1724 г., на соединение в «одном здании» функций ученого общества и университета, но университетские черты в нем были представлены гораздо более выпукло, чем прежде. Однако, как уже упоминалось, в ходе организации Академии наук «университетское начало» все время отходило на задний план. В 1725 г. к этому нашлась и еще одна причина – недостаток студентов, так что в преамбуле Регламента даже утверждалась необходимость приглашения в Россию «в изряднейших наук и языков началах уже наставленных студентов, которые виды учения своего уже показали, из чюждых стран».[523]523
Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1. С. 300.
[Закрыть] Действительно, первые 8 академических студентов, зачисленные в 1725 г., приехали вместе с академиками из немецких университетов, а в опубликованном Е. С. Кулябко списке учеников Академии за 1726–1733 гг. из 38 человек всего 7 носили русские фамилии, а остальные были иностранцами или детьми немецких чиновников в Петербурге.[524]524
Кулябко Е. С. Указ. соч. С. 33.
[Закрыть] Этот факт лишний раз демонстрирует неспособность учебной части Академии дать необходимый толчок широкому развитию университетского образования в России.
Характерно здесь написанное в 1733 г. свидетельство В. Н. Татищева о том, что Петербургская Академия является исключительно собранием ученых, ибо «всякому видимо, взирая на ея учреждение, что она токмо учреждена для того, дабы члены, каждоседмично собирался, всяк что полезное усмотрит, представляли, и оное каждый по своей науке, кто в чем преимуществует, и всего в обществе во обстоятельствах прилежно рассматривали и к совершенству произвесть помогали, а по сочинении для известия желающим издавали». Но «к научению академия не способна и высоких наук не преподает»: в ней нельзя выучиться ни «богословию или закону Божию», ни «закону гражданскому», поскольку члены Академии не знают ни веры, ни языка, ни законов российских, и могут обучать лишь уже окончивших «нижние науки», а таковых за неимением школ мало, и, следовательно, «учиться еще некому». В итоге Татищев делал вывод, что для «шляхетства» Академия бесполезна, и дворяне принуждены «иного училища искать»[525]525
Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и училищ // Чтения в ОИДР. 1887. Кн. 1. С. 112. Согласно Татищеву, единственным училищем в России, где можно было учиться высшим наукам, являлась Московская Академия («Спасская школа»), но и она «в том намерении основана, но не в том содержится» – Там же. С. 116.
[Закрыть].
Стоит еще добавить, что возможность превращения Академии наук в университет, которую отразил Регламент 1725 г., поддерживалась далеко не всеми академиками, о чем свидетельствовали новые уставные проекты, создававшиеся уже в царствование Анны Иоанновны. В одном из них, сохранившемся в бумагах Миллера, была представлена попытка четко сформулировать статус и устройство Академии наук как собрания исследователей, которое хотя и ведет публичное преподавание, но «в корне отлично от университетов и высших школ, а подобно здешним коллегиям».[526]526
ПФА РАН. Ф. 21. On. 1. Ед. хр. 77. Л. 34.
[Закрыть]
Острый спор об университетских функциях Академии развернулся между ее членами в начале 1734 г. В историографии на него впервые указали Ю. Д. Марголис и Г. А. Тишкин, стремясь в соответствии со своей концепцией превратить его в доказательство существования в это время «Петербургского университета».[527]527
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу. Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII – начале XIX в. Л., 1988. С. 45–48.
[Закрыть] На самом деле, факты свидетельствуют об обратном. Первопричиной спора стало появление инструкции Г. К. Кейзерлинга (президента Академии наук с июля по декабрь 1733 г., сменившего на этом посту Л. Л. Блюментроста), которую тот издал, покидая Петербург в конце 1733 г., и где содержалось требование вести в Академии «матрикул» студентов так же, как это делалось в европейских университетах.[528]528
Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 2. С. 409.
[Закрыть] Тем самым, данный вопрос возник не в связи с «развитием Петербургского университета», как полагали Ю. Д. Марголис и Г. А. Тишкин, а, напротив, был вынесен на рассмотрение академиков по инициативе их президента, обратившего внимание как раз на отсутствие атрибутов, обязательно наличествующих в любом европейском высшем учебном заведении.
Обсуждая этот вопрос, академики Г. 3. Байер и И. С. Бекенштейн, верные корпоративным традициям «доклассических» немецких университетов, представителями которых сами являлись, предложили дополнительно к имматрикуляции ввести и специальные правила для студентов, т. н. «академические законы», соблюдать которые каждый студент обязывался подпиской, «отдавая себя в юрисдикцию академии».[529]529
В немецких университетах студенты, давшие эту подписку, заносились в матрикулы как promittentes (несовершеннолетние) или depositi (совершеннолетние), см. например, матрикулы Лейпцигского университета (Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig / Hrsg. von G. Erler. Bd. 2—3. Leipzig, 1909).
[Закрыть] Также было предложено регулярно, как подобает университету, выпускать печатный каталог лекций (впрочем, первое объявление о публичных лекциях в Академии наук было опубликовано еще в 1726 г.). На это, однако, академик И. Г. Дювернуа возразил, что «данная Академия наук не является общественным учебным заведением, а матрикул полагается учебному заведению, а не академии. В то же время каждый из членов Академии может читать публинные лекции».[530]530
Протоколы заседаний Конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 г. Т. 1. СПб., 1897. С. 75–76, 92.
[Закрыть] В итоге возобладала точка зрения Байера, которую доказывали со ссылкой на проект об учреждении Академии, «где прямо включено положение о том, чтобы академия была и университетом». 22 марта 1734 г. академики постановили, чтобы всех желающих поступить в студенты впредь направляли к секретарю для внесения в матрикул и выдачи им свидетельства о приеме (testimonium) после экзамена у одного из профессоров[531]531
Там же. С. 102, 104.
[Закрыть]. Однако никаких следов дальнейшего исполнения этого решения нет: не только «академические законы», но и сам «матрикул», по-видимому, так и не был оформлен, а причину невыполнения следует, вероятно, видеть в скором назначении в Академию наук нового президента И. А. Корфа, который сходно с Шумахером придерживался государственного взгляда на Академию как, прежде всего, на ученое общество, решающее определенные научные задачи. Так, по сути, подтвердилась правота позиции Дювернуа (совпадавшей, кстати, как мы видели, с высказанным в те же годы мнением Татищева).[532]532
О назначении Корфа и его переписке с Шумахером см.: Пекарский П. П. Указ. соч. С. 519–520.
[Закрыть]
Итак, история организации и первых лет деятельности Петербургской Академии наук открыла важную страницу в русско-немецких университетских связях. Одновременный приезд в связи с основанием Петербургской Академии наук в Россию из протестанстких немецких университетов большого количества ученых (многие из которых потом вернулись обратно) послужил мощным толчком к развитию дальнейших связей между нашей страной и этими университетами в течение всего XVIII века. Особого упоминания заслуживает вклад в этот процесс выдающегося немецкого ученого, профессора университетов в Галле и Марбурге, X. Вольфа, корреспонденция которого соединяла Россию с университетской средой Германии и который хотя и отказался от переезда в Петербург, но продолжал помогать развитию российской науки и в последующие годы, что выразилось в его участии в судьбе М. В. Ломоносова.[533]533
Подробнее см. Андреев А. Ю. Русские студенты… С. 137–153.
[Закрыть]
Однако открытие Академии наук еще не смогло внести решающего вклада в становление университетского образования в России. Сочетание при создании Академии двух начал – «университетского» и «академического», которые по замыслу основателей должны были составить единое целое, на деле оказалось источником противоречий. Деятельность организаторов Академии со стороны государства, Л. Л. Блюментроста и И. Д. Шумахера, исходно сводилась лишь к подбору ученого общества предусмотренного состава и высокого уровня, но не развитию его учебных функций. В противоположность такой позиции, многие представители немецких университетов, поступая на службу в Академию, стремились проводить взгляд на нее как на университетскую корпорацию с некоторыми традиционными установлениями и правами, идущими еще со средневековья (что ясно отразилось в пунктах Регламента 1725 г.) Однако безуспешность этих попыток обуславливалась не только отсутствием надлежащей государственной поддержки, но и нехваткой студентов, отдаленностью петербургских научных учреждений от жизни и потребностей русского общества в целом.
В результате проекты 1730-х гг. о развитии высшего образования в России не могли опереться на какой-либо позитивный опыт подобного рода со стороны Академии наук. Такова, например, записка В. Н. Татищева, поданная им императрице Анне Иоанновне и призванная привести в систему государственные расходы на науку и образование и повысить их эффективность. Татищев здесь вообще отрицал возможность обучения студентов при Академии наук в Петербурге и полагал ее финансировать «порядком иностранных», без учета учеников, только выплачивая жалование академикам. Для обучения же высшим университетским наукам, а именно «для произведения в совершенство в богословии и философии со всеми частями» Татищев предусматривал «две академии или университета» (под одним из них имелась в виду Московская академия, под другим, вероятно, Киевская) с количеством студентов до тысячи человек в каждой.[534]534
РГАДА. Ф. 17. Ед. хр. 54. Л. 1–2.
[Закрыть]
Лишь в царствование императрицы Елизаветы Петровны замысел создания университета в Петербурге был вновь актуализирован. Речь шла о пересмотре концепции «Академического университета» и превращении его в полноправный университет по европейскому образцу. Эта идея была четко выражена при принятии первого Устава (Регламента) Академии наук и художеств, подписанного Елизаветой Петровной 24 июля 1747 г.[535]535
ПСЗ. Т. 12. № 9425.
[Закрыть]