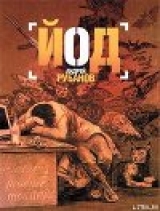
Текст книги "Йод"
Автор книги: Андрей Рубанов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Жизнь твоя, – дипломатично повторил Миронов. – Решать тебе.
– Слышь! – крикнул я, опять разозлившись. – Чего ты мне тут общими словами отделываешься? Ты мне друг! Мне не нужны общие слова. Мне нужен совет.
Несколько прохожих оглянулись. Беглец от режима Саакашвили на всякий случай смешался с толпой.
– Из меня плохой советчик, – сказал Миронов. – Лучше поговори с Иваном. Он твой брат, он тебя сорок лет знает. Он что-нибудь подскажет... А у меня для тебя совет простой. Не уходи из лавки.
– Какой я, нахер, лавочник?
– А кто ты тогда? – спросил Миронов.
– Не знаю. Но скоро узнаю. Дай мне две недели – и я скажу тебе, кто я.
Миронов кивнул; смотрел мимо.
– А насчет моего брата, – добавил я, – ты правильно угадал. У нас с ним через час встреча. На набережной возле Павелецкого вокзала. Помнишь дом, где у Бислана был московский офис?
– Помню, – сказал Миронов и улыбнулся. – Хорошее было место. И время тоже.
Глава 10. 2000 г. Чеченский Геббельс
В столице России у меня появился шикарный кабинет. Московская приемная мэра Грозного обосновалась на двенадцатом этаже новейшего высотного билдинга рядом с Павелецким вокзалом. Привыкнув, я пригласил в гости Миронова, и Миронов, даром что бывалый человек, был впечатлен: войдя, он вытирал подошвы о коврик у входной двери до тех пор, пока я его не остановил.
С высоты пятидесяти метров, сквозь дымчатые панорамные стекла, дочиста отмываемые раз в неделю бригадой верхолазов, Москва выглядела неплохо – особенно если совсем недавно ты смотрел на этот жестокий, бестолковый и аморально богатый город через прутья тюремной решетки. Объект наблюдения выглядит очень разно, в зависимости от того, где пребывает наблюдатель.
– Отлично, – сказал Миронов, погружаясь в кожаное кресло и оглядываясь. – А курить можно?
– Нельзя, – ответил я. – Во всем здании. Раз в полтора часа мы выходим всей бандой во двор и там курим.
– Все равно отлично. 10
Он посмотрел на книги, лежащие на моем столе: жизнеописание Йозефа Геббельса и уважаемый мною фундаментальный труд Густава Ле Бона «Психология толпы».
– Короче говоря, ты теперь чеченский Геббельс.
– Нет, – с сожалением ответил я. – Мне до него далеко. У Геббельса было целое министерство. Выделенный бюджет, сотрудники, полномочия. А у меня ничего нет. Мне даже денег не платят.
В восьмом часу вечера мы сидели одни. Секретарши, просители и приближенные к мэру люди, два часа назад заполнявшие офис пестрою толпой, давно исчезли. И я мог говорить про Геббельса – а также про то, что мне не платят, – не опасаясь лишних ушей.
– Демократические системы, – сказал я, – традиционно пренебрегают пропагандой. В отличие от тоталитарных систем. Это очень плохо. Когда я впервые прилетел в Грозный, я был удивлен. Я думал, что город будет весь засыпан листовками. Но за три месяца я не видел ни одной пророссийской листовки. Нет газет, нет радио. Информационная война не ведется!
– А ты, значит, хочешь вести информационную войну, – сказал Миронов.
– Меня для этого позвали.
– Ты хорошо выглядишь. Загорел.
– В Чечне сейчас тридцать пять градусов.
– Ты молодец. Ты на своем месте.
Я с удовольствием кивнул. Мой шеф Бислан с ювелирной точностью поставил бывшего журналиста, финансиста и арестанта на тот участок фронта, где бывший журналист и арестант сразу принес пользу. Еще в июне бывший финансист, сидя на деревянном ящике во дворе мэрии Грозного, после второго стакана теплой водки требовал дать ему автомат и отправить в бой – теперь, спустя несколько недель, он догадался, что желающих бегать с автоматом по пыльным разбитым асфальтам чеченской столицы достаточно, но среди них мало кто способен прилично связать на бумаге по-русски хотя бы несколько фраз.
– Скоро выборы, – сказал Миронов. – Бислан будет президентом республики. А ты взлетишь еще выше.
– Мне этого не надо, – ответил я. – Зачем взлетать? Я и так в полете. Как это ни смешно, я тут в натуре на своем месте. Мои амбиции мегаломаньяка полностью удовлетворены. Ходить с видом всезнайки, быстро отвечать на любые вопросы. Постоянно мониторить прессу. Мне бы свое ведомство, двоих-троих толковых людей, мне бы бумагу и множительную технику – я бы поставил на уши половину Кавказа.
– Ты любишь это, – заметил Миронов, наблюдая за улыбающимся мною.
– Ставить что-то на уши? – Я улыбнулся еще шире. – Да. Люблю. Не то что люблю – умею. Или мне кажется, что умею. Но, когда я влияю на ситуацию – в Чечне, или в «Матросской Тишине», или где-нибудь еще, – мне тогда хорошо. Кроме того, я приношу пользу людям, а это важно.
– У тебя глаза блестят.
– Возможно, – я повертел в руках биографию Йозефа Геббельса. – Странно, да? Типичный русский Вася из деревни Узуново самореализовывается в Чечне. Ближе места не нашел...
Миронов сказал:
– Лермонтов тоже самореализовывался на Кавказе.
– Да. Кавказ нужен России, чтобы там умирали ее поэты.
– Слишком красиво сказано.
– Извини, – ответил я, переставая улыбаться. – Согласен. Я ж пресс-секретарь, я приучаю себя говорить 10 афоризмами. На самом деле там страшно, Миронов. Хуево там. Бабы плачут, в черное одетые. Грозный – город
плакальщиц. А тут, за тыщу километров, черные вдовы никого не интересуют. Наоборот, публика злорадствует. Ага, непокорные вайнахи хотели Ичкерию – так им и надо теперь!
Пахло дезодорантами, средствами для чистки ковров, новой дорогой мебелью. Охлажденным и очищенным воздухом. Немного пахло и сигаретами: приходившие на прием визитеры были люди суровые, много повидавшие и часто, наплевав на местные правила, курили за дверью пожарного выхода. И я ничего им не говорил: по кавказским понятиям младший не должен делать старшему замечаний.
Кстати, пришли и другие, несколько интеллигентных мужчин с учеными степенями, они присматривали за мной, чтобы я не облажался. Бислан не стал мне ничего объяснять, швырнул в гущу событий, как рыбак бросает сына с лодки в воду: плыви, как умеешь.
Я пока плыл.
– Слушай, – сказал Миронов. – Пока не забыл: подари мне фотографию. На память. Какую-нибудь настоящую чеченскую фотографию. Чтоб ты стоял, как положено, с «калашниковым», на фоне утеса и бурлящего горного ручья. В обнимку с товарищами по оружию, или как это у вас называется...
– Нет у меня такой фотографии, – ответил я. – Ни одной нет. Чужих снимков – сколько хочешь. Зачистки есть, мародеры есть, чеченский ОМОН есть, мэрия Грозного, городской рынок... Бислан есть... А самого себя нету. Как ты себе это представляешь? Чтобы я попросил какого-нибудь бойца сфотографировать меня «на память»? Он бы сразу понял, что я на их войне – турист. Приехал и скоро уеду.
– А ты уедешь?
– Нет. С какой стати? Какие фотографии, я не турист, я нанят работать чиновником. Представь себе, что Геббельс прилетает на Восточный фронт и просит ординарца сфотографировать его на фоне горящего Киева. На память.
– Да, – согласился Миронов. – Это глупо. Кто хочет заполучить весь мир, тому не надо фотографироваться на фоне отдельно взятого города. Ты прав. И ты молодец.
– Скажи это моей жене. Я уже месяц не приношу домой денег.
– Она поймет, – усмехнулся Миронов. – Она подобреет, как только ты станешь личным другом и секретарем президента республики. Лучше скажи: она не боится, что ты найдешь себе молодую красивую чеченку?
– Ты с ума сошел. Я за версту их обхожу. Молодых и красивых. Это Кавказ. Еще пристрелят, за невежливое слово. И потом, молодые чеченки все патриотки своего народа, они полны решимости рожать чеченских детей и восстанавливать численность населения республики.
– Эй, – сказал Миронов. – Ты перепутал. Я не журналист из газеты «Известия». Мне не надо красиво втирать про чеченский патриотизм. Я ведь тоже считаю, что они сами виноваты в своих бедах.
Мне захотелось положить ноги на стол, – будучи бизнесменом, я это любил. Но чиновники, наверное, ведут себя более прилично.
– Конечно, виноваты, – сказал я. – Целый народ стал заложником собственного имиджа. Половина цивилизованного мира считает чеченцев кровожадными дикарями. Никто не хочет с ними связываться. Никто не хочет с ними работать. В результате мэр столицы республики вынужден приглашать на должность пресс-секре10 таря – дилетанта. Студента-недоучку с уголовной судимостью.
Миронов опять с заметным удовольствием изучил вид из окна – закованную в гранит реку и Таганскую площадь, вращающуюся против часовой стрелки, как земной шар, – и спросил:
– А там, в Чечне, знают, что ты судимый?
Я кивнул. Когда Бислана (и меня) судили, соратники и друзья мэра собирались возле здания суда злой плотной толпой и скандировали: «Свободу Гантамирову!» Однажды они, в сотню сильных рук, стали раскачивать автозак, где сидели я и Бислан, и едва не перевернули тяжелый грузовик. Ближе к финалу процесса соратники стали великодушно требовать свободы не только Бислану, но и остальным подсудимым, в том числе и мне. Выпрыгивая из люка тюремной машины в объятия конвойных ментов, я слышал хриплый рев горцев: «Свободу Рубанову!» И вот, спустя год с небольшим, я проходил по коридорам мэрии, а незнакомые мне люди смеялись, поднимали в воздух кулаки и опять орали: «Свободу Рубанову!»
Конечно, кому было надо – все знали, кто я такой. А однажды один парень, примерно моих лет, приезжавший в Грозный помочь родственникам – в Москве он был влиятельный коммерсант, а на родине облачался в камуфляж и не расставался с автоматом, – увидел меня и воскликнул:
– Ха! Рубанов! Что он тут делает?
Ему шепнули, что Рубанов теперь пресс-секретарь.
– Какой он пресс-секретарь! – гневно сверкнув глазами, крикнул камуфлированный предприниматель и предпринял попытку взять меня на прицел. – Он же первейший аферист, банкир, отмыватель черного нала! Вы тут с ним поосторожнее, с этим пресссекретарем! Он вам тут быстро офшорную зону устроит, фирм липовых наделает, штук сто! Вас, колхозников, вокруг пальца обведет! Через год все будете ему должны!
Далее все расхохотались, и я тоже. Ибо все это, разумеется, была чисто чеченская шутка.
Шутили много, грубо, шумно, юмор их был тяжеловесный, но искренний, и меня стали воспринимать всерьез только тогда, когда поняли, что московский гость умеет хохотать так же громко и беззаботно.
А что еще делать? Дома сожжены, работы нет, света и воды нет, ментовской зарплаты едва хватает на чай и муку – остается только хохотать.
Через несколько дней я неожиданно оказался в Махачкале. То есть прилетел в Грозный, за новой порцией новостей, но на второй день люди из свиты Бислана сказали мне, что надо «съездить в одно интересное место», усадили в машину и куда-то повезли, в компании трех веселых автоматчиков; сидящий справа непрерывно ласкал средним пальцем скобу предохранителя, ноготь на пальце был черный, изуродованный, в точности как у Димочки Сидорова, тогда, в тюрьме; впрочем, сходство между Димочкой и смуглым вайнахом, обвешанным сизыми яйцами снарядов для подствольного гранатомета, на этом заканчивалось. Ехали примерно шесть часов, строго на восток; я не спрашивал куда. Мне удавалось сохранять невозмутимость в самых щекотливых ситуациях – если куда-то едем, значит, так надо. Приезжая в Чечню, я никому не задавал вопросов. Никому никогда не задал ни одного вопроса. Самый невинный вопрос изобличил бы во мне новичка, – а моя работа заключалась в том, чтобы иметь вид человека, абсолютно осведомленного обо всем на свете. 10
К вечеру подъехали к многоэтажной гостинице в окружении чисто выметенных асфальтовых дорожек, кустов и деревьев, я вышел и уловил давно забытый запах; гостиница оказалась не гостиница, а пансионат, причем ведомственный. Собственность ФСБ. Почему-то практически пустой.
В каждом номере был просторный балкон, а под балконом гудело и шуршало Каспийское море.
Мне принесли две бутылки местного дагестанского шампанского и рекомендовали отдыхать.
Я не хотел отдыхать; в Москве сидела грустная жена, в комнатах нашей квартиры не было штор, с потолков свисали голые лампочки, и раз в неделю сын протирал до дыр колени на новых джинсах – если бы шеф дал мне три дня отпуска, я бы потратил это время на хлопоты по хозяйству. Но шеф жил в немного другом мире; уговорив первую бутылку и вдоволь насмотревшись на пенные атаки длинных злых волн, я понял, что таким образом Бислан проявляет обо мне заботу. Показывает, что умеет жить. И предлагает мне учиться тому же.
Конечно, выходные на море были устроены не персонально для меня – ближе к ночи и сам шеф приехал, вместе с заместителем, и тут же пошел купаться, хотя вода была холодна.
Я тоже прошелся по острым камням, но в воду не полез, хотя надо было все же рискнуть. А лучше – раздобыть серф и попробовать прокатиться. Только где в городе Махачкале найти доску для серфинга?
Да и не умею я на серфе.
Последний раз я плавал в море, будучи подростком пятнадцати лет, в пионерском лагере близ Евпатории. А для меня, сугубо сухопутного человека, вдобавок бывшего пионера, поэта и романтика, море – практически священная субстанция. Дважды в своей жизни я остро мечтал о море: когда сидел в офисе, фиолетово-желтый от переутомления, загребая деньги лопатой, и когда сидел в тюрьме, фиолетово-желтый от недостатка свежего воздуха, вылавливая вшей из нижнего белья. Если разобраться, Бислан сделал мне большой и важный подарок, и после того, как я вернулся, по темноте, на свой выложенный кафелем балкон и прикончил вторую бутылку жесткой, но вполне кондиционной шипучки, я уже был полон благодарности к своему работодателю. Хотя чувство вины перед женой оставалось. Она тоже была бы рада морю, она его тоже заслужила. Судя по всему, в этом санатории Бислану нечего было мне сказать – разумеется, не все у него шло гладко и его дорога к креслу президента республики не была прямой. Он сделал сумасшедшую политическую карьеру, но не мог помочь своему народу выбраться из руин, – это не под силу одному человеку, будь он хоть Де Голль, хоть Кемаль Ататюрк. Нужны исполнители, время, силы, деньги, наконец – у Бислана не было почти ничего. На следующий день после обеда я попросил шефа об аудиенции и спустя полчаса, открыв дверь его номера, увидел мэра Грозного лежащим на диване – он вполглаза смотрел телевизор, какую-то ерунду, чуть ли не рекламу, вдобавок с выключенным звуком. Большой усталый человек в носках и пятнистых штанах. Увидев меня, сразу сел и мгновенным движением огромной ладони согнал с лица сонливость, подобрал повыше мышцы лба и щек, улыбнулся, нахмурился – пришел в рабочее состояние, но я сразу понял, что зря приперся; шеф, скорее всего, специально уехал – как из Москвы, где его осаждали сотни желающих «восстановить знакомство» и где ему приходилось два раза в неделю менять номер личного телефона, так и из Грозного, где исчезало без вести по пять человек в сутки, – уехал на два дня, по-русски гово10 ря, оклематься, и я, конечно, был ему важен и нужен, но в тот день ему вообще никто не был нужен, и его обаяние, и размах плеч, и улыбка, и чрезвычайно звучный баритон, и «стечкин» за поясом широкого ремня – все было в первую очередь приемами игры, а уже во вторую очередь неотъемлемыми качествами личности. Если ты обаятелен и силен от природы, но вынужден на протяжении полугода раскручивать обаяние и силу на полную мощность, однажды ты устаешь, и тебя тошнит от собственного обаяния.
Взъерошенный, загорелый, он выслушал деловитого, немногословного пресс-секретаря: тот отчитался о работе, сунул папку с вырезками из столичных газет, – Бислан открыл, стал смотреть, его глаза едва не слипались, и пресс-секретарь вежливо вынул папку из его пальцев, закрыл, положил на столик, сказал: «Потом прочитаешь, отдыхай» – не фамильярно, а на правах близкого товарища, соседа по централу «Матросская Тишина».
Пресс-секретарь так и не отдохнул за те полтора дня, не смог расслабиться. Он выпивал, ел местную еду, часами просиживал на балконе, в пластиковом кресле, вытянув ноги и наблюдая жемчужные переливы меж собой и горизонтом, и хвалил свою предусмотрительность, заставившую прихватить из дому две пары чистых носков; в городе были перебои с водой, она не всегда текла из кранов, а если текла, то в любой момент могла перестать вытекать. Пресс-секретарь много и старательно дышал соленым воздухом и, если бы провел на берегу не сорок часов, а сто сорок, получил бы много пользы для здоровья и нервов, – но, повторим, почти ничего не получил. Он был сложно сделан или думал, что сложно сделан, – так или иначе, ему всегда, с раннего пубертатного юношества, приходилось настраивать себя на отдых, мысленно вращать какие-то специальные внутренние рукоятки, позволяющие выйти из режима движения в режим покоя. Внезапный набег на каспийское побережье вышел слишком кратким, скомканным – пропитанный разнообразной тюремной дрянью организм пресс-секретаря ничего не понял.
В вестибюле пансионата стояла будка междугородного телефона, и он несколько раз звонил в Москву, говорил с женой.
За час перед отлетом у него разошелся шов на левом ботинке, и он сильно расстроился.
А Каспий был прекрасен, бесшабашен и упруг. Он ревел. Он очень обижался. Ведь люди, разумеется, должны приезжать на его берега не в камуфляже, с автоматами – а в белых штанах, на машинах с открытым верхом, чтоб сзади торчали в небо доски для серфинга.
Глава 11. 2009 г. Не хочу быть серфером
– То, что ты ушел оттуда, – сказал Иван, – меня не удивляет. Меня удивляет, что ты так долго продержался.
– Семь лет.
– Критический срок, – брат авторитетно ухмыльнулся. – Первые два года летаешь, как на крыльях. Строишь контору на голом энтузиазме, на интересе к новому делу. Первые два года тебя прет. Ты совершенствуешься. Следующие два года охладеваешь и тянешь лямку. Потом еще два года скучаешь. Это этап разочарования А на седьмой год ты уже ненавидишь свою работу. И ухо11 дишь. Так утверждают западные психологи.
Скорее так утверждали не западные психологи, а моего брата Ивана жена, она действительно была психолог. В начале девяностых несколько моих знакомых и друзей дружно женились на психологинях. Перезнакомились в университетском общежитии, так и сладилось. Умение разложить мозг на составные части по методике Карла Густава Юнга не помогло молодоженам, большинство семей распалось. Кто-то развелся спустя три-четыре года, кто-то протянул почти десять лет. Но брата моего Ивана супруга была особенная, у нее ничего не распалось и не могло – таких женщин можно сбрасывать на северную льдину, чтоб через год обнаружить на той льдине симпатичный домик, палисадник, пылающий очаг и группу ухоженных детишек.
– Семь лет, – повторил я, отхлебывая свой вечный чай с лимоном. – С нуля поднялись. Ни одна сволочь не помогла. Ни один банк не дал кредита. Ни один налоговый инспектор не пошел навстречу. Ни один мент или пожарник не вышел от меня с пустыми карманами...
Иван опять ухмыльнулся.
– Мне-то не рассказывай.
– Извини. Ты этого тоже хлебнул, да. Может, хоть ты мне скажешь, почему мы с тобой двадцать лет говно хлебаем?
– Ничего мы не хлебаем, – твердо возразил Иван. – Банк не дал кредита, подумаешь. Лучше скажи, чем будешь заниматься.
– Пока ничем. Отдохну.
– А потом?
– Не знаю. Честно. Хотел у тебя совета спросить.
Кроме кофе и чая взяли еще по шарику мороженого, устроились в кофейне, в некурящей зоне. Иван презирал никотин, а я мог и потерпеть, тем более что в некурящей зоне всегда свободнее, и вдобавок столики чище – пока сидели, я нашел только одно небольшое пятно, вытащил из настольного зажима салфетку с фривольным логотипом заведения и довел поверхность до идеального блеска.
Мы вместе взрослели. Однажды меня, двенадцатилетнего, сильно прижала астма, и я был перемещен из деревни к родственникам. В город Домодедово. Воздух города Домодедово почему-то втекал в легкие тощего заморыша Андрюши свободнее, чем более сырой и холодный воздух родной деревни. Почти полгода заморыш прожил у дядьки с теткой, Иван был их сын, а заморышу, соответственно, двоюродный брат. Заморыш очень любил их веселую современную семью и с удовольствием пошел вместе с Иваном в его школу и в его класс, где всю осень восемьдесят первого года приятели занимались в основном изучением трусов на старшеклассницах (разработка и практическое использование сложной системы укромных дырок в женских раздевалках и туалетах, а также стратегических точек наблюдения под лестницами, далее – подробный обмен впечатлениями; шестой класс средней школы – важнейшая эротическая эпоха). Потом заморышу стало лучше, и его вернули домой – но Иван остался ему другом и единомышленником даже спустя двадцать восемь лет, когда цветочки на женских трусах уже перестали интересовать обоих.
Иван пришел в бизнес на год раньше меня. Бросил низкооплачиваемую работу массажиста и по бешеному блату устроился в кооператив по изготовлению и продаже спортивной атрибутики. За последующие годы – все девяностые и половину нулевых – он создал и закрыл десяток всевозможных фирм, компаний и обществ с ог11 раниченной уголовной ответственностью, занимаясь то отмыванием черного нала, то производством стирального порошка. Нигде не преуспел, но зато и жив остался. Спокойный, невероятно стабильный энергетически и психически, он прошел через разнообразные неудачи, преодолел огромные долги и затяжные сексуальные приключения с сорокалетними продавщицами, – сейчас работал в издательстве, был бодр, тянул троих детей и семидесятилетних стариков-родителей; он был в порядке.
– Какого ты ждешь совета? – удивился он. – Ты писатель. Пиши.
– Напишу, – ответил я. – Потом. Сейчас не хочу.
Он пятнадцать лет практиковал йогу. Рассказывал, что минимум дважды левитировал. Окончил финансовую академию. Читал книги Мельникова-Печерского. В общем, он критически оглядел меня и произнес:
– Ты не знаешь, чего хочешь.
– Я знаю, чего я не хочу... – Мне показалось, что будет уместным понизить голос, положить локти на стол и приблизить свою голову к его голове. – Я больше не хочу русского бизнеса. Я устал делать вид, что у меня все отлично. Я устал понимать, что все остальные тоже делают вид, что у них все отлично, хотя, по мне, нам тут гордиться нечем.
– Я тебя понимаю, – осторожно сказал Иван.
– Не понимаешь, брат. Мне здесь – вот, – я поднес расставленные пальцы, указательный и средний, к горлу. – И вот, – я поднес те же два пальца ко рту, изображая позыв к рвоте. – Я устал от пробок. Я устал от того, что я абонент и я все время доступен. Десять лет назад мы не имели сотовых телефонов и прекрасно себя чувствовали. А сегодня я прихожу в лавку, и мне говорят: хули ты недоступен? А я, блядь, никому не обещал, что буду все время доступен! Я устал от калькуляторов, от налогов, от дисконтных карточек. От фильмов про бунтующих клерков. Я устал от дикого празднования футбольных побед. Я не хочу с пьяной мордой праздновать футбольную победу. Запуск ракеты на Юпитер или открытие хайвэя от Москвы до Магадана – тут я буду первый праздновать, и напьюсь страшно, и флагом буду махать, и орать до утра, и пускать фейерверки. Но ведь никто ничего не запускает и не строит! Мне пихают футбол, Олимпиаду в Сочи и «Евровидение» за сорок миллионов долларов. Вокруг меня картон и пластмасса. Я устал от картона, я устал от пластмассы. Скажи, что мне делать?
Тем временем рядом с прозрачной стеной нашего кафе остановились, сурово взревывая, два огромных красивых мотоцикла, и два огромных красивых человека, выпрыгнув из седел, вошли в заведение неторопливой походкой чуваков, уже давно везде успевших.
Женщины схватились за пудреницы.
– Кстати, вот, – сквозь зубы сказал Иван и скосил глаза. – Один из вариантов. И не самый плохой. Купи себе «Харлей» – и катайся. Как этот... забыл, как его... беспечный ездок. И будь в гармонии с собой.
– Нахер гармонию. Особенно с собой.
– Ты не пробовал, а говоришь. Попробуй.
– Ерунда, – уверенно сказал я и поморщился. – Я не беспечный, и я не ездок.
– Ты ж любил на машине погонять.
– Любил, – согласился я. – Когда-то. А теперь гоняю только мысли в голове.
Тем временем владельцы мотоциклов заняли шестиместный стол, вдвоем. Мощные мужики в возрасте, загорелые и очень красивые, в броне мыщц. Одежда их, правда, показалась мне несколько легкомысленной, не какие-то байкерские кожаные доспехи, а тонкие дорогие курточки. Один был блондин, другой – брюнет, с же11 сткими вьющимися волосами, – такие же имел мой сосед по школьной парте Поспелов.
– Мотоцикл – это интересно, – пробормотал я. – Только куда на нем ездить?
– Вперед, – ответил брат. – Мимо всех. Мимо картона и пластмассы.
– Ты же знаешь: я так не могу. Мне надо видеть цель.
Иван вздохнул.
– Понятно. В общем, дауншифтинг тебя не интересует.
– Абсолютно. Никакой беспечной езды, никаких перелетов в Гоа. Никакого созерцательного безделья.
– Почему обязательно Гоа? – удивился брат. – Почему безделье? Гоа – отстой. Махни в Австралию. Или в Доминикану. Посвяти год-другой серфингу. Не дилетантскому серфингу, а настоящему. Чтобы годами жить на волне и больше ничем не заниматься. Наверное, это хорошо прочищает мозги.
Я кивнул. В моем кругу серферов уважали. В основном благодаря фильму «Пойнт-Брейк». Но три года назад, в Португалии, я наконец повстречал настоящих серферов и поговорил с ними. В отличие от героев великого фильма они зарабатывали на хлеб вождением такси. Действительность то есть оказалась не так красива, как художественный вымысел.
Под взглядом брата мне удалось вообразить себя серфером. Вот я просыпаюсь за час до рассвета и потом несколько часов пребываю в горизонтальном положении на подвижной спине океана в ожидании удобной волны, полдня в воде (она в ноздрях, в ушах, в глазах и во рту), чтобы несколько минут насладиться скольжением и полетом, а потом, измученный и просоленный, что-то ем и падаю спать, прикидывая, как бы подольше протянуть на те деньги, что у меня остались; и так месяц за месяцем; живешь, только когда скользишь, остальное время – ожидаешь. Ускорить события нельзя, волна либо придет, либо не придет. Океан безучастен к тебе, он слишком велик. Он даже более огромен, чем твоя родина. Хотя трудно представить что-то более огромное, чем твоя родина.
Ты и есть серфер, сказал я себе, ты двадцать лет скользил по здешним волнам, то захлебываясь и отплевываясь, то хохоча от восторга – от голода к сытости, от пьянства к трезвости, меж тюрьмой и войной, меж зимой и летом. Зачем тебе тот серфинг, если у тебя есть этот? Самое лучшее море для тебя – это людское море, будь с толпой, там центр жизни.
– Нахер серфинг, – сказал я. – Не могу сидеть без дела. Мой личный рекорд – четыре месяца безделья. Больше не вышло. Чуть тогда с ума не сошел. И не спился. Нет, брат. Я только дух переведу – мне трех недель хватит, – а потом буду что-то придумывать.
– Говорю тебе, запрись и книги пиши, – посоветовал Иван.
– Книги? Их не надо писать. Они сами пишутся. Но где я возьму материал, если запрусь? Нельзя только сочинять и больше ничего не делать.
– Путешествуй и собирай материал.
Я засмеялся.
– Эх ты. А еще в издательстве работаешь. Путешествовать и собирать – это метод журналиста. Материалом надо пропитаться. В материале надо год прожить. Или два. Чем больше – тем лучше. Чтобы в начале тебя встретили как родного, а в конце – побили ногами. Как «Ангелы ада» побили Хантера Томпсона. Если тебя не били ногами – значит, ты не собрал материала для книги. 11
Иван покачал головой.
– Ты слишком привередлив. Тогда ищи место, где тебя побьют ногами.
– Я уже был везде, где бьют ногами.
– Не везде, – возразил брат. – Могу посоветовать несколько интересных адресов, где ты еще не был и где тебя качественно побьют ногами.
Он показал большим пальцем себе за спину.
– Вон сидят двое, видишь?
– Которые на мотоциклах?
– Да. Иди и скажи им что-нибудь... Грубое. Мне кажется, они сразу удовлетворят твою потребность.
Тем временем официантка устанавливала перед каждым атлетом блюдо с тигровыми креветками, причем брюнет тщательно обнюхал свою порцайку.
– Скажи им что-нибудь простое, – тихо предложил брат. – Например, что они – пидоры. И они все сделают как надо. Квалифицированно замесят и ногами и руками...
Некоторое время я наблюдал за мотоциклетными великанами. Что-то было в них не то, великаны были слишком гладкие и нарядные, и их рубахи слишком рельефно подчеркивали дельтовидное и трехглавое мясо. Дамы поедали их глазами. Я смотрел, пользуясь тем, что атлеты занимались исключительно друг другом либо своей дорогостоящей пищей. Наконец дождался: один атлет протянул татуированную длань и нежно погладил другого по запястью.
Это была очень красивая пара. Не хуже чем Дольче с Габбаной.
– Нет, брат, – пробормотал я. – Этим ребятам мне нечего сказать.
– Как хочешь.
– Так что мне делать?
– Не знаю, – сказал Иван. – Сам думай. Ты малый крепкий, ты всегда находил себе дело. И сейчас найдешь. Я понял так, что ты хочешь дело, но чтобы без бизнеса.
– Именно так.
– Но дело – это и есть «бизнес», по-английски.
– А я русский.
– Может, тебе в монастырь удалиться? И даже лучше – не в православный? Типа буддийского дацана?
– Миронов прожил в дацане почти год. Говорит, ничего особенного. Говорю тебе, я не хочу искать внутри себя, я хочу искать снаружи.
– Снаружи для тебя есть только одно настоящее дело, – твердо сказал Иван.
– Расскажи.
– Политика.
Мне стало весело.
– Политика? А что это такое? Какую политику ты имеешь в виду, брат? Современную публичную политику, которая на самом деле – клоунада? Или настоящую, тайную, подковерную политику, куда ни меня, ни тебя никогда не пустят, поскольку мы рылами не вышли?
– Займись, – мягко повторил Иван. – Там разберешься.
Надо же, подумал я. Политика. Может, мне создать подпольную революционную организацию? Удалиться в Разлив, пожить в шалаше, сочинить «Апрельские тезисы»? Кстати, а на что он там жил, в Разливе?
– У меня нет ни копья, Иван. Я голодранец. Пять тыщ долларов сбережений и десять тыщ долларов долгов. Что будет кушать семья начинающего политика, пока он разберется что к чему?
Брат сменил позу на более напряженную, посмотрел на часы, потом на меня. 11
– Извини, мне пора.
Он отодвинул чашку и полез за деньгами.
– Оставь, – попросил я. – Угощаю.
Иван потушил сигарету.
– Хочешь правду? Про тебя?
– Хочу. Только всю.
– Ты не уедешь ни в буддийский дацан, ни в Австралию. Ни во внутреннюю эмиграцию, ни во внешнюю. Ты не купишь мотоцикл и не займешься политикой. Ты, Андрей, какое-то время походишь, пострадаешь, помучаешься... Выспишься. Отдохнешь. А потом – вернешься в свою лавку.
– Я ее ненавижу.
– Это не важно, брат. Твое место здесь. Рядом с нами. Это твой город, это твоя лавка. Твои друзья, твоя семья, твоя литература...








