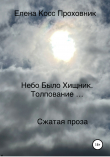Текст книги "Стиль и композиция критической прозы Иннокентия Анненского"
Автор книги: Андрей Федоров
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
А за этим абзац, иронически освещающий представление тогдашней молодежи о "пророке":
"А мы-то тогда в двадцать лет представляли себе пророков чуть что не социалистами. Пророки выходили у нас готовенькими прямо из лаборатории, чтобы немедленно же приступить к самому настоящему делу,так что этот новый, осужденный жечь сердца людей и при этом твердо знающий, что уголь в сердце прежде всего мучительная вещь, – признаюсь, не мало-таки нас смущал" (с. 237-238).
Собственно на этом кончаются вкрапления фамильярно-прозаических черт речи, создающих общее впечатление подчеркнуто непринужденной разговорности ("а мы-то тогда..."; "пророки выходили у нас готовенькими прямо из лаборатории"; "...мучительная вещь..."; "немало-таки"), и затем на некоторое время ослабляется вещественная конкретность изображения. Далее идет большое рассуждение о пророке, каким он был для Достоевского и "первым абрисом" которого в его творчестве Анненскому представляется обезумевший перед смертью Прохарчин, мысли о близости этого пророка к нашим представлениям о поэте, об "идее служения пророка-поэта". Еще несколько абзацев о необходимости для поэта служить "идее ли или идеям", о двух типах поэта эллинском, активном (поэт"демон", "похититель огня") и библейском, пассивном ("пророк одержимый"), к которому отнесен Достоевский. Здесь завершается первая главка статьи.
Во второй половине очерка речь идет о самом творчестве Достоевского, которое определяется как "поэзия совести" {Что перекликается с первой строкой стихотворения "К портрету Достоевского": "В нем совесть сделалась пророком и поэтом".}, представленной обеими ее разновидностями – активной (в характере Раскольникова) и пассивной (в образах Ставрогина или Смердякова). Анненский касается многих произведений писателя – и больших романов и повестей, касается не в хронологическом порядке, а в последовательности мотивов творчества, останавливающих его внимание. Он приводит много образных деталей, четко вещественных ("...чахлые трактирные садики, писаришки с кривыми носами, яичная скорлупа и жухлая масляная краска на лестницах, лакейская песня краснощекого ребенка, чихающая утопленница, комната у портного Капернаумова с одним тупым и другим страшно острым углом, канцеляристы с скверным запахом и слепые желтые домишки Петербургской Стороны...") (с. 240), ссылается на изображенные ситуации и почти не цитирует. Все это объединено понятием "поэзия совести", сказавшимся, по мнению критика, и на самой структуре произведений с предельно сгущенным в них временем действия и в их стиле, образчики которого даются только в виде отдельных словоупотреблений. Анненский нередко обращается к читателю: "сопоставьте", "сочтите дни", "вдумайтесь" и т. п. А в конце, связав с идеей "поэзии совести" ту боль, которой у Достоевского "было, несомненно, уж слишком много", он возвращается к воспоминанию о том, как писатель читал пушкинского "Пророка": "Право, мне кажется, что я понимаю, почему падал голос декламатора на стихе: "Глаголом жги сердца людей" (с. 242). Конец сомкнулся с началом. Кольцевое построение резко подчеркнуло лейтмотив статьи – мотив совести и боли – и придало целому особую стройность.
По этому же "кольцевому" принципу, только менее подчеркнутому, построена небольшая статья "Умирающий Тургенев. Клара Милич": имя героини тургеневского рассказа, поставленное в подзаголовке, не называется, а только подразумевается в начале первой фразы ("Мне стоит только назвать это имя...")-и затем полностью называется в самом конце ("...если этим покупается возможность думать о Кларе Милич"). Но вся композиция статьи, весь ход мысли и образных ассоциаций – сложнее. Открывается статья тоже фрагментом воспоминания – но не о самом Тургеневе, а о его похоронах, которые к тому же описываются так, что сперва и неясно, о чем пойдет речь; названо только время года – и то с оттенком неуверенности ("теплое, почти нежное утро, но будто это уже осенью"), и место действия – Обводный канал в Петербурге около старой городской бойни, и показана какая-то странная толпа людей, вполне мирная и напряженно ждущая чего-то. Появляются атрибуты торжественной похоронной процессии – ленты с золотыми литерами, серебро венков. И тут же прозаически-будничные, иронически подсвеченные детали: "Чувства... восторга-то, и несмотря на это, – даже через 20 лет все еще только скучно: От глубоко потрясенных... Великому... Подвижнику... Певцу... – певцу, – с сукровицей на атласной подушке гроба!.. Ветер завернул ленту... что это там? От читателей или почитателей?.. Нет, – от артели... и чуть ли не сыроваров даже... А вот и гроб. Его тащат вспотевшие люди без шапок и с рыжими тоже вспотевшими воротниками, а другие возле месят калошами грязь и хрипло поют Свя-атый бо-оже..." (с. 36).
Далее, реальное (хоть и проступающее как бы сквозь дымку) воспоминание сменяется иносказательным: автор сравнивает свою жизнь со стоянием в очереди за театральным билетом – сперва, в молодости, на площади перед входом в вестибюль, а теперь – поблизости от окошечка кассы, откуда уже не вернуться назад, в толпу, которая за это время выросла там. И только после этого объясняется смысл мемуарного начала в его отношении к "Кларе Милич": "О, теперь я отлично понимаю ту связь, которая раз навсегда сцепила в моей памяти похороны Тургенева с его последней повестью" (с. 37).
Начало, таким образом, служит отправной точкой, вернее – траурным фоном для всей трактовки последнего произведения Тургенева, "умирающего Тургенева", чей образ стоит в центре статьи и с которым соотнесены все образы повести и все ее противоречия и коллизии, как они представляются Анненскому. Это – и коллизия между Аратовым, молодым, но уже старчески будничным существом, и страстной натурой героини повести, воплощающей красоту и мечту и отвергнутой Аратовым, который, однако, после ее смерти впадает в состояние душевной опустошенности и вскоре тоже умирает; это и несоответствие между временем действия, обозначенным в повести (70-е годы), и содержанием литературных и художественных интересов ее героя и его друга Купфера, возможных только в гораздо более раннюю эпоху (40-е годы) и представляющих тем самым анахронизм; далее – это противоречие между внешней романтичностью сюжета и той нотой "чисто физического страдания", которую внесла в него предсмертная болезнь Тургенева и определило характер Аратова, и, наконец, противоречие между мистическими переживаниями этого персонажа, отражающими настроения самого Тургенева, и неверием писателя в бессмертие. По поводу этого последнего противоречия возникает образное уподобление, своей вещественностью резко остранняющее его главный мотив – веру в бессмертие, в бессмертную любовь – и завершаемое остро парадоксально: "Я не думаю, чтобы Тургенев, несмотря на свою склонность к мистицизму даже, верил в бессмертие; очень уж он старался уверить в нем других, не себя ли? "Смерть, где жало твое?..." "И мертвые будут жить..." "Любовь сильнее смерти..." Вот он – тот набор колесиков от карманных часов... А самих-то часов, т. е. жизни, все равно не вернешь... Недуг наметил жертву и взял ее ... это несомненно. А с бессмертною-то любовью как же быть? Или она не нужна? Нужна-то нужна, но не более, чем аккуратному ученику возможность улечься спать спокойно в уверенности, что задача решена им правильно... Да, ответ тот же, что в "Евтушевском": 24 аршина сукна... И только" (с. 40).
Сближение, даже отождествление образа действующего лица с образом создавшего его писателя в его человеческой конкретности заставляет по-новому воспринять и тот и другой – во впечатляющей неожиданности как внутреннего сходства, так и внешних контрастов. "В Аратове расположился старый, больной Тургенев, который инстинктивно боится наплыва жизни... больной, который решил ни на что более не надеяться и ничего не любить – лишь бы можно было работать" (с. 39).
К Тургеневу-Аратову критик строг, даже жесток. Но и Достоевского, своего любимого писателя, он сравнил с одним из самых жалких его героевПрохарчиным ("Достоевский до катастрофы. Господин Прохарчин"). Правда, сперва критик всемерно подчеркивает различие между автором и его персонажем: "Достоевский 1846 г. и его Прохарчин, да разве же можно найти контраст великолепнее?" (с. 34). "Да, вообще, можно ли было, казалось, лучше оттенить свою молодую славу и надежды, и будущее, как не этой тусклой фигурой..." (с. 34). Но, углубляясь в сложный и трагический душевный мир писателя, в его "творческие сны", критик вскоре задает вопрос: "Кто знает: не было ли у поэта и таких минут, когда, видя все несоответствие своих творческих замыслов с условиями для их воплощения, – он, Достоевский, во всеоружии мечты и слова, чувствовал себя не менее беспомощным, чем его Прохарчин?" (с. 35).
Заглавие статьи, посвященной великому норвежскому драматургу и его известнейшему герою, содержит прямое отождествление: "Бранд-Ибсен". В отличие от Блока, видевшего в Бранде фигуру по-настоящему героическую и трагическую, Анненский почти до предпоследней страницы развенчивает, дегероизирует его, доказывая нарочитость его жизненных принципов и поучений, психологическую необдуманность, неправдоподобность ("Бранд плохая кукла, хотя и густо размалеванная" – с. 178; "Бранд героичен до лубочности, до приторности" – с. 179), но под конец, еще иронизируя над стилем Ибсена и еле заметно намекая на биографический факт ранней молодости поэта (его службу в аптеке), признает пленительность допущенного преувеличения, состоящего в том, что "Бранд не боится быть психологической бессмыслицей", и спрашивает: "Но в чем же эта обаятельность пьесы? Из-за чего же, в конце концов, мы так охотно прощаем не только Бранду, что он Бранд, но самому Ибсену его аптекарские рифмы – помните: quantum satis и caritatis, да еще два раза так понравилось?" (с. 179).
Ответ на этот вопрос поставлен в связь с биографической же реминисценцией, с указанием на пору жизни драматурга, когда была создана пьеса, – переход от молодости к зрелости: "Господа, вспомните, когда был написан Бранд? В 1862 г. – Ибсен к этому времени не был юношей – ему стукнуло 33 года, но он еще помнил молодость и, может быть, только тогда свел с ней окончательные счеты. Бранд пленяет нас именно как символ необъятной шири будущего, как последний порыв категорической и безоглядной молодости" (с. 179).
Продолжая оправдание и даже возвеличение Ибсена, "безжалостного к прошлому, неумолимого ко всему, что отживает" (с. 179), и вновь вызывая биографические реминисценции, Анненский опять несколько иронически отзывается о несоответствии между грандиозностью борьбы, задуманной писателем, и провинциальностью окружавшей его обстановки и вновь возвращается к скептическим вопросам, подчеркивая их язвительность разговорной фамильярностью отдельных слов и всего тона и не давая на эти вопросы ответов, даже парируя их новыми вопросами: "... это Ибсен вспоминает о времени, когда он пробовал сталь своих мускулов; это ему, Ибсену, так не терпелось тогда вызвать на борьбу весь мир, – а мир-то был такой маленький – фогт, пробст да кистер – только и всего. А у него-то, у Бранда-то, в груди что было сил, дыханья-то было сколько...
Вы спрашиваете, зачем Бранд убухал материнские деньги на церковь, которую тотчас по ее окончании он не мог не возненавидеть? Ведь понимал же он, куда клонится дело?.. То-то вот куда? Зачем? А Ибсен зачем тратил силы на свои стихотворные пьесы?.." (с. 179-180).
И после еще одного полуиронического абзаца – концовка, утверждающая высокое значение драмы "Бранд" в творчестве ее создателя: "С Брандом Ибсен пережил свой Ветхий завет. Это его-то и засыпало лавиной, этот Ветхий завет. От запрещений и требований поэт уходил к сомненью и раздумью. И Бранд умер на самой грани между задором осужденья и скорбью понимания" (с. 180).
Этот оценочный вывод-заключение оказывается тем более значительным, даже и многозначным, что автор привел к нему читателя после целого ряда иллюстрированных цитатами рассуждений, не только снижавших, даже дискредитировавших образ героя, но ставивших под вопрос и мастерство драматурга в этой пьесе. Неожиданность заключения бросает на все предыдущее новый свет, а это предыдущее все же оставляет на завершающем абзаце как бы тень от облака.
Несколько иначе, чем в статьях о Тургеневе, Достоевском, Ибсене, обстоит дело с образом Гейне в статье "Гейне прикованный (Гейне и его "Романцеро")". Образ Гейне, подобно образу Тургенева в статье о "Кларе Милич", тоже образ умирающего, дан здесь в самом же начале: "Когда при мне скажут "Гейне", то из яркого и пестрого плаща, который оставил нам, умирая, этот поэт-гладиатор, мне не вспоминаются ни его звезды, ни цветы, а лишь странный узор его бурой каймы, и на ней следы последней арены.
Я полюбил давно и навсегда не "злые песни" Шумана, не "Лорелею" Листа, а лихорадочные "Истории" Романцеро.
Когда Гейне писал их, он был уже навсегда прикован к постели
Жизнь Гейне стала в это время, помимо муки, какая-то "отвлеченная"
Жизнь ... но уже навсегда без простора, недвижная и без неба ... Жизнь – готовая уйти гостья... А лес и его никсы – первые музы Гейне?" (с. 153).
"Романцеро" – большой поэтический сборник, а "Истории", составляющие его первую часть, большой цикл стихотворений, где эпическое смешано с лирическим и фантастическим, с иронией, с сатирой. Сюжетов– мифологических, исторических, современных ситуаций, персонажей здесь много, и эссеист, бегло и фрагментарно пересказывая "Истории", изредка цитируя, схватывает – то бегло, то развернуто – черты сменяющихся картин, и ни один из образов он не отождествляет с самим поэтом, но проецирует их на сознание "Гейне прикованного", на его биографический образ, с которым связывается общий трагический колорит цикла. Неслучаен для Аниенского, как для филолога-классика, эпитет "прикованный" в заглавии – слово, двуплановое по вызываемым им ассоциациям: в тексте статьи оно относится к неизлечимой болезни Гейне, к его постели – "матрацной могиле", но в то же время (и к тому же употребленное после имени собственного) напоминает о Прометее, о прикованном к скале титане. Этот оттенок смысла не получает дальнейшего развития, он лишь бросает отсвет на все содержание эссе, усиливая его трагизм. Доказательством того важного значения, какое для критического мастерства Анненского имел образ писателя, служит и начало одной из последних, опубликованных уже посмертно статей "Эстетика "Мертвых душ" и ее наследье". Это довольно короткий очерк, но на его первых страницах большое место уделено передаче рисунка, сделанного в год смерти Гоголя художником Солоницким и изображающего Гоголя в полуреальной, полуаллегорической обстановке – в тот момент, когда догорает в очаге рукопись второго тома знаменитой поэмы. Содержание этого рисунка оказывается ключом, в котором развертывается вся концепция творчества Гоголя и оказанного им влияния на русскую литературу XIX и ХХ вв.
* * *
Когда Анненский-критик обращается к современности – к великим писателям настоящего (как Л. Толстой и М. Горький), к видным представителям литературы (как Л. Андреев), к поэтам большим, средним и малым, он не прибегает к биографическим аллюзиям или реминисценциям. Но личность каждого из авторов, такая, какою она раскрывается в его прозе или стихах, все время привлекает внимание критика, и с нею он соотносит образы произведений. Вот острая, в сущности, парадоксальная характеристика личности Горького, в котором Анненский выделил "его чуткую артистическую природу" (с. 73) и которого он оценил чрезвычайно высоко в идейно-этическом плане (статья "Драма на дне" в цикле "Три социальных драмы"): "Скептицизм у Горького особенный. Это не есть мрачное отчаяние, и не болезнь печени или позвоночника. Это скептицизм бодрый, вечно ищущий и жадный, и при этом в нем две характерных черты. Во-первых, Горький, кажется, никого не любит, во-вторых, он ничего не боится" (с. 77). Если бесстрашие Горького – и философское и гражданское было бесспорным и для друзей и для врагов, то слова об отсутствии любви к людям ("никого не любит") должны были быть неожиданными в суждении о великом гуманисте, превыше всего ставившем человека. Но эти слова тотчас же поясняются, раскрываются тоже в необычном аспекте: "Если художники-моралисты, как нежные матери, склонны подчас прибаловать в неприглядном ребенке выразителя и наследника своей идеи, свою мечту – то у Горького нет, по-моему, решительно ничего заветного, святого, особенно в том смысле, чтобы людей не допускать до созерцания этого предмета. Горький на все смотрит открытыми глазами. Конечно, как знать, что будет дальше? Но покуда до его простой смелости не доскакаться никаким Андреевым с их "безднами" и "стенами"" (с. 77). Неожиданность хода мысли неразрывна с ходом ее изложения, со стилем (который, по формулировке Стендаля, есть "отношение слов к мыслям"), и в конечном итоге выражает признание высокого гражданского значения творчества Горького.
О Горьком Анненский пишет многопланово, акцентируя и сложность внутреннего мира писателя и столкновение в нем противоречивых черт и тем самым проникая в многоплановость, удивительную смысловую насыщенность стиля его творчества, совмещающего, по мнению критика, реалистичность с символизмом: "После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или Островского. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора "Подростка", который говорил когда-то, что в иные минуты самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией" (с. 72). И еще – по поводу персонажей и ситуаций "На дне": "Это внутреннее несоответствие людей их положению, эта жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой душе, придает реализму Горького особо фантастический колорит" (с. 72) {Интересно и знаменательно, что понимание Горького как символиста совпадает у Анненского с пониманием символизма Горьким как явления, не имеющего прямого отношения к литературной школе и широко представленного в мировой литературе, совпадает и с глубокой симпатией Горького к этому явлению. В письме к А. П. Чехову от 5 мая 1899 г. Горький говорит: "Как странно, что в могучей русской литературе нет символизма, нет этого стремления трактовать вопросы коренные В Англии и Шелли и Байрон и Шекспир – в "Буре", в "Сне", в Германии Гете, Гауптман, во Франции Флобер – в "Искушении св. Ант[ония]" – у нас лишь Достоевский посмел написать "Легенду о Великом Инквизиторе", и все. Разве потому, что мы по натуре реалисты? Но шведы по натуре более реалисты, чем мы, и, однако, у них Ибсен, этот Гедберг". Из цитаты явствует, что русский символизм, уже заявивший о себе в то время как литературное направление, Горький при этом не берет в расчет; характерно также, что, подобно Анненскому, он Достоевского также признает символистом. В другом, близком по времени письме к Чехову (январь 1900 г.) он по поводу драмы "Дядя Ваня" отмечает: "...содержание в ней огромное, символическое" (Цит. по кн.: Горький М. Материалы и исследования М.-Л., Изд-во АН СССР, 1936, т. II, с. 189).}.
И, не прибегнув ни к одной биографической аллюзии (даже в связи с затронутым мотивом босячества), строго держась в пределах самого литературного произведения и сказав о том, что "Горький сам не знает, может быть, как он любит красоту" (с. 77), критик останавливается на отдельных персонажах пьесы, цитируя их реплики, а под конец его внимание больше всего привлекает Сатин. Именно с ним, как с апологетом человека, Анненский сопоставляет и самого автора и, приведя большой отрывок из монолога персонажа, завершает свой очерк тревожно-вопросительным раздумьем, ставящим под сомнение хвалы человеку как существу самодовлеющему, и не дает ответа на свой вопрос: "Слушаю я Горького-Сатина и говорю себе: да, все это и в самом деле _великолепно звучит_. Идея _одного_ человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных грудей полетит и взовьется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – все, и что все для него и только для него?.." (с. 81).
Эта концовка чрезвычайно характерна. Мысль критика, вскрывая путем напряженного анализа, иногда – иронического, но чаще всего благожелательного, все разные и новые стороны и в личности писателя и в образах его персонажей, расширяя перспективу и меняя освещение, движется не прямо, а скорее спиралеобразно, возбуждает вопросы и часто оставляет их формально без ответа, и само произведение ретроспективно предстает перед читателем как сложное, динамически колеблющееся целое, как загадка, раскрытая только отчасти, а в значительной мере еще не проясненная.
Чрезвычайно высоко ставя "Власть тьмы" Л. Толстого как художественное целое, где все трагически убедительно и жизненно оправдано, Анненский все же пристально вглядывается в образ создателя, тогда еще живого. Толстой для него – титан-художник, и то, что "Власть тьмы" – произведение, глубоко чуждое, даже враждебное "духу музыки", критерию не только эстетически, но и этически важному для Анненского, – не мешает ему признать драму высоким достижением и даже служит одним из доводов для этого: "Но могла ли проявиться власть музыкальной тайны в той поэзии, которая "Смертью Ивана Ильича" и "Холстомером" показала, что ей не страшна и та загадка, перед которой мы закрываем глаза? Никто не может сказать, конечно, таков ли бывает переход из одного бытия в другое, каким изобразил нам его Толстой в "Смерти Ивана Ильича", но поэт, который приподнимает и это покрывало, что может скрывать от него музыкальное?" (с. 64). Более того, критик утверждает: "Во "Власти тьмы" не только нет музыки, но если отдаться во власть этой драмы, то начинаешь стыдиться самой любви своей к музыке" (с. 64). И далее определение этой драмы как беспощадного образа действительности: "Драма Толстого – это действительность, только без возможности куда-нибудь от нее уйти и за нее не отвечать" (с. 65). Характеристика эта подхватывается и развертывается почти как ораторское построение – в цепи предложений, из которых каждое начинается словами: "Это – действительность..." – и внутри которых данное существительное еще несколько раз повторяется, чем и создается эмоциональное нагнетание большой силы (см. с. 65).
Анненский всматривается и в образы персонажей – особенно в образы Акима, непротивленца, и Митрича, натерпевшегося в армии порки. И образ Акима, как носитель мотива непротивления, наводит на мысль о противоречии между личностью Толстого, великого писателя, и толстовством– как учением, как догмой, неприемлемой для критика ("Толстой создал толстовщину, которая безусловно ниже даже его выдумки" – с. 68). Потом возникает новый образ писателя, основанный на общеизвестных данных его нравственно-религиозного учения, образ, овеянный явным сарказмом: "... ересиарх с Тишендорфом в руках, Штраусом на полке и Дарвином под столом; ересиарх этот, вместо книги, которая обросла вековым воспоминанием о поднятых из-за нее подвигах, сомнениях и муках [т. е. Евангелия. – А. Ф.], дает людям чистенький химический препарат" (с. 68). Но и это – не окончательный портрет. Признавая в Акиме носителя толстовской идеи непротивления злу, Анненский все же задает вопрос: "Все ли слова автора "Власти тьмы" сказал его Аким?" (с. 70), т. е. находит недоговоренность в его речи, а в "чадных словах унтера" – Митрича видит "замаскированную речь Толстого". И вот окончательная характеристика смысла драмы, как драмы самого Толстого: "Сквозь Митрича я вижу не ересиарха, я вижу и не реалиста-художника. Я вижу одно глубокое отчаяние". Сквозь поступки и речи действующих лиц – "фантошей", созданных автором, проступила трагедия самого творца, его сомнения в самом себе, и именно это тоже ретроспективно – придало пьесе напряженнейший смысл, высветив трагизм и самой действительности, отображенной художником, и его собственных мучительных противоречий в отношении к ней.
* * *
Среди статей Анненского есть две работы – "Бальмонт-лирик" и "О современном лиризме", занимающие особое место и существенно отличающиеся (особенно вторая) от огромного большинства других, посвященных как писателям прошлого, так и современным. Каждая из тех статей в своем роде монографична, так как отличается единством предмета – часто говорит об одном произведении, будь то "Странная история" Тургенева ("Белый экстаз") или "Преступление и наказание" Достоевского ("Искусство мысли"), а то даже и об одном персонаже, будь то Гамлет ("Проблема Гамлета") или Бранд ("Бранд-Ибсен"), реже об определенной проблеме творчества писателя, в свете которой объединяются статьи об отдельных его произведениях ("Проблема гоголевского юмора" – о повестях "Нос" и "Портрет"; "Достоевский до катастрофы"), и в единичном случае – об общеэстетических категориях, связывающих произведения нескольких авторов ("Изнанка поэзии"). Между тем обе статьи о поэзии современной, так сказать, проблемно-обзорны и многообъектны. Правда, статья "Бальмонт-лирик" посвящена творчеству только одного поэта, но творчеству его в целом, притом – как творчеству одного из представителей новейшей русской поэзии, лирика плодовитого, развивающего в своих стихах разнообразные мотивы и применяющего богатый арсенал выразительных средств.
Не случайно поэтому содержание и построение статьи: вначале размышление о том, как русское общество в лице литературной критики относилось и относится к художественным достоинствам поэзии, недооценивая их или пренебрегая ими, и об "особенно интересных попытках русских стихотворцев последних дней", которые "заставили русского читателя думать о языке как об искусстве" (с. 96). И далее – демонстрация образцов лирики Бальмонта, и не столько анализ, сколько комментарий к ним, вернее даже – обращение к читателю, перед которым критик защищает поэта, отстаивая его право на самоутверждение, каким бы горделивым самолюбованием оно ни казалось, как бы оно ни эпатировало равнодушных или враждебных; от их имени он задает вопросы и сам на них отвечает. Так, по поводу программного и знаменитого в свое время стихотворения "Я – изысканность русской медлительной речи": "Читатель, который еще в школе затвердил "Exegi monumentum", готов бы был простить поэту его гордое желание прославиться: все мы люди, все мы человеки, и кто не ловил себя на мимолетной мечте... Но тут что-то совсем другое. Г. Бальмонт ничего не требует и все забирает... По какому же праву? Но, позвольте, может быть, я – это вовсе не сам К. Дм. Бальмонт под маской стиха. Как не он? Да разве уклоны и перепевы не выписаны целиком в прозе предисловия к "Горящим зданиям"? А это уже, как хотите, улика. Разве что, может быть, надо разуметь здесь Бальмонта не единолично, а как Пифагора, с его коллегием. Как бы то ни было, читатель смущен. А тут еще "все другие поэты предтечи". Что за дерзость, подумаешь!.. Пушкин, Лермонтов... Но всего хуже эта невыносимая для нашего смиренства самовлюбленность.
Сильный тем, что влюблен
И в себя, и в других. Зачем в себя?
Для людей, которые видят в поэзии не пассивное самоуслаждение качанья на качелях, а своеобразную форму красоты, которую надо взять ею же возбужденным и настроенным вниманием, _я_ г. Бальмонта не личное и не собирательное, а прежде всего наше _я_, только сознанное и выраженное Бальмонтом" (с. 98-99).
Стиль, как явствует из цитаты, тот же, что и в других статьях, – та же непринужденность, разговорность, почти фамильярность. Но если в других статьях преобладает размышление, хотя и обращенное к читателю, но предполагающее согласие с ним, то здесь – пафос настойчивого доказательства и разъяснения, стремление убедить читателя в праве поэта на создание собственного образа или разных образов, а также – на творчество в области речи, на различные формальные новшества, заключающиеся прежде всего в применении еще не использованных возможностей языка и оправдываемые их необходимостью в данном стихотворении. Истолковывая строку из той же лирической пьесы, к которой относится приведенная только что выдержка: "Переплеск многопенный, разорваннослитный", критик говорит: "Не проще ли: _море-горе, волны-челны_"? Катись, как с горы. Да, поэт не называет моря, он не навязывает нам моря во всей громоздкости понтийского впечатления. Но зато в этих четырех словах символически звучит таинственная связь между игрою волн и нашим _я_. _Многопенность – это налет жизни_ на тайны души, _переплеск – беспокойная музыка творчества_, а _разорванная слитность_ наша невозможность отделить свое я от природы и рядом с этим его непрестанное стремление к самобытности" (с. 99).
Статья полна таких истолкований, заставляющих вдумываться в смысл и назначение формальных средств, к которым прибегает поэт, и вводимых им образных иносказаний. При этом критик много цитирует, приводя и целые стихотворения, и целые строфы, и отдельные стихи, а то и словосочетания. Разнообразие мотивов и формальных средств у Бальмонта велико, и тем самым анализируемое критиком творчество поэта, представленное примерами из разных сборников, выступает во всем многообразии деталей. Аналитичность усиливается к концу статьи. Все же, несмотря на множественность проявлений творческого облика Бальмонта и стилистических средств его лирики, несмотря на несколько внезапный, как бы оборванный конец (цитата из книги французского историка литературы), статья все же сохраняет единство – благодаря единству ее "героя", которым является сам поэт в разных гранях его творчества. Фактором единства, противостоящим многообъектности этого эссе, является, конечно, и присущий Анненскому стиль.
Менее похожа на все другие статьи Анненского его последняя, предсмертная критическая работа – "О современном лиризме". Она и по размерам больше всех остальных, и в ней показана обширнейшая галерея современных русских поэтов. Цитат в ней так много, как ни в одной другой из статей. Приступая к ее сочинению, Анненский в письме к редактору "Аполлона" С. Маковскому сообщал, что вся она будет состоять из цитат. Дело, конечно, не ограничилось цитатами: предваряющий цитату или следующий за ней текст самого Анненского занимает немалое место и играет определяющую роль как истолкование цитаты и как характеристика автора. Но обилие и смена литературных "портретов", сперва – развернутых, потом – все более сжатых, а под конец опять несколько расширенных характеристик лириков-современников создает своего рода мозаичность целого и известную прерывистость изложения при переходах от одного портрета к другому, порою же и в пределах характеристики одного автора, когда критик словно перебивает себя сам, 1909 год – время продолжающегося и усиливающегося кризиса русского символизма, широко обсуждаемого в критике, и Анненский в самом начале статьи снисходительно-иронически вспоминает о дебютах первых русских модернистов, о некоторых излюбленных образах их тогдашней поэзии, ныне забывающихся и не волнующих: "Жасминовые тирсы наших первых менад примахались быстро. Они уже давно опущены и – по всей линии Три люстра едва прошло с первого Московского игрища, а как далеко звучат они теперь, эти выкликания вновь посвященной менады!.. "Серебрящиеся ароматы" и "олеандры на льду" – о, время давно уже смягчило задор этих несообразностей" (с. 328-329).