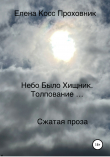Текст книги "Стиль и композиция критической прозы Иннокентия Анненского"
Автор книги: Андрей Федоров
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Федоров А В
Стиль и композиция критической прозы Иннокентия Анненского
А.В.Федоров
Стиль и композиция критической прозы Иннокентия Анненского
Идейное содержание, метод, эстетическое своеобразие во всяком подлинно художественном произведении литературы составляют органическое единство. Это положение полностью применимо к наследию Анненского в области прозы – его статьям о творчестве русских и западноевропейских авторов: они – не только памятник литературно-критической мысли, но и художественное целое.
Индивидуально-художественное своеобразие отличало критическую деятельность и других современников Анненского символистского и вообще модернистского направлений, в том числе поэтов. И естественно, что это эстетическое начало проявлялось в критике по-разному, т. е. в разном соотношении с чертами дискурсивно-логического подхода к анализу литературы классической ли, современной ли.
В прояснении той общей картины, которую составляла русская критика конца 90-х годов и начала XX в. и которая до последнего времени была в общем мало изучена, большая заслуга принадлежит Д. Е. Максимову. В своем труде о творчестве Блока {Там же, с. 183-221, 221-239.} (во второй его части "Критическая проза Блока") он посвятил этой задаче две специальные главы "Литературное окружение" и "Кризис в критике" {Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.: Советский писатель, 1975.}. Здесь впервые обобщающим образом, в результате глубокого исследования огромного материала, охарактеризованы в качестве критиков видные поэты-современники Анненского – Валерий Брюсов, Андрей Белый, Вяч. Иванов, К. Бальмонт и другие, а также представители иных литературных направлений, как близких к символизму, так и не соприкасавшихся с ним. Критическая проза А. Блока, являющаяся основным предметом внимания автора, изучена в книге с исчерпывающей полнотой. При этом автор все время имеет в виду и идейные позиции критиков и их стилистическую манеру. Об Анненском здесь говорится сравнительно немного, но сказанное о его современниках, в особенности же все относящееся к Блоку, помогает уяснить характер Анненского-критика, как в его отличиях от них, так и в том, что его с ними сближает. И наибольшая общность может быть констатирована между Анненским и Блоком.
По сравнению с критиками и теоретиками из лагеря символизма (и вообще модернизма) их обоих сближает тенденция к проникновению в социально-психологический смысл образов литературных произведений, их гуманистическая трактовка, и обоим чуждо специально-эстетическое (как у Брюсова – особенно в ранних статьях) либо абстрактно-философское или же мистическое их истолкование (как у А. Белого, Вяч. Иванова, Мережковского). Вместе с тем сформулированное Д. Е. Максимовым положение о том, что "символистская критика в своем господствующем русле стремилась превратиться в особый вид словесного искусства – стать _поэтической_, эстетизированной критикой" {Максимов Д. Указ. соч., с. 191. Курсив автора.}, более всего применимо именно к Блоку и Анненскому. Обоим чужды и чуть суховатая, сжатая деловитость высказываний Брюсова (особенно более поздних), и стилистическая размашистость Андрея Белого, перегруженность его статей и рецензий философской эрудицией, обилие в них разнообразных терминов, эксцентрическая порой парадоксальность образов, и сложный синтаксис и торжественный, поучительный, временами – чуть ли не жреческий тон критических выступлений Вяч. Иванова, и полная "красивостей" помпезная декларативность критической прозы Бальмонта.
Надо при этом со всей решительностью оговорить, что художественность критики, тенденция к ее эстетизации ни для Блока, ни для Анненского, ни для других названных писателей, кроме разве Бальмонта, не была чем-то самодовлеющим. Не была она и добавочным, усиливающим средством выразительности. Специфическая художественность формы критической прозы вытекала из полноты интеллектуальных и эмоциональных переживаний, вызванных литературными творениями, стремлением говорить о них на их языке или в меру возможности приблизиться к нему, заразить своими впечатлениями читателя. Надо еще при этом и подчеркнуть, что принципы "искусства для искусства" тут были ни при чем. К ним Анненский, хоть он и не избежал известных колебаний в поисках ответа на вопрос о назначении искусства, относился, как мы знаем, отрицательно {См. выше статью И. И. Подольской – с. 503-504.}. Здесь черта, тоже сближающая автора "Книг отражений" с Блоком, для которого искусство было неотъемлемо от жизни, "нераздельно", хоть и "неслиянно" с нею.
Важно еще и другое. Анненского роднит с критиками-символистами и шире модернистами – одна общая особенность, отличающая их от консервативных и либерально-буржуазных историков литературы и критиков начала века. Если те, как правило, обращались прежде всего к прагматическому "прямому" смыслу изображаемого, то Анненского и ближайших к нему по духу критиков (а среди них более всего Блока) привлекал внутренний мир писателя (нередко и в связи с биографическими реминисценциями) и глубинный смысл произведения, устанавливавшийся на основании многозначимости, емкости художественного слова во всем диапазоне его образных и эмоциональных ассоциаций. Для Анненского – критика и эссеиста, так же как и для Блока, характерен интерес к трагически противоречивым переживаниям писателя и его героев (высказывания их обоих о Достоевском, о Гейне, об Ибсене, статьи Анненского о Тургеневе, о "Гамлете" и мн. др.). Это отражает присущий как им обоим, так и В. Брюсову и Белому пафос неприятия той действительности против которой восстают или которую болезненно воспринимают их любимые авторы. Общее у обоих с современниками-символистами – увлечение и Достоевским и Гоголем (вспомним этюд Брюсова о Гоголе "Испепеленный", многочисленные работы Белого о Гоголе).
Анненский, как и другие критики на рубеже XIX и XX столетий писал о поэтах, прозаиках, драматургах, которые были его современниками, – о Л. Толстом, Чехове, Горьком, Л. Андрееве, Бальмонте и других русских лириках, из зарубежных авторов – об Ибсене. Но и о классиках недавнего прошлого он тоже высказался не как историк литературы, а скорее как критик, потому что это недавнее прошлое оставалось исторически еще очень близким, представлялось вчерашним днем: ведь Анненский был на похоронах Тургенева, присутствовал на литературных вечерах с участием Достоевского, и о произведениях этих писателей он судит почти так, как критики-современники. К этому же близкому прошлому русской литературы тянулись живые нити от книг классиков середины XIX в. – Лермонтова и Гоголя. И к ним Анненский обращается тоже не как исследователь-историк, а как критик, встревоженный тем вопросами, которые встают для него в их сочинениях и наполняются жгучим смыслом. Так относились к великому наследию XIX в. и Брюсов и Белый, и Блок.
Что касается аналогии между Анненским и Блоком, то она может быть прослежена и далее: занимаясь произведениями литературы, современной ли, классической ли, они никогда не вуалируют, не маскируют своего глубоко личного отношения к ней, более того – они всегда его подчеркивают. Что до Анненского, то субъективность критика по отношению к литературе, личный тон в ее оценках – черта, прямо заявленная в предисловиях к обеим "Книгам отражений", представляющим наиболее яркое и цельное проявление его творчества в этой сфере, и сказанное им здесь может быть распространено также на ряд статей, опубликованных ранее, и на все, созданное им в жанре критических эссе позднее. В предисловии к первой "Книге отражений" он признается: "Я... писал здесь только о том, что мной _владело_, за чем я _следовал_, чему я _отдавался_, что я хотел сберечь, сделав собою . Я брал только то, что чувствовал выше себя, и в то же время созвучное" (с. 5). И еще – в предислови ко "Второй книге отражений": "Мои отражения сцепила, нет, даже раньше их вызвала моя давняя тревога" (с. 123).
Для этого подчеркнуто личного, глубоко искреннего, открыто субъективного тона (выраженного, может быть, еще более резко, чем у Блока неслучаен такой формальный признак стиля, как постоянное употреблены местоимения "я" (и его падежных форм), а также производных от нег притяжательных. К официально академическому "мы" (вместо "я") критик не прибегает. Он говорит от своего лица, от своего имени. Но отсюда более чем отрометчиво было бы делать вывод о некоем эгоцентризме, самолюбовании, противопоставлении себя – прочим (как это часто например, бывало у Бальмонта – не только в лирике, но и в жанре эссе) или хотя бы о нарочитой сосредоточенности на самом себе, на собственных впечатлениях и переживаниях. И недаром предисловие ко "Второй книге отражений" открывается словами: "Я пишу здесь только о том, что все знают, и только о тех, которые всем нам близки. Я отражаю только то же, что и вы" (с. 123). Критик не отграничивает себя от своих читателей и если не всегда приравнивает себя к ним, то всегда стремится к ним приблизиться. Не случайно во многих местах критических статей Анненского, как и в приведенной сейчас цитате, присутствует доверительное обращение к читателю – и слушателю и собеседнику. Местоимение "вы" так же часто в его речи, как и "я", с которым оно постоянно связано. Это – два элемента одного единства. А если критик и говорит иной раз "мы", то это местоимение подлинно собирательно: он имеет в виду и себя и своих читателей, своих соотечественников-современников.
В этом прочном единении с читателем заключалась несомненная сила прозы Анненского. Но была у нее и слабая сторона – ограниченность того общественного резонанса, на который она могла рассчитывать, узость рамок, в которые ее замкнула воля автора. И сравнение с критической прозой Блока заставляет резче увидеть – наряду с элементами общности – и существенные черты различия. Они касаются идейного и тематического масштаба их критических сочинений. Блок, выступая как страстный публицист, посвящал свои статьи и путевые очерки не только литературе, театру, изобразительным искусствам, но и большим политическим и историко-философским темам, затрагивал события современной жизни, ставил широкие общие проблемы и в свете их характеризовал и оценивал произведения литературы и живописи (статьи о Л. Толстом и о Врубеле), состояние театра ("О театре", "О драме"), творчество артиста (статьи о Комиссаржевской), и это придавало его высказываниям особую современность; все они проникнуты чувством исторического движения, совершающегося в настоящем. Анненский же выступал только как литературный критик-эссеист. Его критическая проза носит более камерный характер, обращена к более узкому кругу читателей, посвящена духовному миру писателей и перипетиям и переживаниям их героев – как социально обусловленным, но рассматриваемым в более ограниченном масштабе морально-этических категорий.
Критическая проза Анненского остро отражает тревогу современного ему русского человека, но связь этой тревоги с социально-политическими; и историческими фактами не подчеркивается, а намечается лишь пунктирно путем мимолетных упоминаний (вроде упоминания о революции 1905 года в статье "О современном лиризме", о "тех девушках", т. е. девушках-революционерках, в "Белом экстазе", где они противопоставлены тургеневской героине, приносящей бесплодную жертву ради жертвы) или угадывается скорее в подтексте (как в "Драме настроений" – о чековских "Трех сестрах" или в "Драме на дне" – о горьковской пьесе). Тема же приближающихся грандиозных исторических перемен и потрясений, так сильно приковывавшая внимание Блока, у Анненского еще встает.
Эта камерность, это сужение проблемного диапазона и явились причиной того, что критическая проза Анненского осталась столь мало замеченной современниками, что ей в этом отношении повезло меньше, чем его лирическому наследию. Но и Блок, говоривший с современниками гораздо более громким и властным голосом, тоже ведь, как критик и публицист, не был должным образом понят и оценен ни современниками, ни критиками, писавшими о нем в первые десятилетия после его смерти. Выступления того и другого (в области прозы) заслонили, заглушили более шумные, многословные, вызывавшие больший эффект, внешне более импозантные литературно-критические сочинения А. Белого, Вяч. Иванова, Акима Волынского и других. Затенил их и высокий академический авторитет Брюсова как строгого ценителя литературы.
Наше современное литературоведение среди ряда насущно важных проблем поставило и вопрос о критике как литературном творчестве {См.: Бурсов Б. И. Критика как литература. Л., 1976.}. Обостряется интерес к художественной индивидуальности критика и писателя и к ее соотношению с личностью писателя, о котором он говорит. Не случайно, что критическая проза Блока ныне восстановлена в своих исторических и художественных правах. Хочется надеяться, что заслуженное, хоть и позднее признание придет к Иннокентию Анненскому как критику. Наша современность сможет оценить глубину и сложность критической прозы и верно понять ее противоречия.
* * *
Критическая проза Анненского – это проза поэта. В отдельные моменты она перекликается с определенными местами его поэзии (в общем это бывает не столь уж часто – и, по-видимому, значительно реже, подобные переклички между поэтическим и критическим творчеством встречаются у Блока {См.: Поцепня Д. М. О единстве эстетических свойств слова в поэзии и прозе А. Блока. – В кн.: Вопросы стилистики. Межвузовский научный сборник. Саратов, 1972, вып. 4, с. 74-84.}). Вот некоторые выборочные примеры таких отдельных совпадений.
В стихах Анненского часто субстантивируется местоимение _я_, например, в следующих случаях: "И нет конца и нет начала / Тебе, тоскующее _я_" (стих. "Листы"); "А где-то там мятутся средь огня / Такие ж _я_ без счета и названья" (стих. "Гармония"), и субстантивации же подвергается иногда противопоставляемое ему образование _не-я_: "Но в самом _я_ от глаз – _не-я_ / Ты никуда уйти не можешь" (стих. "Поэту"). То же можно видеть и в его прозе – например: "Здесь, напротив, мелькает _я_ которое хотело бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нем, _я_ – замученное сознанием своего безысходного одиночества ; _я_ в кошмаре возвратов, под грузом наследственности, я – среди природы, где, немо и незримо упрекая его, живут такие же я, я среди природы, мистически ему близкой и кем-то больно и бесцельно сцепленной с его существованием. Для передачи этого я нужен более беглый язык намеков, недосказов, символов..." (с. 102). Или: "Но Леонид Андреев и заговорил-то лишь полюбив природу, _не-я_, исполнив это _не-я_ мистической жизни" (с. 149).
Перекликаются и образы лирики и прозы. Так, стихотворение "Зимний поезд" завершается строфами:
Но тает ночь... И дряхл и сед,
Еще вчера Закат осенний,
Приподнимается Рассвет
С одра его томившей Тени.
Забывшим за ночь свой недуг
В глаза опять глядит терзанье,
И дребезжит сильнее стук,
Дробя налеты обмерзанья.
Пары желтеющей стеной
Загородили красный пламень,
И стойко должен зуб больной
Перегрызать холодный камень.
А в предпоследнем абзаце статьи "Проблема Гамлета" проходят некоторые из этих же образов:
"Это бывает похоже на музыкальную фразу, с которою мы заснули, которою потом грезили в полусне... И вот она пробудила нас в холодном вагоне, но преобразив вокруг нас всю ожившую действительность: и этот тяжелый делимый нами стук обмерзших колес, и самое солнце, еще пурпурное сквозь затейливую бессмыслицу снежных налетов на дребезжащем стекле... преобразило... во что?" (с. 172).
Последняя строфа стихотворения "Листы" начинается строками:
Иль над обманом бытия
Творца веленье не звучало...
И сочетание "обманы бытия" проходит в последнем абзаце статьи "Гейне прикованный" (соответствующую цитату см. ниже – с. 161).
Отзвук стихотворения "Молот и искры" (1901), где есть строки:
Молот жизни мучительно, адски тяжел,
И ни искры под ним красоты,
внезапно возникает на одной из последних страниц статьи "О современном лиризме" (1909), где сказано: ... "задайтесь вопросом, точно ли Красота радость для того сердца, откуда молот жизни выбивает искры" {См. "Аполлон", 1909, э 3, с. 28.}.
Совпадения, подобные приведенным, конечно, неслучайны, поскольку ими затрагиваются словесные элементы, обозначающие важные для Анненского понятия (_я_ и _не-я_, "обманы бытия") или воплощающие поразившие его впечатления от окружающего мира. И все же, как бы интересны ни были сами по себе эти совпадения, не они играют определяющую роль для неповторимого поэтического характера прозы Анненского. Этот ее характер обусловлен прежде всего той глубокой и неподдельной искренностью тона, какая свойственна и лирике поэта, и выражается он в особом, лично окрашенном образном строе и в специфической ассоциативной связи образов Анненского, часто имеющих символический оттенок и входящих в общую многоплановую структуру той или иной статьи, того или иного эссе. Лирику и критическое творчество Анненского роднит именно их ярко выраженная смысловая многоплановость – то свойство художественной речи, которое, принимая у каждого писателя разные формы, проявляется в том, что слова в своей совокупности говорят нечто большее, чем их прямые или традиционно-переносные значения вместе взятые, что в них заложена возможность нескольких, пусть даже не вытесняющих друг друга, а сосуществующих осмыслений. По поводу этой черты как особенности речи стихотворной Анненский высказался сам в статье "О современном лиризме": "Мне вовсе не надо обязательности одного и общего понимания. Напротив, я считаю достоинством лирической пьесы, если ее можно понять двумя или более способами, или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно самому. Тем-то и отличается поэтическое словосочетание от обыденного, что иногда какой-нибудь стих задевает в вашем чувствилище такие струны, о которых вы и думать позабыли" (с. 333-334).
Эта мысль может быть распространена не только на лирику, о которой здесь говорится, но и на прозу, как повествовательную, так и критическую, если она подлинно художественна. Но при этом необходимы уточняющие оговорки: затронутая черта художественной речи – отнюдь не результат разных читательских восприятий одного и того же произведения, а нечто присущее самой его ткани и отражающее определенный и широко распространенный тип художественного мышления; "мысленное доделывание" произведения совершается не по произвольной инициативе читателя, а в силу импульсов, идущих от прочитанного и предопределенных волей автора {См. об этом работы Б. А. Ларина "О разновидностях художественной речи" и "О лирике как разновидности художественной речи" в сборнике его статей "Эстетика слова и язык писателя" (Л., 1974) и в моей вступительной статье к названной книге: "Б. А. Ларин как исследователь языка художественной литературы". О смысловой многоплановости в стиле лирики Анненского подробнее см. в моей статье "Поэтическое творчество Инн. Анненского". – В кн.: Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1959, с. 46 и далее.}.
Не случайно поэтому для мастера многопланового слова, каким был Анненский, что художественное целое – будь то стихотворение или критическое эссе – не дает точных и определенных решений, а само возбуждает тревожные и отнюдь не риторические вопросы, т. е. такие, которые допускают неоднозначные ответы. И. И. Подольской (см. ее статью, с. 539) принадлежит указание на сходство концовок ряда стихотворений и статей Анненского, содержащих вопросы или полувопросы, намеки на догадку, недомолвки. Вот, например, окончание статьи "Гейне прикованный (Гейне и его "Романцеро")": "Неужто же точно не только Вицли-Пуцли – сказка, но некому слушать и этих благородных испанцев, потому что там ... ничего нет?
Неужто негодование и ужас, неужто желание отметить за свою никому не нужную измученность, за все обманы бытия – это все то, что остается исходящему кровью сердцу"? (с. 161).
Или предпоследний абзац статьи "Нос" (К повести Гоголя): "Это – не только конец повести, но и ее моральная развязка. Если только представить себе этих двух людей, т. е. майора и цирульника, которые, оглядываясь на пропасть, чуть было не поглотившую их существований, продолжают идти рука об руку. Куда? Зачем? Да и помимо этого, господа. Неужто правда прекрасна только, когда она возвращает Лиру его Корделию и Корделии ее Лира?" {Речь идет о сцене, когда Иван Яковлевич вновь бреет Ковалева после того, как к нему вернулся его нос.} (с. 39).
Или – подчеркнутая недоговоренность в конце статьи "Власть тьмы": "Вот она, черная бездна провала, поглотившая все наши иллюзии: и героя, и науку, и музыку... и будущее... и, страшно сказать, что еще поглотившая..." (с. 71).
Или – в последнем же абзаце "Виньетки на серой бумаге к "Двойнику" Достоевского" сперва ряд вопросов, а затем – после нескольких коротких фраз, обращенных автором к самому себе, далее же – рисующих обрывки картины ненастной петербургской ночи, недосказанность разгадки, перед которой автор останавливается в удивлении: "Что же это? Ночь или кошмар? Безумная сказка или скучная повесть, или это – жизнь? Сумасшедший – это или это он, вы, я? Почем я знаю? Оставьте меня. Я хочу думать. Я хочу быть один... Фонари тонут в тумане. Глухие, редкие выстрелы несутся из-за Невы, оттуда, где "Коль славен наш господь в Сионе". И опять, и опять тоскливо движется точка, и навстречу ей еще тоскливее движется другая. Господа, это что-то ужасно похожее на жизнь, на самую настоящую жизнь" (с. 24).
Все эти вопросы, полувопросы, недомолвки, полувыраженные догадки – итог сложного пути развертывания и переплетения мыслей и образов, в которых критиком отражены (именно отражены, как он это настойчиво подчеркивал в предисловиях к "Книгам отражений") и преломлены особенности произведений литературы, выявлена многоплановость их смысла. Не только у Достоевского и Гоголя, Лермонтова, Льва Толстого, Тургенева, но и у Гончарова, чьи романы в общепринятой трактовке получали однозначное раскрытие, или в реалистической социальной драме Писемского он открыл глубины, ранее не замечавшиеся. При всей нарочито акцентируемой субъективности тона литературных высказываний Анненского он в творчестве каждого автора, в каждом анализируемом произведении стремился вскрыть объективно новое, до него не привлекавшее внимания, проникнуть и в замысел писателя к в подтекст его создания, органически и иногда неожиданно связывая последнее с его человеческим обликом, с его биографией. "Меня интересовали не столько объекты и не самые фантонш, сколько творцы и хозяева этих фантошей" – сказано в предисловии к "Книге отражений" (с. 5).
Галерея авторов ("творцов и хозяев фантошей") и их персонажей ("самих фантошей"), таким образом, обширна и разнообразна. Проникая в своеобразие каждого из них, критик стремится и к своеобразию в речевых средствах их обрисовки. И здесь выявляется еще одна черта, отчасти роднящая критическую прозу Анненского с его поэтическим творчеством, но по сравнению с последним выступающая еще более отчетливо. В стихах Анненского (преимущественно в сборнике "Кипарисовый ларец"), наряду с голосом самого лирика, звучат иногда и голоса определенных персонажей, отнюдь не тождественных автору – будь то продавец воздушных шаров, зазывающий публику и рекламирующий свой товар (стихотворение "Шарики детские" в "Трилистнике балаганном"), или герой-монологист стихотворения "Прерывистые строки", проводивший на поезд свою подругу, с которой он обречен жить в разлуке, или супружеская чета, обменивающаяся раздраженными репликами, которые перемежаются выкриками торговцев (стихотворение "Нервы" в цикле "Разметанные листы"), или участники трагического диалога в стихотворении "Милая" ("Складень романтический"), и др. В критической прозе поэта слышится много больше голосов.
Образ автора-критика или, вернее, разные образы тех монологистов, которые в данный момент ведут у Анненского речь, часто сменяются. Перед нами, правда, чаще всего тот, в ком мы имеем основание видеть реального автора, размышляющего, вспоминающего о виденном и пережитом им самим, ставящего читателю тревожащие его самого вопросы, но довольно часто перед нами также – пестрые и многообразные лики тех действующих лиц, о которых или за которых он начинает говорить – будь то майор Ковалев из "Носа", или господин Прохарчин из одноименной повести Достоевского, или Аратов из тургеневской "Клары Милич". Иногда – это писатель, о котором сейчас говорит критик и чьи мысли и переживания он пытается разгадать, начиная рассуждать (пусть и в третьем лице) как бы от его имени – касается ли дело Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова, Ибсена. И, наконец, нередко это словно бы некто, наблюдающий со стороны, но с близкого расстояния, созерцатель изображенных людей и их поступков, то удивленный, то настороженный, всегда внимательно присматривающийся к ним.
Это многоголосие, смена образов говорящего (а речь Аниенского-критика прежде всего живая, рассчитанная на произнесение, отнюдь не книжная речь) вызывает непрерывную смену точек зрения на тот или иной мотив, то или иное действующее лицо, и этой сменой ракурсов, многосторонностью освещения обусловливается своего рода колебание и углубление всей перспективы, в которой нам предстают создания творчества, – особенность, стоящая в тесной связи с общей смысловой многоплановостью, характерной для Анненского и как для лирика и как для критика.
Критик оказывается своеобразным драматургом – создателем театра одного актера: там, где он мыслит или говорит за кого-либо из персонажей или за писателя, он, перевоплощаясь в его образ, создает и целые монологи, входящие в состав роли (точнее – речевой партии), которая исполняется уже не в самом произведении, а в статье-эссе Анненского, но может включать в себя иногда и прямые цитаты. Эмоционально-стилистический диапазон этих монологов широк: в них и тревога предположений, и пафос утверждений, и лиризм раздумий и созерцаний, и бытовой интеллигентский говорок, и просторечие, изредка и косноязычное бормотание, и непринужденная естественность, разговорная простота, и лирическая задушевность. Примечателен конец статьи "Юмор Лермонтова", завершающей цикл-триптих "Изнанка поэзии". Речь сперва о Лермонтове идет в третьем лице. А затем, сопоставив его с Гоголем и с Достоевским и противопоставив Печорина "Башмачкиным и Голядкиным", Анненский неожиданно переходит на прямую речь от первого лица, и оказывается, что это – речь от лица Лермонтова, включающая при этом знаменитые лермонтовские образы, но не в форме прямых цитат:
"Люблю ли я людей или не люблю? А какое вам, в сущности, до этого дело? Я понимаю, что вы хотите знать, люблю ли я свободу и достоинство человека. Да, я их люблю, потому что люблю снежные горы, которые уходят в небо, и парус, зовущий бурю. Я люблю независимость, не только свою, но и вашу, а прежде всего независимость всего, что не может сказать, что любит независимость. Оттого я люблю тишину лунной ночи, так люблю и так берегу тишину этой ночи, что, когда одна звезда говорит с другой, я задерживаю шаг на щебне шоссе и даю им говорить между собою на недоступном для меня языке безмолвия. Я люблю силу, но так как вражда часто бессмысленна, то противоестественно и ее желать и любить. Какое право, в самом деле, имеете вы поить реку кровью, когда для нее тают чистые снега? Вот отчего я люблю силу, которая только дремлет, а не насилует и не убивает... Что еще? Смерть кажется мне иногда волшебным полуденным сном, который видит далеко, оцепенело и ярко. Но смерть может быть и должна быть и иначе прекрасной, потому что это – единственное дитя моей воли, и в гармонии мира она будет, если я этого захочу, тоже золотым светилом. Но для этого _здесь_ между вами она должна быть только _деталью_. Она должна быть равнодушная" (с. 140).
* * *
Прозу Анненского с его лирикой роднит еще одна принципиально важная черта – насыщенность конкретными образами окружающего мира, образами людей и вещей (вещей – в широком смысле, будь то облака, звезды, цветы или предметы бытовой обстановки). Свою работу о поэзии Анненского Л. Я. Гинзбург назвала "Вещный мир" {См. ее книгу "О лирике". 2-е изд. Л., 1974.}. В статьях и эссе поэта тоже живет этот вещный мир. О писателях и их героях он говорит конкретно-образно, воссоздавая то особенности внешности и одежды, то вещественные детали фона, на котором выступают их фигуры, воспроизводя ситуации, в которых они действовали или которые связываются с ними в воспоминаниях критика. И все это – в постоянном сплетении с высказываниями более общего порядка, касающимися и абстрактных категорий – философских и морально-этических. Мир духовный и мир вещный у Анненского прочно сцеплены, тесно взаимосвязаны, и их связям органически соответствует характер лексики, сочетающей в себе слова и отвлеченного и конкретного вещественного содержания (с преобладанием последних, которые, впрочем, нередко подготавливают почву и для выражения абстрактных понятий).
Необходимы примеры. Статья "Достоевский" (1906) начинается с воспоминания о писателе, причем, однако, автор сразу подчеркивает, что будет рассказывать не о личном знакомстве, а о впечатлении, полученном с расстояния:
"Я помню Достоевского в его последние годы. Много народу бегалок нему тогда в Кузнечный переулок, точь-в-точь как недавно еще досужие велосипедисты разыскивали на Аутке Чехова, как ездят и теперь то в Ясную Поляну, то к кронштадтскому протоиерею.
По недостатку литературного честолюбия я избежал в свое время соблазна смотреть на обои великих людей, и мне удалось сберечь иллюзию поэта-звезды, хотя, верно, уж я так и умру, не узнав, ни припадал ли Достоевский на ногу, ни как он пожимал руку, ни громко ли он сморкался" Я видел Достоевского только с эстрады и потом в гробу. Но зато" я его слышал.
В последние годы он охотно читал обоих "Пророков", особенно пушкинского" (с. 237).
Начало это – нарочито-прозаическое, местами даже приземленно грубоватое (конец второго абзаца). Затем следует детально точное описание того, как Достоевский выходил на эстраду, скупые штрихи внешности, передача смутных уже впечатлений от чтения стихотворения, конец которого, однако, память слушателя запечатлела четко: "Помню только, что в заключительном стихе:
Глаголом жги сердца людей
Достоевский не забирал вверх, как делают иные чтецы, а даже как-то опадал, так что у него получался не приказ, а скорее предсказание, и притом невеселое" (с. 237).