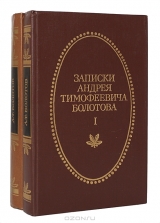
Текст книги "Записки А Т Болотова, написанных самим им для своих потомков"
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Сей случай сопровождаем был также большим балом и торжеством, а вскоре за сим получили мы опять случай несколько дней сряду прыгать и вертеться по случаю проезда чрез Кенигсберг старшего графа Чернышова, Петра Григорьевича. Он отправлен был от двора нашего в Гишпанию послом, для поздравления нового короля со вступлением на престол, и как ему велено было на долго там остаться, то и ехал он туда с женою и обеими дочерьми, девушками уже невестами. Они пробыли у нас в Кенигсберге с неделю, и как стояли они в замке у нашего генерала, то сей и старался их угостить как можно лучше и выдумывал всякий день новые увеселения. Обе молодые графини были превеликие танцовщицы, играли также на разных инструментах, навезли нам множество новых танцев, и нам удалось и с ними потанцевать до усталости.
Письмо 81-е
Любезный приятель! В предследующем моем к вам письме остановился я на рассказывании вам о том, какой успех имел я в исправлении своем и в отучении себя от всех дурных привычек и страстей, натуре человеческой свойственных; а теперь, продолжая ту же материю, скажу, что ко всему тому побуждали меня более нравоучительные книги, до чтения которых сделался я таким же охотником, каким был до того до чтения романов, и как я имел тогда наилучший и наивожделеннейший случай к доставанию себе оных, потому что помянутая библиотека, из которой брал я себе для чтения книги, наполнена была не одними только романами, но и всех родов сочинениями и между прочим и самыми философическими и наилучшими нравоучительными, и я мог получать из ней, какие только мне хотелось, то и читал я почти беспрерывно оные и наполнял ум свой час от часу множайшими и важнейшими познаниями. Не могу изобразить, сколь великую пользу оне мне принесли и как много распространили все мои сведения и знания. Словом, чрез них узнал я не только сам себя, но и все нужнейшее, что знать человеку в жизни надобно; а что всего лучше, спознакомился гораздо со всем ученым светом и без всяких учителей и наставников, узнал многое такое, чего многие иные не узнают, учась порядочным образом в академиях и университетах и имея у себя многих учителей и наставников. Словом, оне были наилучшие мои друзья, наставники, учители и советники и помогали неведомо как мне в моем исправлении и образовании моего сердца и духа. И сколь блаженно было для меня тогдашнее время. Я со всяким днем получал новые знания и со всяким днем делался лучшим; но можно сказать, что много помогали к тому и важные размышления, в каких я нередко упражнялся и которые побудили меня предпринять тогда одно особое и такое дело, какое редко делают люди таких лет, в каких я тогда находился: я положил всякую хорошую попадавшуюся мне мысль и всякое хорошее чувствие души своей записывать на особых лоскутках бумаги, и всякий день предписывать самому себе что-нибудь нужное либо к исполнению, либо к незабвению чего-нибудь. И как я в том упражнялся почти целое годичное время, то и набралось сих исписанных лоскутков бумаги такое множество, что, по переписании всех оных набело, мог я из всех их составить и велеть переплесть целую книгу, содержащую в себе столько же самому себе предписанных правил, сколько дней в году. Книжка, которая и поныне у меня цела и которую храню я, как некакой монумент тогдашних моих занятий и упражнений, а вкупе и первый слабейший опыт нравоучительных своих сочинений, и которой, всходствие намерения своего, и не придал я никакого иного особого названия, а назвал ее просто только памятною книжкою.
Но всего для меня полезнее и достопамятнее было то, что я в течении сего года начал учиться и порядочно штудировать философию. Произошло сие совсем нечаянным, ненарочным почти образом и так, что я и сей случай отношу к особым действиям и попечениям об истинном благе моем божеского промысла как происшествие сие имело влияние на всю жизнь мою, то и расскажу я о том пространнее.
Между многими и разными книгами, читаемыми мною в тогдашнее время, хотя и читал я некоторые и философические, и чрез то получил и о сей важнейшей части учености некоторое уже понятие, однако все мое по сей части занание было весьма еще несовершенно; а сверх того и еще таково, что могло-б мне и в неописанный еще вред обратиться, еслиб благодетельная судьба моя помянутым происшествием не положила тому преграды и чрез самое то не спасла меня от погибели совершенной, как о том упомяну я после пространнее.
Из всех читанных мною до того времени философических книг, ни которая так мне не нравилась, как Готшедовы начальные основания всей философии. Книга сия содержала в себе краткое изображение или сокращение всей так-называемой вольфианской {102} философии, которая была в тогдашнее время во всеобщем везде употреблении и, при всех своих недостатках, почиталась тогда наилучшею. Почему и в Кенигсберге все профессоры и учители юношества обучали оной, так как, к сожалению, переселясь и к нам, господствует она и у нас еще и поныне.
Но мне всего меньше известно было тогда, что философия сия имела многие недостатки и несовершенства: что самые основания, на которых все здание оной воздвигнуто, были слабы и ненадежны и что вообще была она такого свойства, что дотоле, покуда человек, прилепившийся к оной, будет только вскользь оной держаться и оставаться довольным тем, что в ней содержится, он может быть и добрым и безопасным, а как скоро из последователей оной кто-нибудь похочет далее простирать свои мысли и углубляться более в существо вещей всех, то всего и скорее может сбиться с правой тропы и заблудиться до того, что сделается наконец деистом, вольнодумом и самым даже безбожником, и что весьма многие, преразумные впрочем люди, действительно от ней таковыми негодяями сделались и, вместо искомой пользы, крайний себе вред приобрели и в невозвратимую впали пагубу, так как то же самое едва было и со мною не случилось, так о том упомяну я после в своем месте.
А сколь мало было мне сие известно, столь же мало знал я и о том, что за несколько до того лет проявилась в свете новая и несравненно сей лучшая, основательнейшая и не только ни мало не вредная, но и то особливое пред всеми бывшими до того философиями преимущество имеющая философия, что она всякого прилепившегося к ней человека, хотя бы он и не хотел, но поневоле почти сделает добрым христианином, так как, напротив того, вольфианская и хорошего христианина превращала почти всегда в худого или паче в самого деиста и маловера, и что сия новая и крайне человеческому роду полезная философия, основанная в Лейпциге одним из тамошних ученейших людей, по имени Христианом Августом Крузием{103}, начинала уже греметь в свете, получать многих себе последователей и мало-помалу распространяться в Европе и между прочим в самом том городе, где я тогда находился. Тут преподавал уже ее или учил публично один из университетских магистров, по имени Вейман; но как все прочие профессоры были еще вольфианцы и последователями помянутой прежней и несовершенной философии, то и терпел он еще от них за то некоторое себе гонение и недоброхотство, а особливо потому, что многие из студирующих в Кенигсберге, отставая от прежних учителей, прилеплялись к оному и, научившись лучшим правилам и мыслям, делались им такими противниками, которых они никак преобороть были не в состоянии на обыкновенных своих прениях.
Всего того я еще не знал и не узнал бы, может быть, никогда, еслиб не случилось присланным быть к нам из Москвы вышепомянутым десяти студентам и мне с двумя из них покороче познакомиться. Оба они были наилучшенькие из всех и самые те, которые назначались для занятия моего места и для исправления моей должности. Один из них прозывался Садовским, а другой Малиновским. Оба они были московские уроженцы, оба тамошних попов дети, но оба весьма хороших характеров, хорошего и смирного поведения; оба охотники до наук и хорошо в университете учившиеся и довольные уже сведения обо всем имевшие, а притом с хорошими чувствиями люди. Как обоим им велено было того времени, покуда понавыкнут они более немецкому языку и к переводам сделаются способнейшими, приискать себе учителей из тамошних профессоров и продолжать у них прежние свои науки, то, учась еще в университете философии, избрали они и тут сей самый факультет и, приговорив одного из тамошних профессоров{104}, стали продолжать слушать у них лекции, так как делывали то, будучи еще в московском университете.
Так случилось, что профессор тот был хотя, как и все прочие, вольфианец, но из учеников его, тамошних студентов, были некоторые, учившиеся тайно и у помянутого магистра Веймана той новой крузианской философии, о которой упоминал я выше, и что сии, спознакомившись и сдружившись с обоими нашими студентами, насказали им столь много доброго как о сей новой философии, так и о Веймане, что возбудили у них охоту поучиться сей новой и толико лучшей и преимущественной философии.
Они, при помощи оных, и познакомились тотчас с сим магистром, и как сей таковым новым охотникам учиться его философии очень был рад, то и пригласил он их ходить к себе по вечерам, и взялся охотно преподавать им приватно лекции, а хотел только, чтоб дело сие производимо было тайно и так, чтоб не узнал того до того времени тот профессор, у которого они до того учились, и чтоб он не мог за то претерпеть от него какого-нибудь себе злодейства, на что они и сами охотно согласились. Но не успели они у него несколько раз побывать и лекциев его послушать, как и пленились они столь сильно сею новою философиею, что восхотелось им и мне сообщить свое удовольствие. Со мною имели они уже время не только познакомиться, но даже и сдружиться, ибо как им приказано было от времени до времени приходить к нам и в канцелярию, то, узнав обо мне и об отменной моей охоте до книг и до наук, тотчас со мною познакомились короче и полюбили меня чрезвычайно, а не менее полюбил тотчас и я обоих их, и у нас всегда, как ни прихаживали они к нам, бывали с ними обо всем и обо всем, касающемся до книг и до наук, беспрерывные и для меня отменно приятные разговоры, а сие и подружило нас между собою очень скоро неразрывною почти дружбою.
Не могу изобразить, как удивился я, услышав от них о помянутой новой и совсем для меня еще неизвестной философии, и о преимуществах ее пред прежней и мне знакомой, и как заохотили они самого меня узнать короче об оной и слышать, как преподают об ней им лекции. Они услышали желание мое и не преминули поговорить о том с своим магистром Вейманом и спросить его, не дозволит ли он им привесть меня когда-нибудь с собою, дабы мог я хоть один раз присутствовать при преподавании им его лекций: и как неописанно обрадовали они меня, принеся известие ко мне, что он не только им то дозволил, но поставляет себе за особливую честь и будет очень рад, если удостою я его своим посещением.
Мы условились еще в тот же день иттить к нему все вместе. Вечер случился тогда, как теперь помню, очень темный, осенний и притом ненастный, и хотя иттить нам было очень дурно и проходить многие улицы и тесные переулки по скользким мостовым, но я не шел, а летел, ног под собою не слыша, вслед за моими проводниками, Я не инако думал, что найду порядочный и хорошо убранный дом; но как удивился я, нашед сущую хибарочку, во втором этаже одного посредственного домика, и в ней повсюду единые следы совершенной бедности. Иному не могла бы она ничего иного вперить, кроме одного презрения, но у меня не то было на уме. Я искал в ней мудрости, и был столь счастлив, что и нашел оную.
Господин Вейман принял меня с отменною ласкою, и посадив нас, тотчас начал свое дело. Материя, о которой по порядку им тогда говорить следовало, была наитончайшая и самая важнейшая из всей метафизики; как теперь помню, о времени и месте, и он несмотря на всю ее тонкость, трактовал ее так хорошо, так внятно и украшал ее толь многими до обеих философий относящимися побочностями, что я слушал ее с неописанным удовольствием, и пользуясь дозволением его, не уставал его то о том, то о другом, для лучшего понятия себе, расспрашивать. И как отменным вниманием своим, так и пониманием всего того, что он сказывал, равно как и совершенным разумением немецкого языка я ему так угодил, что он при отшествии нашем и при делаемых ему благодарениях мне сказал, что если мне только угодно будет, то он за особливое удовольствие почтет, если я к нему и впредь всегда ходить и лекции его слушать буду, и что он не только ничего за то не потребует, но за особливую честь себе поставит учить меня философии, которая так мне полюбилась.
Я очень доволен был сим его приглашением, и не преминул воспользоваться данным от него мне дозволением, и с самого того времени не пропускал ни одного раза, чтоб вместе с товарищами моими к нему не ходить, и всегда располагал дела свои так, чтоб мне на весь седьмой час после обеда можно было из канцелярии к нему отлучаться. И г. Вейман так меня полюбил, что из всех своих учеников почитал наилучшим и всех скорее и совершеннее все понимающим и о просвещении разума моего так много старался, что я могу сказать, что обязан сему человеку очень много в моей жизни.
Сим образом начал я с сего времени порядочно студировать и слушать философические лекции и производил сие так сокровенно, что долгое время никто о том не знал и не ведал. Но как наконец частые и всегда в одно время бываемые отлучки мои из канцелярии сделались приметны, и некоторые из наших канцелярских стали подозревать меня и толковать оные в худую сторону, то принужден я был наконец открыться в том г. Чонжину и у него выпросить формальное уже для отлучек сих себе дозволение. И тогда имел я удовольствие видеть, что обратилось мне сие не в предосуждение, но в особливую честь и похвалу. Г. Чонжин не только расславил и рассказал о том всем с превеликою мне похвалою; но сказал даже и самому генералу, и таким тоном, что и тот не преминул меня за то публично похвалить и при многих случаях приводил меня в пример и образец молодым людям, особливо распутным офицерам.
Но при сем одном не осталось; но как около самого сего времени прислан был к нему из Петербурга один из дальних родственников его, из фамилии Чоглоковых, для отдания его в тамошний университет учиться языкам к наукам, и он жил у одного из первых тамошних профессоров г. Ковалевского, так, как в пансионе, но молодой человек сей был такого характера, что потребен был за ним присмотр: то генерал наш не нашел никого, кроме меня, кому-б мог препоручить сию комиссию. Почему и принужден был я от времени до времени ходить в тамошний университет, и в дом к помянутому г. Ковалевскому, и не только свидетельствовать успехи сего его родственника, но осведомляться о его поведении и поступках; а как вскоре после того и другой из наших армейских и тут бывших генералов, а именно господин Хомутов, по рекомендации от нашего генерала, усильным образом просил меня принять под присмотр свой и его сына, учившегося тут же в университете, то все сие сделало меня и в университете известным и приобрело мне и от всех тамошних профессоров, честь и особливое уважение, простиравшееся даже до того, что они при каждом университетском торжестве и празднестве не упускали никогда приглашать и меня вместе с прочими знаменитейшими людьми к присутствованию при оных, и все оказывали мне, как бы уже ученому человеку, особливую вежливость и учтивство.
Теперь легко можно всякому заключить, что для меня все сие не могло быть противно, но было в особливости приятно, и польза, проистекшая от того, мне была та, что я чрез то имел случай видеть все университетские обряды и обыкновения и получить как о роде учения, так и обо всем ближайшее понятие. Что ж касается до помянутого профессора Ковалевского, славившегося в особливости тем, что живали у него в доме всегда и учивались многие пансионеры и не редко из самых знаменитейших прусских и других земель фамилий, то хотя бывал я у него и часто, но кроме холодного учтивства не видал от него ничего; да и находил, что он более был славен, нежели того достоин. Все учение его не имело в себе ничего чрезвычайного и особливого, а и самое смотрение за учениками и старание о просвещении их было весьма посредственное; а единую редкость и особливость в его доме нашел я только ту, что у него со всех бывавших до того и тогда бывших учеников списаны были живописные портреты и ими установлена целая комната: но и сие происходило ни от чего иного, как от единого любославия сего надменного и кичащегося тем человека; а впрочем нельзя сказать, чтоб все учащиеся у него получали от него многую пользу.
Другая достопамятность, случившаяся со мною около сего времени, была та, что повышен был рангом и пожалован из подпоручиков в поручики. Сей чин давно-б я иметь мог, ежели-б производство мое зависело от нашего генерала, но как я счислялся по армии и все еще в полку, то не можно было генералу ничего в пользу мою сделать, я и должен был ожидать всего от главных командиров армии и ждать, когда по линии и по старшинству мне в поручики достанется. Но как находился я от полку в отлучке и не состоял на лице в армии, то и не ожидал ни мало себе повышения, и всего меньше оного добивался, но как новый наш старичок фельдмаршал, будучи сам за победы от императрицы награжден и повышен чином, восхотел по возвращении своем из похода в Польшу оказать благодеяние и всем бывшим с ним в походе армейским офицерам и обрадовать их сделанием генерального, общего всем и большого произвождения, то при самом сем случае, против всякого чаяния и ожидания моего досталось и мне в поручики. И сообщено было о том во известие от полку к нашему генералу с повторительным опять требованием и просьбою об отпуске меня и отправлении к полку.
Повышение сие было хотя посему не чрезвычайное какое и не важное, но как чины давались тогда очень туго, да и я всего меньше оного ожидал, то и был я тем чрезвычайно обрадован. Г. Чонжин не преминул и при сем случае сыграть со мною шутку. Он узнал о том всех прежде, но как генерал запретил ему о том мне сказывать, желая сам обрадовать меня в последующее утро, то и восхотелось г. Чонжину надо мною позабавиться и приготовить меня к тому страхом и напуганием. Итак, не успел я в последующее утро приттить в канцелярию, как притворился он не только ничего о том незнающим, но еще сердитым и угрюмым, и призвав меня к себе в судейскую, сердитым голосом и видом мне сказал: "Что ты там наделал? генерал неведомо как на тебя сердится. Дошла на тебя к нему какая-то от немчуров просьба; я теперь только у него в покоях был и он рвет и мечет, и посмотри, что тебе от него будет". Я остолбенел, сие услышав, и как за собою ничего не ведал, то и отвечал ему, что его превосходительству вольно со мною делать, что ему угодно, но я по крайней мере ничего такого за собою не знаю, чем бы мог заслужить гнев его. – "Совсем тем, подхватил он, подана на тебя какая-то бумага. Я сам ее видел и писана она по-немецки. Не знаешь ли ты чего за собою?" – Не знаю, сказал я, а разве вздумалось какому-нибудь бездельнику что-нибудь ложное на меня наклепать! – "Ну, вот посмотрим, генерал скоро сюда придет, и ты готовься только отвечать; а мне досадно только то, что случилось сие не к поре и не ко времени. Ты того не знаешь, что со вчерашним курьером получено между прочим вновь требование тебя в полк, и я истинно теперь уже не знаю, как нам тебя удержать; и боюсь, чтоб генерал в теперешней досаде на тебя не решился наконец отпустить тебя, так как он уже и намекал мне о том". – Воля его! сказал я; но признаться надобно, что сие последнее встревожило дух мой еще больше, и, по пословице говоря, на сердце у меня начали скресть тогда сильно кошки. Не имел я охоты и до того ехать в армию, а при тогдашних обстоятельствах и подавно не хотелось мне никак расставаться с Кенигсбергом.
В самую сию минуту вошли в судейскую наши советники, и г. Чонжин дал мне знак, чтоб я вышел вон. Я пошел, повеся голову, с побледневшим лицом и с таким расстроенным и смущенным видом, что все сотоварищи мои тотчас сие приметили и, окружив меня, стали спрашивать, что такое сделалось со мною? "Что, братцы, с досадою сказал я им, какая-то бестия, сказывают, подала на меня какую-то жалобу генералу, хотя я ничего за собою не знаю, не ведаю, а с другой стороны требуют опять в полк, и Тимофей Иванович сказал мне, что генерал, будучи теперь в превеликих сердцах на меня, более удерживать меня не хочет и решился отпустить". – Что вы говорите? закричали все в один голос, сие услышав, и сделавши вокруг меня кружок, начали все тужить и горевать обо мне; ибо надобно знать, что вся канцелярия меня искренно любила и все до единого брали в горести и досаде моей живейшее соучастие. Но не успели они друг перед другом наперерыв начать расспрашивать меня о том подробнее, как вдруг зашумели в судейской и сторож выбежал к нам оттуда с известием, что генерал идет. – В миг тогда рассыпались все, как дождь, от меня и, усевшись по местам своим, замолчали. Я пошел также на свое, за перегородку, но едва успел усесться и начать рассказывать о горе своем товарищам своим немцам, также о том любопытствующим, как загремел в судейской колокольчик и чрез минуту потом выбегает опять сторож, бежит прямо ко мне и говорит: "Извольте, сударь, к генералу!" – Я помертвел, сие услышав, и сердце мое во мне так забилось, и кровь взволновалась во всем теле, что я едва в состоянии был встать с места и, сколько в скорости можно было, пооправиться и изготовиться к ответу. С трепещущим сердцем, с побледневшим лицом и подгибающимися коленами пошел я куда меня звали, и как, при растворении дверей, издали уже увидел я генерала, держащего в руках бумагу и меня дожидающегося: то не сомневаясь нимало, что была та самая поданная просьба, о которой сказывал мне г. Чонжин, еще более от того встревожился духом, и в неописанном будучи смущении, едва был в силах войтить в судейскую и генералу поклониться. Я другого не ожидал, как того, что он в тот же миг на меня, по обыкновению своему, запылит огнем и пламенем и смешает меня совсем с грязью: но как удивился я, увидев тому противное, и что генерал без всякого сердитого вида, а только протянув ко мне руку с бумагою, и власно как еще с некаким сожалением, сказал: "Что делать, Болотов! требуют тебя опять в полк, и требования сии, чорт их побери, уж так мне надоели, что я не знаю уже, что мне делать, и решаюсь почти отпустить тебя; вот возьми прочти сам!" – "Воля ваша в том, ваше Превосходительство, в полк так в полк", – отвечал я, и стал подходить для принятия бумаги. Но как генерал, взглянув пристальнее на меня, увидел, что я с побледневшим лицом и крайне с беспокойным духом едва в состоянии был переступать ногами, то приняв на себя веселый вид и усмехнувшись, сказал мне далее: "Ну, добро, добро, господин Болотов, не беспокойтесь и не смущайтесь духом. Требовать вас хотя и требует, однако мы и в сей раз вас никак не отпустим, вы и здесь не баклуш бьете, а столько-ж государыне своей или еще более служите, нежели другие многие; а сверх того похвальным образом делаетесь еще и с другой стороны отечеству полезными". – Слова сии влили как некакой живительный бальзам в смущенное мое сердце, и меня столько ободрили, что я, сделав генералу пренизкой поклон, не хотел-было и читать уже принятой от него бумаги; но он тотчас подхватил: "Однако прочтите, прочтите бумагу-то и прочтите ее вслух нам; может быть нет ли в ней чего-нибудь еще иного".
Приказание сие меня удивило; но сколь удивление сие бесконечно увеличилось, когда, развернув бумагу и начав читать, увидел я, что это было извещение о пожаловании меня поручиком, и требование, чтоб я на сей чин приведен был к присяге. Я остолбенел почти также от нечаянной и неожидаемой сей радости, как сперва от смущения, и досада, и состояние мое в сию минуту было таково, что я оное никак описать не в состоянии, а скажу только, что происшедшее вновь во мне, но приятное уже смущение духа произвело то, что я читать остановился, онемел, стоял дурак дураком и не знал, что мне делать; а особливо когда увидел, что генерал, развеселившись вдруг так, что таковым я давно его не видывал, начал меня поздравлять с чином и уверяя, что он тому очень рад, желать мне и дальнейшего еще повышения. А не успели услышать того оба сидевшие с ним за столом и меня любившие советники, как последовали его примеру и наперерыв друг перед другом меня поздравляли, говоря, что я того давно уже достоин и передостоин. Словом, со всех сторон были деланы мне поздравления, а особливо когда вышел я из судейской. Тут, в один миг облепили меня со всех сторон все канцелярские, от вышнего до нижнего, все брали в радости моей искреннее соучастие, все желали мне дослужиться до генеральского чина, и я едва успевал только всем откланиваться, и охотно простил напугавшему меня г. Чонжину за выдуманную им надо мною шутку, в чем признавался он, надседаясь со смеха, а особливо когда узнал, что генерал хотел-было сначала действительно меня уже отпустить, и что сей господин Чонжин убедил его и в сей раз меня не отпускать, чему не только я, но и все наши канцелярские были очень рады. Впрочем тотчас послано было за плац-майором и в тот же час велено меня привесть к присяге, а генерал столько был ко мне милостив, что пригласил меня в сей день обедать за собственным своим столом и в продолжение оного удостоил выпить рюмку вина за мое здоровье и поздравить меня с чином.
Сим кончилось тогда мое приятное для меня происшествие; а поелику письмо мое уже сделалось довольно велико, то окончу я и оное на сем месте, сказав вам, что я есмь навсегда ваш и прочее.
Письмо 82-е
Любезный приятель! Продолжая повествование мое о бывших со мною в течении 1760 года происшествиях о том, что у нас в Кенигсберге в сей год происходило, скажу, что к числу первых относится и особая дружба, основанная у меня с одним из наших морских офицеров, по имени Николаем Еремеевичем Тулубьевым, – дружба, которая и поныне мне памятна и которую я никогда не позабуду. Он был лейтенантом на одном из наших морских судов, и жил у нас в сие лето в Кенигсберге для исправления некоторых порученных ему комиссий. Как ему по поводу самых оных часто доходило иметь дело с нашим генералом и он нередко для того прихаживал к нам в канцелярию и провождал в ней и в самой моей комнате иногда по нескольку часов сряду, то самый сей случай и познакомил меня с ним короче. Он был человек еще молодой, однако несколькими годами меня старее, и как всякому морскому офицеру свойственно, нарочито учен и во многом столь сведущ, что можно было с ним всегда о многих вещах с удовольствием говорить. Но все сие не сдружило бы нас с ним так много и так скоро, еслиб не случились у обоих нас нравы и склонности во всем почти одинакие и такая между обоими нами натуральная симпатия, что мы с первого почти свидания полюбили друг друга, а чрез несколько дней так сдружились и так сделались коротки, как бы ближние родные. И могу сказать, что ощущения имел я к сему человеку прямо дружеские и в каждый раз был в особливости рад, когда прихаживал он к нам в канцелярию. Я покидал тогда все свои дела и упражнения и занимался разговорами с сим любезным человеком, и о чем не говаривали мы с ним и сколько приятных и неоцененных минут не препроводили в сих дружеских собеседованиях с ним. Словом, я не уставал никогда говорить с ним, а он со мною, и из всех бывших у меня в жизни друзей, ни к кому не прилеплен я был таким нежным и искренним дружеством, как к сему человеку. А сие и было тому причиною, что мы не только во все время пребывания его у нас в Кенигсберге видались очень часто и вместе с ним сиживали в канцелярии, вместе гуливали по лучшим и приятейшим местам города и его окрестностям; вместе увеселялись красотами и прелестностями натуры, до чего он такой же был охотник, как и я; вместе читывали наилучшие приятнейшие книги; вместе занимались разными и о разных материях рассуждениями. Но как наконец надлежало ему от нас отбыть и отправиться жить в Мемель, где находилось его судно, то при отъезде его условились мы продолжать и заочно наши свидания и разговоры и иметь с ним частую и еженедельную переписку.
Переписка сия была между нами и действительно. Я первый ее начал и заохотил друга моего так, что продолжалась она беспрерывно несколько месяцев сряду, и как была она особого и такого рода, какая редко у кого бывает, то и доставляла обоим нам бесчисленное множество минут приятных и неоцененных в жизни. Я не могу и ныне еще позабыть, с какою нетерпеливостью всякий раз дожидался я тогда почты, с какою жадностью распечатывал друга моего пакеты и с каким удовольствием читывал пространные и дружеские его к себе письма. Он описывал мне все, что происходило с ним в Мемеле; а я ему сообщал то, что у нас делалось в Кенигсберге, и мешая дело с бездельем, присовокуплял к тому разные шутки и другие побочные и такие материи, о которых знал, что оне будут другу моему приятны, а он самое тоже делал и в своих письмах. Словом, переписка сия была у нас примерная и не только частая, но и столь пространная, что мы посылывали иногда друг к другу целые почти тетрадки и я провождал иногда по нескольку часов сряду в писании и одного письма к нему. Все сии минуты были для меня всегда не только утешны, но и крайне увеселительны, а как и ему столь же приятно было писать и ко мне, то все сие увеличивало еще более наше дружество, которое продолжалось до самого того времени, как он отлучился наконец в море, где вскоре после того, к превеликому моему сожалению, лишился он жизни, приказав доставить ко мне вкупе с известием о его смерти и все присланные к нему мои письма. Письма сии и поныне еще храниться у меня в целости; и как оне писаны были все в одну форму, то велел я их тогда же переплесть и храню их как некакой памятник тогдашним моим чувствованиям и упражнениям, а вкупе и тогдашней моей способности к описанию и великому еще несовершенству моего слога. Но как бы то ни было, но сей случай доказал мне, самою опытностию, что поверенная и прямо дружеская и такая переписка, какую имел я тогда с сим человеком, может быть не только крайне приятна, но доставлять обоим друзьям несметное множество минут, неоцененных в жизни.
Кстати к сему упомяну я, что к числу бывших со мною в течении сего года происшествий принадлежит также и то, что я однажды чуть-было не сжег сам себя и со всею квартирою своею и не подвергся крайней опасности. Произошло сие от непомерной охоты моей до чтения книг. Я занимался тем не только во все праздные часы дня и самых вечеров, но сделал как-то глупую привычку читать их со свечкою и легши уже спать в постелю и продолжать оное до тех пор, покуда сон начнет сжимать мои вежды и покуда я совсем забудусь. Тогда чрез минуту просыпался я опять, погашал свою свечку и предавался уже сну. Таким образом читывал я по вечерам книги уже несколько времени, и привычка сделалась так сильна, что в каждый раз бывало то, что чрез минуту после того, как я забудусь, власно как кто меня нарочно для потушения свечки разбудит и я, сделав сие, засыпал уже спокойно. Но как смертельно испужался я однажды, когда проснувшись помянутым образом, для погашения своей свечки, увидел себя вдруг объятого всего огнем и поломем, ибо в течении помянутой минуты свечка моя была так неосторожна, что зажгла повиснувший, как-то близко к ней, полог моей кровати, и он уже пылал весь в то время, как я очнулся. Не могу изобразить, каким ужасом и страхом я тогда поразился. Я вспрыгнул без памяти с кровати и, начав тушить, пережег и перемарал себе все руки, и по особливому счастию пламя не достигло еще до потолка, и что мне хотя с трудом, но потушить было еще можно. Как совестился я тогда пред добродушными стариками, моими хозяевами, которых всех сей случай перестращал до чрезвычайности, и которые через сожжение полога претерпели от меня убыток. Я охотно брался заплатить им вдвое против того, чего он стоит, но они никак на то не согласились, но были довольны обещанием моим не читать никогда уже более в постеле со свечкою книги, которое обещание и постарался я действительно выполнить; да и самого меня случай сей так настращал, что я с того времени, во всю жизнь мою, никогда уже по вечерам книг в постеле со свечкою не читывал, да и другим того делать не советую.





