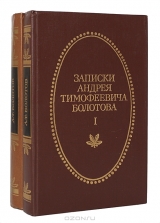
Текст книги "Записки А Т Болотова, написанных самим им для своих потомков"
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Теперь не могу изобразить, сколь много утешала не только меня, но и всех приходящих ко мне сия игрушка. Все видевшие не могли ею довольно налюбоваться. На главную трубку, находящуюся посреди басеня, наделано было у меня множество разных наставок, посредством которых можно было заставливать воду бить разными манерами, как, например: иногда прямою струею вверх, иногда рассыпаться на множество брызгов, наподобие дождя, иногда образом звезды, а иногда образом павлиньего хвоста и так далее. Словом, я производил им множество разных перемен и всем тем и удивлял и забавлял зрителей. Все наши канцелярские не преминули ко мне приттить, как скоро об нем услышали, и превозносили меня до небес похвалами за искусство мое и за выдумку. Сие увеличивало много хорошее их обо мне мнение. Они не преминули рассказывать то другим с похвалою, и сего довольно уже было для меня в награждение за труды, употребленные при делании оного.
Но сколько удовольствия наносил я сим фонтаном всем меня посещающим, столько браней получал я за него от многих других, проходящих мимо моей квартиры. Но браням сим был уже собственно я сам или, паче, моя дурость и резвость причиною. Между прочими свинцовыми наставками на трубку моего фонтана, которые по большей части мастерил и делал я сам, догадало меня сделать одну кривую и расположенную так, чтобы вода, в случае пушения фонтана, била не прямо вверх, но дугою в сторону, сквозь отворенное окошко, и, раздробляясь в капли, упадала на улицу. В сию наставку пускал я воду тогда, когда случалось кому иттить по улице мимо моей квартиры, и единственно для того, чтоб можно было посмеяться и похохотать его удивлению; ибо не успевал человек поравняться против моего окна, как вдруг орошали его сверху многие капли воды, наподобие дождя. Человек, почувствовав оные, удивлялся, смотрел на небо и на все стороны, вверх и, не видя ничего, дивился и не понимал, откуда вода взялась. А сие и подавало иногда повод, что иные, пришед в настроение{76}, бранили сами не зная кого и отходили прочь, осыпая меня изрядными благословениями. Но ни над кем шутки сей я так часто не производил, как над гуляющими иногда по улице, с тафтяными {77} своими зонтиками, женщинами. Не успею, бывало, завидеть таких госпож, как, спрятавшись за стену, чтоб меня было не видно, отворял я на одну минуту свой фонтан и приноравливал так, чтоб вода упадала прямо на их зонтики и производила на них падением каплей своих шум. Боже мой, какой поднимался у них тогда шум и крик!
– Ах, Гер Езу! Гер Езу!{78} Дождь, дождь, дождь! – кричали они и бежать начинали, а я надседался со смеха, сидя в комнате за стеною и веселясь их настроением.
Не успел я сию штучку смастерить и через ее спознакомиться с многими мастеровыми, как возобновилась и прежняя моя охота к гокуспокусному{79}, которому научился я еще стоючи в Эстляндии, и мне захотелось снабдить себя всеми нужными к тому инструментами. В единый миг наделал я множество рисунков и полетел с ними к разным мастеровым. Они и удовольствовали меня, наделав все оные по моему желанию, и удовольствие мое было превеликое, когда я увидел у себя все оные по моему желанию и мог сам делать все тогда перенятые штучки и хитрости. Однако легко можно заключить, что сим искусством не имел я причины ни перед кем величаться, но довольствовался только сам для себя, и упоминаю о сем только для того, чтоб тем доказать, в каких делах я около сего времени упражнялся и какую склонность уже и тогда имел ко всяким хитростям и искусствам.
Но сего довольно будет до сего раза. Письмо мое довольно уже велико и получило обыкновенные свои пределы, чего ради, предоставя повествование о дальнейших со мною происшествиях будущим письмам, теперешнее окончу новым уверением вас о непременности моей к вам дружбы, и что я навсегда есмь ваш, и прочая.
КОНЕЦ ШЕСТОЙ ЧАСТИ
Часть VII.
Продолжение истории моей военной службы и пребывания моего в Кенигсберге
(Соч. 1792-1800, переп. 1801 г.)
В Кенигсберге
Письмо 73-е
Любезный приятель! Как в последнем моем к вам письме остановился я на рассказывании вам того, чем занимался я, живучи в Кенигсберге после бывшей со мной тревоги по случаю требования меня к полку, то, продолжая теперь повествование мое далее, скажу, что между тем, как я, помянутым образом живучи в покое, упражнялся в деле, а не менее того и в сущих, хотя весьма позволительных, безделках и дни мои протекали в мире и в тишине и всякий почти день в новых удовольствиях, – армия наша находилась в полном походе. Прежний предводитель оной, генерал Фермор, не успел возвратиться из Петербурга и дождаться весны, как с наступлением оной, собрав все расставленные по кантонир-квартирам и вновь укомплектованные войска в окрестностях Торуня{80}, отправился с ними в поход опять в сторону к Шлезии через Польшу. Город Познань назначен был опять генеральным сборным местом, и тут собралась вся армия довольно еще благовременно. Однако далее сего места он с нею не пошел, а дожидался назначенного на место себя другого предводителя.
К сему, против чаяния всех, избран был императрицею генерал-аншеф граф Салтыков Петр Семенович{81}. Все удивлялись, услышав о сем новом командире, и тем паче, что он, командуя до сего украинскими ландмилицкими полками, никому почти был не известен и не было о нем никаких выгодных и громких слухов. Самые те, которых случай допускал его лично знать, не могли о нем ничего иного расспрашивающим сказывать, кроме того, что он был хотя весьма добрый человек, но старичок простенький, никаких дальних сведений и достоинств не имеющий и никаким знаменитым делом себя еще не отличивший.
Мы увидели его прежде, нежели армия, ибо ему ехать туда через Кенигсберг надлежало. Нельзя изобразить, с каким любопытством мы его дожидались и с какими особыми чувствиями смотрели на него, расхаживающего пешком по нашему городу. Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек в последствии{82}. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром толь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущею курочкою, и никто не только надеждою ласкаться, но и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное, столь мало обещивал нам его наружный вид и все его поступки. Генерал наш хотел было по обыкновению своему угостить его великолепным пиром, но он именно востребовал, чтоб ничего особливого для его предпринимаемо не было, и хотел доволен быть наипростейшим угощением и обедом. А сие и было причиною, что проезд его через наш город был нимало не знаменит и столь не громок, что несмотря хотя он был у нас два дня и исходил пешком почти все улицы, но большая половина города и не знала о том, что он находился в стенах оного. Он и поехал от нас столь же просто, как и приехал, и мы все проводили его хотя с усердным желанием, чтоб он счастливее был искусного Фермора, но с сердцами весьма унылыми и не имеющими никакой надежды, – столь невеликое и невыгодное мнение мы об нем имели.
По отбытии сего нового начальника принялись мы за свои прежние дела и упражнения: генерал – за свои разъезды по гостям и частые посещения своей графини Кейзерлингши, канцелярские наши – за свои бумаги, писанья и дела, а я – за свои переводы, читанье, рисованье и другие любопытные дела и упражнения. Охота к ним увеличивалась во мне со дня на день, а особливо с того времени, как случилось мне однажды побывать в доме у одного старичка, прусского отставного полковника, великого охотника до наук и до всяких рукоделий и художеств. Тут-то в первый еще раз случилось мне видеть, как живут сего рода люди и каково у них в домах бывает чисто и прибористо. Старичка сего удавалось мне видеть уже давно, и я не один раз встречался с ним на улице, ибо он живал в одной со мной улице и нередко хаживал мимо моих окон. Но мне и на ум никогда не приходило, чтоб был он столь великим любителем наук и художеств, как узнал я после, а дивился я только всякий раз его странному одеянию и походке. При всей старости своей был он всегда так чопорен и свеж, как бы лет в сорок, и какая бы погода ни была, но всегда видал я его в шляпе, всегда напудренным, в странном паричке, и всегда в старинном прусском мундире с долгими и ситами{83} набитыми широкими полами, из которых одну носил он всегда приподнятую левою рукою и приложенною плоскостию своею к животу. Самым сим странным обыкновением своим и отличался он от всех прочих людей и делался приметным, и как никто не знал и сказать мне не мог, для чего б он полою своею всегда живот прикрывал, то и почитал я его каким-нибудь чудаком или сумасшедшим. Однако, побывав у него, мысли свои об нем весьма переменил и инако стал думать.
Случилось сие ненарочным образом. Однажды повстречался я с ним не один, а идучи вместе с помянутым господином Орловым, графом Швериным и еще одним нашим поручиком, человеком богатым и также весьма любопытным и великим охотником до наук, называющимся Федором Богдановичем Пассеком. Господам сим был он более знаком, нежели мне, а особливо графу Шверину. Сей последний не успел его завидеть, как, протягивая ему руку, возопил:
– Ах, господин полковник! Милая, любезная старина! Все ли вы находитесь еще в добром здоровье? Так давно уже об вас не слыхать, – продолжал он, пожимая ему руку. – Все ли вы еще живы? Все ли по-прежнему упражняетесь в своих хитростях и искусствах? В добром ли здоровье все ваши машины и инструменты?
Старичок усмехнулся на сие, пожал дружески графу руку и сказал:
– В добром, в добром, господин граф! И все к вашим услугам.
– О, когда так, – подхватил граф, – то не можно ли опять сделать мне удовольствие и показать ваши упражнения? У нас есть, сударь, люди, продолжал граф, – которые охотно хотели б оные видеть.
Сими словами целил он на товарищей своих Орлова и Пассека. Сему последнему в особливости сего хотелось, и он давал ему взорами знать, чтоб убедил он старика учинить сие тогда же и показать нам все свои хитрости, а графу не великого труда стоило преклонить к тому престарелого артиста. Старик хотя и поупорствовал несколько, извиняясь недосугами своими, а отчасти говоря, что и все нынешние его упражнения не так важны, чтоб стоило их смотреть, но, по просьбе графа, принужден он был на то согласиться и повесть нас к себе в дом, в ту ж самую минуту.
По приведении к оному хотел было он нас ввести в нижние свои жилые комнаты и наперед чем-нибудь угостить, но граф и товарищи его не восхотели того и говорили, что не за тем к нему пришли, чтоб его озабочивать угощением, а хотят, чтоб вел их прямо в свою рабочую и мастерскую комнату, и тогда почти нехотя принужден был наш старик лезть вверх по крутой лестнице и просил нас последовать за ним. Тут нашли мы превеликую комнату, заставленную и загомощенную{84} всю множеством всякого рода машин, орудий и инструментов. Не было почти нигде праздного места, и мы с трудом могли протесниться к маленькому столику, стоявшему подле окна и самому тому, за которым он более сиживал и в делах своих упражнялся. Он начал тотчас суетиться и, приискивая последние свои работы, показывать гостям, а я между тем имел несколько минут свободного времени для обозрения его комнаты и всех вещей, в ней находящихся.
Не могу изобразить, с каким ненасытно-любопытным оком перебегал я с одного предмета на другой и с какою жадностью пожирал все своими глазами. Превеликое множество находилось тут таких вещей, каких я еще отроду не видывал и о которых не имел еще никакого понятия. Были тут токарные разных манеров станки, были полировальные машины, было множество разных физических, оптических, математических и механических инструментов и орудий. Была огромная библиотека, множество всякого рода зрительных труб, зажигательных зеркалов, микроскопов, глобусов, карт, естампов{85}, разложенных книг и развешенных по стенам железных пил, долот, резцов и всякого рода рабочих орудий и инструментов. Все сие составляло для меня новое и такое зрелище, которого я не мог довольно насмотреться; и хотя все сии многочисленные вещи стояли, лежали и висели туг без всякого малейшего порядка, все были запылены и не в приборе, все разметаны почти кое-как, но я любовался ими более, нежели драгоценными убранствами, и охотно б согласился пробыть у него целый день и все перебрать и пересматривать, если б только то было мне можно и когда б только хозяин согласился мне все показывать и обо всем рассказывать подробно. Но, к крайнему моему сожалению, сего-то самого и учинить было не можно. Я составлял самую меньшую и всех маловажнейшую особу из посетителей и потому принужден был довольствоваться тем только, что показывано было моим товарищам, и слышанием того, что хозяин говорил с ними. Со мною же не удалось ему и одного слова промолвить, ибо время было так коротко и поспешание товарищей моих так велико, что ему не удалось и самим им сотой доли из всего того показать, что он имел и что бы мне видеть и узнать хотелось. К вящей же досаде моей, и о самых тех вещах, которые он успел им показать, говорено было в такую скользь и так коротко, что я ничего почти понять не мог. Сие в состоянии было только любопытство мое возбудить, а нимало не удовольствовать, и я с крайним нехотением пошел вслед за товарищами своими, спешившими тогда иттить в гости, и помышлял уже отстать от них и воротиться к милому и почтенному старичку, чтоб познакомиться с ним короче, но и сие мне не удалось. Старик вышел вслед за нами со двора и замкнул свою комнату, а что мне было досаднее, что сколько ни ласкался я надеждою познакомиться с ним впредь и убедить его просьбою показать мне и растолковать все и как ни надеялся узнать и научиться от него многому, но мне с сего времени не удалось его более и видеть. Ему случилось вскоре после того уехать куда-то к родственникам своим в деревню, и там, как после я услышал, окончил он жизнь свою.
Со всем тем случай сей произвел мне много пользы. Я не только получил о многих незнакомых мне до того вещах некоторое понятие, но снискал чрез то знакомство с помянутым г. Пассеком, бывшим до того мне незнакомым, ибо как они во все обратное свое путешествие беспрестанно говорили о сем старике, превозносили похвалами его любопытство и трудолюбие и дивились множеству его машин и инструментов, то вмешался и я в их разговор. А при сем случае не успел я изъявить сожаления своего о том, что они недолго у него пробыли и что мне не удалось многого такого видеть, что узнать весьма бы мне хотелось, как самое сие и побудило г. Пассека спознакомиться со мною короче. Сей был из всех их любопытнейшим, и как он таковое ж любопытство приметил и во мне, то сие и побудило его узнать меня покороче, почему и свел он со мною тотчас знакомство и, расставаясь, просил меня приттить когда-нибудь к себе, говоря, что когда я так любопытен, то и он может показать мне что-нибудь достойное моего зрения и любопытства.
Сего я и не преминул чрез несколько дней после того сделать и могу сказать, что посещением сим был крайне доволен. Я нашел у него то, чего всего меньше ожидал. Он был хотя простой поручик в нашей службе, находившийся тогда тут по некакой порученной ему комиссии, но я не знал, что он имел великий достаток, был знаменит родом, знаком между большими господами и употреблял тогда множество денег на доставаиие драгоценных книг, всяких машин и инструментов. Я нашел у него первых уже нарочитое собрание, а из последних никоторая меня так не удивила и не удовольствовала, как электрическая. У него-то в первый раз отроду случилось мне увидеть сию чудную машину, сделавшуюся потом мне столь много известною, и он-то подал мне об ней первейшее понятие. Нельзя изобразить, с каким любопытством я ее тогда рассматривал и как много удивили меня получаемые от ней искры и удары, также и другие разные делаемые ею эксперименты. Машина сия была у него хотя староманерная, с малым пузырем и большим колесом для вращения и пред нынешними весьма еще несовершенная и занимавшая собою почти целую комнату, однако стоившая ему немалых денег и производившая очень сильное и хорошее действие. Она мне так полюбилась, что я расславил ее между всеми моими знакомыми, и не проходило почти недели, в которую бы я у него не побывал и не приводил с собою многих других для смотрения как оной, так и микроскопов и других физических инструментов, а особливо воздушного насоса, которые он также имел и с особливым удовольствием нам опыты свои показывал. Но жаль, что пребывание сего человека у нас в Кенигсберге было недолговременно: он тем же летом от нас отбыл, и я с того времени его уже не видал. Он был родной брат тому Пассеку, который был после наместником в Смоленске.
Около самого того ж времени спознакомился я и с другим нашим офицером, который служил капитаном, но не в полевых полках, а в артиллерии. Звали его Иваном Тимофеевичем и был он из фамилии господ Писаревых и уроженец из самого того Каширского уезда, из которого и я был, следовательно, был прямой мой земляк и сосед по деревням. Сему человеку случилось по делам несколько раз бывать у нас в канцелярии и со мною кой о чем разговаривать, и как он во мне, а я в нем приметил во многом одинакие склонности и согласие в мыслях, то сие не только познакомило, но и сдружило нас очень скоро. Он полюбил меня отменно, а и я почувствовал к нему не только любовь, но и самое почтение, чего он был и достоин. Он был гораздо меня старее, любил читать книги, почитался степенным и порядочным человеком, приобрел от всех к себе почтение и не любил говорить о безделье, а все о делах и делах хороших и слушания достойных, – а поелику и я не менее любил упражняться в таких же разговорах, то самое сие и связывало нас дружеством, продолжавшимся многие годы сряду. Однако около сего времени было знакомству нашему только первейшее начало, ибо вскоре после того отъехал он в армию.
Что касается до канцелярских моих знакомых, то и к ним прибавилось около сего времени еще двое, ибо как письменные дела стали час от часу умножаться, по причине, что генералу нашему поручены и все бывшие в Пруссии войска в команду, то нужна была для сего особая воинская экспедиция, а потому для управления оною и определены были два офицера: один поручик Козлов, по имени Савва Константинович, мужик толстый, простой, но довольно изрядный и меня скоро полюбивший, а другой подпоручик Насеткин, вышедший в офицеры из полковых писарей и составлявший самую приказную строку. Почему с сим человеком имел я только шапочное знакомство, ибо характеры наши были слишком между собою различны; к тому ж и по делам не было у меня с ним никакой связи, да и сидели оба они в других и сеньми от нас отделенных покоях, а сверх того и не обедывали с нами вместе у генерала, а хаживали на свои квартиры.
Кроме вышеописанных упражнений, имел я в сие лето еще одно особливое. Молодежи нашей восхотелось ко всем обыкновенным увеселениям присовокупить еще одно, а именно – составить российский благородный театр. К сему побудились они наиболее тем, что бывшая у нас зимою банда комедиантов уехала в иные города, и театральные наши зрелища уже с самой весны пресеклись, и театральный дом стоял пуст. Итак, вздумалось господам нашим испытать составить из самих себя некоторый род театра. Первейшими заводчиками к тому были: помянутый господин Орлов, Зиновьев и некто из приезжих и тогда тут живший, по фамилии господин Думашнев. Не успели они сего дела затеять и назначить для первого опыта одну из наших трагедий, а именно "Демофонта"{86}, как и стали набирать людей, кому бы вместе с ними представлять оную. Но сие не так легко можно было учинить, как они сперва думали. Людей надобно было много, а способных к тому находили они мало. Те, которые бы могли согласиться, были не способны, а из способных не всякий хотел отважиться на сие дело и восприять на себя не только великое бремя, но и самовольно подвергнуться потом критике и суждениям. Мне сделано было предложение от них еще с самого начала и одному из первых, но я сам долго боролся сам с собою и не имел столько духа, чтоб на сие необыкновенное для меня дело отважиться, и не прежде на желание их согласился, как по многой и усиленной от всех их просьбе. Правда, я имел к тому уже некоторое приготовление. Стоючи еще в Эстляндии на зимних квартирах, полюбил я трагедию "Хорев"{87} и не только почти всю наизусть выучил, но и научился порядочно и декламировать речи, и потому дело сие было мне отчасти уже знакомо, а сие много и помогло тому, что я согласился взять на себя одну роль. Со всем тем, как мне никогда еще не случалось, видеть представлений российских трагедий, то дело сие, а особливо по несмелости и застенчивости моей, казалось мне очень дико, и если б не помогло к тому несколько то, что в минувшую зиму неоднократно случалось мне видеть немецкие трагедии, то едва ль бы я дал себя к тому уговорить.
Коликого труда стоило им набрать мужчин, толикого же или несравненно множайшего требовалось к отысканию способных к тому женщин. Надобны были для трагедии сей две и, к несчастию, обе молодые, а мы из всех бывших в Кенигсберге русских госпож не могли отыскать ни единой. Наконец с великим трудом уговорена была к тому бригадирша Розенша, пребывавшая тогда в Кенигсберге. Боярыня сия была русская, но уже немолодая, а что всего хуже дородная и совсем неспособная к представлению любовницы. Но нужда чего не делает. Мы и той уже были рады; но как другой не могли никак отыскать, то решились, чтоб употребить к тому мужчину. К сему избран был один из товарищей наших, а именно упоминаемый мною прежде родственник и товарищ г. Орлова, г. Зиновьев. Молодость, нежность, хороший стан и самая красота лица сего молодого, любви достойного человека побудили всех упросить его взять на себя роль любовницы, и как он на то согласился, то для бригадирши Розенши определена была роль наперсницы, чем она была и довольна.
Сим образом, набравши всех потребных к тому людей, принялись мы за дело. Тотчас расписаны и розданы были всем роли, и тотчас все начали их учить и твердить наизусть. Мне досталось нарочито великая, однако я прежде всех вытвердил. Не могу и поныне еще без смеха вспомнить, как много занимала меня сия роля и с каким рвением и тщанием я ей учился. Не однажды бывало, что я, запершись один в своей квартире, прокрикивал по нескольку часов сряду, ходючи взад и вперед по своей комнате; не однажды случалось, что и в самую ночь, вместо спанья, протверживал я выученное и старался тверже и тверже впечатлеть все в память. Когда же я дело свое кончил и всю свою ролю выучил, то чувствуемое мною удовольствие я уже никак изобразить не могу. Я возмечтал о себе неведомо что и начинал уже сам турить{88} товарищей своих, чтоб они скорее роли свои вытверживали; ибо как о себе я уже нимало не сомневался, но надеялся твердо, что я ролю свою сыграю хорошо, то пылал я уже нетерпеливостью, чтоб начатое нами дело скорее совершилось. Однако не то вышло, что мы думали и чего ожидали. Обстоятельствам вздумалось вдруг перемениться: произошли некоторые несогласия между соучастниками в сем предприятии, и вся наша пышная и великолепная затея, как мыльный пузырь, лопнула и так рано, что многие еще и половины своих ролей не успели вытвердить. Не могу изобразить, с каким чувствительным огорчением узнал я о сем нечаянном всего нашего дела разрушении. Я получил известие о том от г. Орлова.
– Знаешь ль, Болотов, мой друг, какое горе? – сказал он мне, пришедши одним утром к нам и меня обнимая. – Ведь делу-то нашему не бывать, и оно разрушилось!
– И! Что ты говоришь? – воскликнул я поразившись. – Возможно ли?
– Точно так, – продолжал он, – и ты, мой друг, уже более не трудись и роли своей не тверди.
– Вот хорошо! – возопил я. – Роли своей не учи; да она у меня уже давно выучена, и поэтому все труды и старания мои были напрасны. Спасибо!
– Ну, что делать, голубчик! Так уже и быть, я сам о том горюю, у меня и у самого было много выучено; но что делать, произошли обстоятельства, и обстоятельства такие, что нам теперь и помышлять о том более уже не можно.
– Но какие же такие? – спросил я.
– Ну, какие бы то ни было, – сказал он, – мне сказать тебе того не можно, а довольно, что дело кончилось и ему не бывать никогда.
Сказав сие, побежал он от меня как молния, что так я остался в превеликом изумлении и на него досаде. Со всем тем он был в рассуждении сего пункта так скромен, что я и после сколько ни старался, но не мог никак узнать ни от него, ни от других о истинной тому причине. Все прочие отговаривались, что сами не знают, а он знал, а говорил только всем, что ему сказать не можно, почему и остался я в совершенном неведении, что собственно разрушило сие предприятие, и не знаю того даже и поныне.
Вскоре после сего случилось мне, вместе с ними же и с помянутою госпожою бригадиршею Розеншею, быть в кенигсбергской жидовской синагоге, или сонмище, и видеть их богослужение. Зрелище сие было для меня новое и никогда еще до сего времени не виданное, и я смотрел оное с особливым любопытством и вниманием.
Знатность бригадирши Розенши и графа Шверина была причиною тому, что не воспрепятствовано было нам войтить в сей дом молитвы в самое то время, когда отправлялось у них богослужение и все сие здание наполнено было множеством народа. Было сие во время самой Петровской ярмонки и тогда, когда весь город наполнен был многими сотнями жидов польских. Синагога была каменная, нарочитого пространства и могла помещать в себе множество людей. Мы нашли ее уже всю наполненную народом, но не отправляющим еще свое служение, и как мне в сей раз удалось видеть оное с самого начала до конца, то и могу я описать оное, так и самую синагогу в подробности.
Здание сие составляло порядочный продолговатый четвероугольник и снаружи украшено было немногими архитектурными украшениями, но без всякого сверху купола или какого возвышения сверх кровли; внутри же не имело ни малейшего украшения. Все встретившееся с зрением нашим при входе состояло в едином только возвышенном, аршина на полтора от полу, осьмиугольном амбоне{89}, сделанном посреди сего дома и огороженном вверху низеньким парапетцем. Весь сей амбон не имел более четырех аршин в диаметре и для всхода на него снабжен с боков двумя лесенками по ступеням. По обоим сторонам сего амбона были сплошные лавки для сиденья, такие точно, какие делаются в церквах лютеранских, но с тою только разностию, что стенки, преграждающие оные, были повыше и такой пропорции, чтоб стоящему в лавках человеку можно было об них облокотиться. Сими лавками заграждено было все внутреннее пространство сего здания, и проход оставлен был только в середине, шириною аршина на три. Также было несколько просторного места и впереди, где в прочих церквах делается обыкновенно алтарь, но в жидовских синагогах тут ничего не было похожего на алтарь или на престол, и сие потому, что синагога их не есть собственно их церковь или храм, которого они нигде не имеют, а единственно только род дома, назначенного для сходбища евреев, для воспевания хвалебных песней и псалмов Богу и для поучения себя чтением Священного писания. Почему и сделан у них в передней стене, между окон, некоторый род небольшого внутри стены шкапа или ниша, завешенного небольшою занавескою, и тут хранятся у них книги их Священного писания Ветхого завета, написанные, по древнему обыкновению, на пергаментных свитках. В сих двух или трех вещах, то есть амбоне, лавках и шкапе, состояли все внутренние украшения синагоги их, а четвертую вещь составляли просторные хоры, сделанные у задней стены при входе, сокрытые со стороны от синагоги столь частою решеткою, что не можно было никак всех стоящих на хорах видеть. Хоры сии, составляющие совсем особое отделение и не имеющие со внутренностию синагоги никакого сообщения, назначены у них для женщин, и как сии не должны у них никогда входить туда, где стоят и сидят мужчины, то и вход на хоры сии сделан особый и не снутри, а снаружи здания.
Мы нашли все помянутые лавки наполненные сидящими людьми, из которых иные были с отверстыми главами, а другие имели их покрытыми некоего рода шелковыми разноцветными фатами или покрывалами. Все сидели с крайним благоговением и кротостью, и не было во всем сонмище ни малейшего шума и крика. Нас провели и поставили посредине подле самого помянутого амбона, и тут произошло у нас нечто смешное. Помянутая бывшая с нами бригадирша Розенша, не зная, не ведая, на что у них сделан был помянутый амбон, а считая оный не чем иным, как местом для знатных особ, следовательно, и для стояния и себе приличнейшим и спокойнейшим, будучи столь неблагоразумна, что и, не спросив никого, вздумала вдруг взойтить на оный и занять себе место. Боже мой! Какой сделался в самую ту минуту во всей синагоге шум, ворчанье, ропот и негодование! Все обратили на нее глаза свои, и многие повскакали даже с мест своих и не знали, что делать. Для их и то уже было крайне прискорбно и неприятно, что одна женщина дерзнула войтить в их сонмище. Они и на то смотрели уже косыми глазами, но по знатности ее не смели воспрекословить; но увидев ее взошедшею на место, которое почитали они священнейшим, пришли в крайнее смущение и беспокойство. Несколько человек, и как думать надобно, из их старейшин, без памяти почти подбежали к нам, стоящим на полу подле амбона, и наижалобнейшим и униженнейшим образом, кланяясь и указывая на бригадиршу, просили нас уговорить ее сойтить долой.
– Ах, царские же, царские добродеи! – говорили они нам, прижимая к сердцам свои руки. – Ах, это не треба, это не треба!
Но мы не допустили их долго беспокоиться и шепнули госпоже бригадирше, чтоб изволила она сойтить вниз, но она и сама, приметив волнение, произведенное ею во всем сборище, была столь благоразумна, что сошла тотчас вниз и вежливым образом просила себя извинить в том, предлагая свое незнание, и сие успокоило тотчас все собрание.
Вскоре после сего началось у них богомолие. Оное состоялось в пении псалмов всем собранием на еврейском языке. Но тут не только госпожа бригадирша, но чуть было и все мы не наделали крайнего дурачества. Всем нас превеличайшего труда стоило, чтоб удержать себя от смеха и от того, чтоб не захохотать во все горло: так смешно показалось нам их богомолье. Оно и подлинно имело в себе, а особливо для нас, не привыкших подобное видеть, много чрезвычайного и смешного. Не успел главный их раввин затянуть пение своего псалма, как все сидевшие в лавках повскакивали с своих мест и, покрывшись своими покрывалами, сделались власно как сумасшедшими: они топали ногами, махали руками, кривляясь всем телом качали головами и в самое то ж время произносили такие странные визги, вопли и крики, что мы принуждены были почти зажать свои уши, чтоб избавить слух свой от такой странной и необыкновенной музыки. Одним словом, шум, крик и вопль сделался во всей синагоге столь превеликим, и кривлянье всех было столь странно и смешно, что некоторые из нас действительно не могли никак удержаться от смеха; да и для прочих зрелище сие было крайне поразительно, и мы не перестали тому дивиться до тех пор, пока не растолковали нам, что по еврейскому закону долженствует Бога хвалить не только устами своими, но и всеми членами и что видимое нами кривляние и стучание ногами есть производство сей священной должности.





