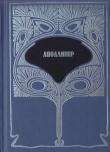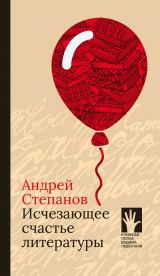
Текст книги "Исчезающее счастье литературы"
Автор книги: Андрей Степанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Привет от Ким Чен Ына
2016 год, весна. Я живу в пригороде Сеула, в университетском кампусе. Поселили меня в студенческом общежитии, но в отдельном номере, на верхнем, двадцатом этаже. Дом к тому же стоит на холме, и из окна открывается совершенно захватывающий вид на такие же двадцатиэтажные дома до самого горизонта. А за горизонтом, страшно сказать, – Северная Корея.
И вот сижу я дома, пишу статью, а иногда, чтобы отвлечься, почитываю новости. А в новостях сообщают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын проводит одно за другим испытания ядерной бомбы и грозится обрушить на проклятых империалистов и их подлых марионеток море огня. А от моего дома до границы километров тридцать, так что можно сказать, живу я практически на берегу обещанного вождем моря.
Вот читаю я эти новости, и вдруг раздается сирена, а затем включается громкоговоритель. Я и не знал, что они тут есть в каждом номере. И женский голос взволнованно произносит какие-то фразы на корейском языке. И повторяет. Очень взволнованно. Потом опять сирена, и все с начала.
Я подхожу к окну – и тут мимо на бешеной скорости проносятся два истребителя. В сторону северной границы.
«Ну, началось!» – думаю я.
Хватаю паспорт, бумажник, телефон и томик Чехова и бегу вниз, в бомбоубежище – которое здесь, разумеется, есть в каждом доме. Лифтами в таких случаях пользоваться нельзя, даже если их пока не отключили.
На бегу достаю телефон и принимаюсь искать номер корейского приятеля. Руки трясутся. На пятнадцатом этаже удается правильно набрать номер, на восьмом слышу ответ. Даю послушать объявление, которое и на лестнице звучит так же громко и так же взволнованно. На четвертом подношу трубку к уху и спрашиваю:
– Ну?
Он не очень хорошо говорит по-русски, поэтому не сразу находит нужные слова. Я успеваю добежать почти до первого этажа:
– Она… эта девушка… она говорит, что через час совсем не будет… не будет… как это по-русски…
– Ну!
– Горячей воды.
2018
Современное искусство с человеческим лицом
После публикации романа «Бес искусства» меня стали часто спрашивать, неужели я нигде и никогда не видел хорошего современного искусства?
– Никогда-никогда не видели ничего человеческого? Неужели везде и всюду только говно в коробочке?
Я попытался честно вспомнить хоть один случай – и вспомнил.
Дело было в Японии. Я прилетел туда с небольшой группой коллег, чтобы провести семинар по русскому языку и литературе. Собственно, в мои обязанности входило прочесть одну лекцию – и все, свободен, в оставшееся время можно было впитывать японскую культуру. При этом я знал, что пробуду в Японии всего три дня – ужасно обидно. Я даже придумал что-то вроде утешительной шутки, которой буду потом отвечать на вопросы, долго ли я там был: три года в Южной Корее, три месяца в Китае и три дня в Японии.
Естественно, что сразу по приезде, бросив вещи в гостинице, я побежал смотреть Токио. Точнее – не побежал, а пошел. И даже так: повлекся. Сил оставалось совсем чуть-чуть. Встать в шесть утра, доехать до Пулкова, долететь до Москвы, просидеть три дурацких часа в Шереметьеве, потом десятичасовой перелет, потом часа два от аэропорта до центра Токио – сколько всего получается? Лучше не считать. Короче говоря, чувствовал я себя узником НКВД на допросе, когда от тебя требуют признания, что ты, допустим, японский шпион, и не дают спать третьи сутки. Переминаешься на ватных ногах и пытаешься сообразить, какое из белых пятен – лампа, а какое – физиономия следователя.
К счастью, я заранее наметил четкий план, что и в каком порядке смотреть, и можно было действовать почти автоматически. Оперативно оторвавшись от коллег – любителей суши и сашими, – я отыскал заранее отмеченное на карте место: небоскреб, с которого смотрят на Фудзияму. Целый этаж – шестидесятый, кажется, – в этом здании отведен для созерцания священной горы. Я кое-как протолкался к стеклу, запечатлел на телефон синий конус на желтом фоне, а затем закрыл глаза и попытался прислушаться к своим чувствам. Ну надо же что-то почувствовать, когда видишь Фудзияму в первый и, скорее всего, последний раз в жизни? Однако я тут же понял, что обращение внутрь себя было грубой ошибкой. Пока работаешь с внешними раздражителями – разрезаешь толпу или, скажем, переходишь дорогу, – что-то держит рубильник сознания включенным. Стоит закрыть глаза – и все, тебя больше нет.
Поспешно их открыв, я направился дальше. Следующим по плану был знаменитый музей современного искусства, располагающийся в том же самом небоскребе двумя этажами выше. Тут у меня имелся хитрый расчет: бодрое чувство лютой ненависти, которое обычно вызывают в моем организме произведения актуальных художников, должно было помочь продержаться часа два. И первые полчаса все шло совсем неплохо. Холодные волны негодования, привычно набегавшие от произведений Кляйна и Кошута, приятно остужали голову и если не прогоняли, то на время отпугивали сон. Однако дальше стало хуже. Музей оказался очень большим. Он вмещал не только заслуженных и международно признанных жуликов, но и множество их японских подражателей. И от местных инсталляций набегали, как бывало в России, волны уже не лютой ненависти, а тихого, уютного презрения, что совсем не способствовало борьбе со сном. Пройдя десяток залов, я почувствовал: все, больше не могу. Я сейчас лягу на этот деревянный, чисто вымытый пол и засну. Пусть японские городовые бьют меня бамбуковыми палками по пяткам. Буду отвечать сквозь сон: «Гражданин начальник, я не японский шпион».
И тут совершилось чудо. Уже совсем собравшись рухнуть на пол, я увидел очень странную инсталляцию и решил прежде понять, что она значит.
Перед стеклянной стеной зала – с видом, кстати, все на ту же Фудзи – стояло на небольшом помосте очень старое, очень мягкое и, по-видимому, очень удобное кожаное кресло.
Рядом висела фотография старой женщины в кимоно и табличка с английским текстом. Художник – как жаль, что я не запомнил его имени! – писал примерно следующее:
«Дорогой посетитель! Моя бабушка была первой женщиной-врачом, работавшим на Тайване. Всю свою жизнь она трудилась по четырнадцать часов семь дней в неделю, а приходя домой поздно вечером, подолгу отдыхала в этом кресле. Дорогой посетитель! Пожалуйста, из уважения к моей бабушке, посидите немного в этом мягком удобном кресле. Сердечно вас благодарю».
Не знаю, сколько я просидел в бабушкином кресле. Должно быть, часа три или четыре. Снилась мне, естественно, Фудзияма – синий конус на фоне желтого заката. Когда я проснулся, заката уже не было – за стеклом была непроглядная тьма.
Глубоко, по-японски поклонившись бабушке художника, я с новыми силами отправился дальше разглядывать Кляйна и Кошута.
2018
II
Об интересном литературоведении
Первым об «интересных теориях» заговорил, кажется, Борис Гройс[1]1
См.: Гройс Б. Новости с теоретического фронта // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 50–53.
[Закрыть]. Интересные теории, утверждал философ, во всем подобны интересным мужчинам. А интересные мужчины – это такие мужчины, которые интересуются исключительно вином, женщинами и картами. Отсюда, заключал Гройс, происходит специфика интересных теорий: они «обычно рассуждают о желании (женщинах), о случайности и семиотике (карты) или о дионисийском растворении в коллективном бессознательном (вино)». Обязательное условие возникновения к ним интереса состоит в том, что излагаться они должны несколько загадочно: «… на фоне интересных теорий, состоящих из отступлений и из несказанного, любое без экивоков сказанное слово выглядит пошлым и плоским»[2]2
Там же. С. 51.
[Закрыть].
Статья Гройса называлась «Новости с теоретического фронта», была написана в 1997 году и начиналась сообщением: «Теория умерла». Сегодня работу на ту же тему можно было бы назвать «На теоретическом фронте без перемен».
Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть последний номер любого западного литературоведческого журнала.
Или – еще нагляднее – посмотреть, чему учат, скажем, на отделении Comparative Literature самого продвинутого в мире университета – Беркли в Калифорнии. Вот названия некоторых курсов: «Как девственница: чистота в литературе»; «Секс и насилие: литература и политика садомазохизма от Петрарки до наших дней»; «Femmes Fatal: фантазии о женственном зле»; «En Vogue: любовь и мода от поп-культуры до кутюр»; «Что мне делать с моей блузкой? Женщины, эротизм и сила пера». Не все названия легко поддаются переводу. Вот как, например, перевести на наш недостаточно продвинутый язык Queer Ecologies? «Экологическая проблематика, имеющая отношение к однополой любви»? А может, лучше предложить вольный перевод: «Розовое, голубое и зеленое»?
Все это читается на кафедре сравнительного литературоведения, которая по традиции выполняет также роль кафедры теории литературы. «Введение в литературоведение», кстати, я там не нашел, первокурсникам предлагается только пропедевтический курс «Однополая сексуальность: категории и понятия». При этом не все интересное даже в Беркли относится к области сексуально-интересного. Есть и другие курсы: «Есть и быть съеденным»; «О насекомых в литературе»; «Быть или не быть… счастливым?»; «Писание на ногах»; «Истории полетов в американской культуре»; «Андрогинность и гермафродитизм: теории и литература». Ну и так далее. Всего не перечислишь.
Понятно, что мы живем на разных планетах. Одно только название любого из наших курсов – например, того, который читаю я на русском отделении филфака СПбГУ: «История русской литературы второй половины XIX века, часть вторая», – наверняка вгонит счастливых берклианцев в ступор. Нет, вы только сравните: «Что мне делать с моей блузкой?» и «Основы стиховедения».
Однако не будем преувеличивать. На самом деле различия не так фатальны, как могут показаться на первый взгляд. Яркая обертка – часто просто средство заставить студента читать. Материал курса обязательно включает десяток книг (например, в курсе про блузку – девять классических текстов, от Чосера до Сильвии Плат, плюс современная феминистская сказка), а также пару фильмов, чтобы студенты все-таки не заскучали. А вот с теорией все обстоит гораздо хуже. В большинстве этих курсов (и статей, и книг) «якобы теория» играет ту же роль, какую играл якобы марксизм в позднесоветской науке: приводишь вначале пару цитат из Фуко или Джудит Батлер, а потом, свободно вздохнув, начинаешь рассказывать интересные истории. Теория не умерла совсем, как считал Гройс, а, скорее, превратилась в видимость легитимации для интересных историй, а те в свою очередь служат прикрытием для элементарного просвещения. По крайней мере, хочется надеяться, что это так.
Помимо умеренно-просветительской задачи – дать понять обитателям рая, что где-то есть или была культура, – «ученых» объединяет только одно: непрерывное переписывание канона. Тоталитарный список «литературных памятников», созданных мертвыми белыми мужчинами, от Гомера до Флобера, должен быть заменен множеством разноцветных – феминистских, постколониальных, розовых, голубых, черных, желтых, зеленых и др. – канонов. На самом деле такое «переписывание» есть, разумеется, не что иное, как чистое разрушение, потому что «множество канонов» – это оксюморон. Консенсуса не возникает, а там, где его нет, вакуум немедленно заполняет интересное литературоведение.
Я бы сравнил историю гуманитарных наук в последние полвека с другой печальной историей – историей живописи (и шире – пластических искусств). Все, что происходило в ней, начиная с появления авангарда, можно представить как постепенный демонтаж одной максимы: «Художник отражает действительность, воспроизводя ее при помощи красок, создает иллюзию реальности в виде чувственно воспринимаемого предмета (произведения искусства) и выражает при этом определенное отношение к изображаемому».
Малевич, закрасивший квадрат черной краской, вероятно, думал, что достиг некоего предела, дальше разрушать будет нечего. Однако оказалось, что его шаг – только начало большого пути. Первые абстракционисты отказались всего лишь от репрезентации, от изображения людей и предметов. А предстояло еще отказаться
– от создания картины – например, заменив ее готовыми («реди-мейд») вещами;
– от обработанных вещей – например, в минимализме 1960-х годов, когда стало возможно выставлять железные балки со стройки;
– вообще от артефактов – например, выставив в виде произведения табун лошадей или дерьмо художника, как сделал Пьеро Мандзони;
– от произведения искусства как материального предмета – например, в акционизме и хеппенинге.
Однако и в любой акции (допустим, когда человек лает и кусается, изображая собаку) все-таки присутствует наследие проклятого прошлого: момент отчуждения художника от самого себя. И вот знаменитая перформансистка Марина Абрамович в недавней акции «Художник присутствует» в МОМА устраивает окончательную немую сцену: перформанс состоит в том, что художница молча сидит на стуле и смотрит в глаза сидящему напротив посетителю музея. Наверное, в этот момент ей, как в свое время Малевичу, кажется, что теперь-то дно достигнуто. Однако мало кто сомневается, что скоро снова постучат снизу.
Итак, обязательной функцией современного искусства является установка на новизну, достигаемая непрерывными отказами, каждый из которых надо понимать как реплику в споре с предшественниками (своего рода совмещение бахтинского диалога и хайдеггеровского бытия-к-смерти). Нечто подобное происходило в философии и близкой к ней теории литературы. Вот эта долгая история в кратком изложении И. П. Смирнова:
Если бы программа раннего постмодернизма была выполнена по всем пунктам, то культура тут же завершилась бы апозиопезе, в гоголевской немой сцене. Перевыполнить план, наметившийся в 1960-1970-е годы, нельзя. Он охватывает духовную жизнь отрицанием со всех сторон… От чего только нам не предлагали отказаться! От интерпретации художественных текстов, дабы ничто не мешало наслаждению ими… а заодно от создания таковых ради апофатического творчества… От понятия субъекта, которого якобы повсеместно вытеснил «соблазняющий объект», но также и от категории объекта, поскольку субъекту в роли «машины желаний»… безразлично, на кого и на что направлять свои рассеянные влечения. От авторства, претендуя на которое мы всего лишь присваиваем себе ту власть, каковой обладают дискурсы… и вместе с тем от веры в омнипотенцию дискурсов (= «большого повествования»), распавшихся в современном обществе… на множество «языковых игр». На постмодернистском пути мы потеряли логос, фаллос, а с ними, естественно, весь наш благообразный человеческий образ[3]3
Смирнов И. П. Теория и революция // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 42.
[Закрыть].
В отличие от программы демонтажа пластических искусств, эта программа не была выполнена до конца, и понятно почему: «актуальным мыслителям» надо было удержаться в рамках университета и академии, где они получают зарплаты и гранты; нельзя же залаять собакой на защите диссертации, даже если очень хочется. Но главное удалось: вместо внятной программы коллективных исследований, подчиненных единой цели – раскрытию законов порождения, построения и восприятия художественного текста, – мы имеем сегодня огромное число «интересных» микроисторий, которые претендуют (помимо грантов) только на то, чтобы на короткое время удержать внимание читателя.
Здесь надо остановиться и оглянуться, чтобы понять: не Cultural Studies, не Новый историзм и не какая-нибудь «новая экономическая критика», а именно структурализм оказался последним большим проектом, предполагавшим совместное искание истины. Уже в работах К. Леви-Стросса конца 1940-х годов была намечена программа поиска аналогов соссюровского langue в структурах родства, и это должно было привести к ответу на основной вопрос антропологии: что такое человек? Сотрудничество с Якобсоном позволило расширить эти поиски на область художественных текстов, а затем наступила счастливая эпоха, когда работы, касающиеся мифологических персонажей, доисторических бронзовых предметов, объектов моды, еды и одежды, структуры города, карточных гаданий и алхимических формул превратились на время в единое поле исследования, объединенное, как говорил Ролан Барт, интересом к поиску нелингвистических языков. Все эти труды имели ясную общую цель: они должны были в конечном итоге раскрыть общие закономерности человеческого мышления. Кстати, многие из них оказывались вполне «интересными» (и остаются таковыми и сейчас – чтобы убедиться, достаточно открыть первые тартуские «Труды по знаковым системам», благо они теперь есть в интернете), но их авторы и реципиенты ценили не (только) это, а верифицируемое^ и принадлежность к общему делу. Господствовала установка на строгую научность. В России этому способствовала еще и языковая аберрация: как известно, у нас слово «наука» может обозначать и humanity, и science, и только на этом фоне мог убедительно прозвучать лозунг «Литературоведение должно стать наукой». У разрушителей – лозунга не было, но сейчас, задним числом, его легко додумать: «Литературоведение должно стать искусством».
«Научные работы» сначала на Западе, а потом и у нас на протяжении 1970-1990-х годов постепенно сменялись «микроисториями», формируя некую странную область полутворчества, в которой в принципе не может быть ни претензий на раскрытие истины, ни коллективных задач, ни открытий, ни школ, ни ответственности. Зато в ней остаются имитирующие науку «методы», в том числе и старые, легко вписавшиеся в новую ситуацию. К последним относятся, например, так называемые интертекстуальные исследования (с их подразделом – мифопоэтикой), давно выродившиеся в «интертекстуальность без границ». Сейчас любой профессиональный филолог может сказать: «Дайте мне два текста, и я найду не только общее между ними, но и укажу на третий текст, к которому они восходят». Или, например, методы описания культурных систем Клиффорда Гирца, лучшим примером адаптации которых в России, как известно, является книга А. Л. Зорина «Кормя двуглавого орла». Думаю, никто не станет спорить, что в памяти ее читателей остаются не приведенные в начале принципы «насыщенного описания», а интереснейшие истории, каждая из которых достойна романа: будь то «греческий проект» Екатерины или тайная дипломатия Людовика XV с участием шевалье д’Эона. Тут, кстати, приходит на ум еще одно разграничение науки – не науки. Статья в математическом журнале, посвященная, скажем, топологии, не может начинаться с объяснения основных понятий топологии. Работа о греческом проекте Екатерины может и обязана начинаться с объяснения того, что такое греческий проект Екатерины. Интересное литературоведение всегда адресовано профанам.
Этими чертами, несомненно, отличаются и работы А. М. Эткинда, которые их автор объявил российским изводом Нового историзма. Именно его труды, как мне кажется, можно считать эталоном отечественного интересного литературоведения. Тут есть все: глубокая вера в релятивность истины, вполне осознанное отрицание больших нарративов и надоевших верований «окостеневшего структурализма», сознательное обращение только к интересным, а чаще к горячим темам, «презумпция интертекстуальности» (убеждение, что любой элемент текста взят из другого текста), а также нескрываемое презрение к «фактографам» и всяческим «проверкам». Как точно сформулировали Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин в полемике с Эткиндом, «профессиональную работу в науке – совсем не обязательно ведущуюся людьми более умными или даже более эрудированными, чем дилетанты, – отличает лишь одно обстоятельство: эта работа кумулятивна. Иначе говоря, она подчинена определенным нормам и правилам, большая часть которых сводится к условиям необходимой проверки выдвигаемых фактических или методических высказываний»[4]4
Гудков Л., Дубин Б. Раздвоение ножа в ножницы, или диалектика желания. (О работе Александра Эткинда «Новый историзм, русская версия») // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. С. 90.
[Закрыть]. Работы с установкой на научность – скажем, лингвопоэтические анализы Якобсона или Лотмана – легко поддавались верификации/ «фальсификации». Другими словами, были времена, когда двое ученых, получивших одно задание, могли прийти к одним и тем же результатам. Труды интересных литературоведов в принципе никакой верификации не поддаются: невозможно представить себе исследователя, которому придет в голову точно тот же набор ассоциаций по поводу «Пиковой дамы», что и А. М. Эткинду[5]5
«Инженерная профессия Германна связывает его с Михайловским замком, мистическим центром Петербурга. ‹.› История Германна вся разворачивается в странном мире Библейского общества. Если Германн – сын графини, как свидетельствует „близкий родственник покойницы“, – то он убийца своей матери. ‹.› Я не утверждаю, что Германн – „человек с профилем Наполеона, а душой Мефистофеля“, – литературный портрет Александра, которого сравнивали со Сфинксом и Гамлетом; но.» и т. д. (Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. С. 20–21).
[Закрыть]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.