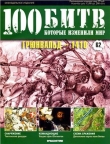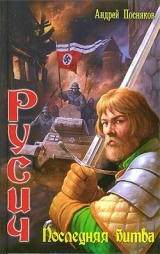
Текст книги "Последняя битва"
Автор книги: Андрей Посняков
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Андрей Посняков
Последняя битва
Глава 1
25 марта (7 апреля) 1410 г. Великое Рязанское княжество. Благовещенье Пресвятой Богородицы
Слышу песни жаворонка,
Слышу трели соловья…
Это – русская сторонка.
Это – родина моя!
Феодосий Савинов«На родной почве».
Всадники на сытых конях наметом вылетели из-за холма, и – йэхх! – понеслись по грязной весенней дороге, разбрасывая по сторонам брызги. Хорошо понеслись, весело – с криками, с песнями, с посвистом молодецким. И то дело – праздник. Гавриил-архангел явился в этот день к Святой деве Марии, возвестив, что у нее вскоре родится сын и имя Ему будет – Иисус. Сию Благую весть – Благовещенье – народ и стал праздновать радостно и с размахом, как раз в это время вовсю разыгрывалась весна, таял снег, журча, бежали ручьи, и яркое веселое солнце отражалось в голубеющих лужах. Как вот и сейчас. Солнечно было и оттого – на душе светло, приятно. Хотелось петь, веселиться, скакать этак вот, с бесшабашной удалью – эхма, хорошо! На Благовещенье солнце – весна будет дружная. Да и что сказать, в этот год к этому и шло – снег уже почти повсеместно стаял, лишь угрюмился по углам и в лесах черными слежавшимися сугробами, теплые стояли деньки, истинно весенние, правда, по утрам стояли морозцы – «утренники» – все, как положено, с инеем, с хрустящим ледком на лужах. Знающие люди говорили – «на Благовещенье мороз – урожай на грузди». Ну не такие уж и сильные морозцы стояли – едва поднималось солнышко, как тут же стаивали и ледок, и иней. Такая-то погода для купцов хороша – пути-дорожки за ночь вымерзают, днем сушатся – грязи мало, этак вскоре можно и снаряжать возы в дальний торговый путь. А вот для крестьянина не очень-то хорошо, ему бы как раз дождика, потому как и на этот случай верная примета есть: на Благовещенье дождь – уродится рожь. Ну так дождики и шли на прошлой неделе, а нынче вот, на праздник – ясно.
– Хей-гей, боярин-батюшка. – Один из всадников – молодой парень, синеглазый, с непокорными, выбивающимися из-под шапки вихрами – догнал скачущего впереди. – Иване Петрович, в Чернохватово завернем ли?
Боярин придержал коня, задумчиво потеребил небольшую, аккуратно подстриженную на литовский манер, бородку. Огляделся, дожидаясь остальных. Позади, за березовой рощицей, виднелась укрепленная частоколом усадьба, дальше тянулись поля, спускавшиеся к широкой реки, к заливному лугу. Поля, луг и усадьба, и еще несколько деревень с починками – Гумново, Обидово, Чернохватово – принадлежали Ивану Петровичу, именитому вотчиннику, коему благоволил сам рязанский князь Федор Олегович. За рощицей начинались земли Ферапонтова монастыря – самого главного Иванова конкурента, игумен – архимандрит Феофан, желчный и злой старикашка – давно уже пытался захватить рощицу, да получил по рукам и с тех пор принялся активно судиться. Однако и Иван Петрович был не лыком шит, законы знал и сильных покровителей при князе имел – так что отсудить рощицу игумену не удавалось. Но тот, гад, все же не терял надежды – имелись и у него при князе Федоре свои люди. Так вот конфликт и тлел.
– В Чернохватово, говоришь, заехать? – В серо-голубых глазах боярина на миг проскользнула хитринка. – А зачем нам в Чернохватово, Проша?
– Ну… – замялся парень. – Подарков бы на рядке купили, да и так…
– Так мы ж в город едем. – Иван Петрович усмехнулся. – Там и купим.
– Зазноба у него в Чернохватове, вот что, – подъехав, доложил осанистый молодец в травянисто-зеленом полукафтанье, с круглым, пышущим здоровьем, лицом. Неслабый был парень – видно, как под одежкой перекатывались мускулы, у пояса же покачивалась сабля в красных сафьяновых ножнах. Впрочем, оружье имелось при всех – не сабля, так кинжал или короткий меч, а у Проньки – так еще и саадак с луком и стрелами. Что поделать, места кругом тянулись разбойные, лесные. Что и говорить, у самого боярина, Ивана Петровича, тоже висела на боку сабля: тяжелая, небольшой кривизны, с рукоятью, украшенной драгоценными камнями и затейливой восточной вязью. Подарок старого дружка – Тайгая – беспутного ордынского княжича, честно служившего сначала Тохтамышу, затем Железному Хромцу – Тимуру, а некоторое время назад, после смерти Тимура, подавшегося в Москву, на службу Василию Дмитриевичу – великому московскому князю, приходившемуся князю Федору Рязанскому шурином. Вообще для Рязани тусклые наступили времена, прошла, отгремела, улетучилась почти без следа рязанская былая вольница. Еще прежний-то князь, Олег Иванович, отец Федора, бывало, не раз бивал московские войска, лавировал меж тремя силами – Литвой, Ордой и Москвою – да и тот к концу жизни поостыл, понимая – не те уж у Рязани силы. Сидел молчком, осторожненько, войн никаких не вел, даже сыну своему дочку московского князя Дмитрия сосватал в жены. С тем и умер; восьмой год уже, как единолично правил княжеством Федор и правил мудро – открыто ни с кем не ссорился, но свои интересы блюл. Уж что-что, а разведка у князя была поставлена хорошо, а заправлял ею думный дворянин Дмитрий Федорович Хвостин, знаток латыни, пожилой, улыбчивый с виду, но со стальным сердцем. Ивановой дочке – пятилетней боярышне Катюше – Дмитрий Федорович приходился крестным и крестницу во время частых приездов баловал – игрушки забавные дарил, сласти, а как войдет девка в сок – обещал подобрать достойного мужа.
Иван Петрович вдруг улыбнулся – а ведь недолго уж того ждать, лет десять каких-то. Этак, глядишь, и дедушкой скоро стать придется. И даже, может быть, быстрее, чем сейчас думалось, сыновья-погодки, Мишаня с Панфилом, подрастали – обоим по семь годков стукнуло. Мишаня светленький, с глазами – как у батюшки – серо-голубыми, со сталью. Панфил же потемнее, а глаза – зеленые, в маму – боярыню Евдокию, Евдоксю. Ой, краса-боярыня, волосы темно-русые, густые, фигура на загляденье – посмотришь, не скажешь, что солидная замужняя женщина – девочка, как есть девочка. А уж глаза… Изумрудно-зеленые, сверкающие, как камень на золотом перстне, который Иван Петрович, не снимая, носил на правой руке, на указательном пальце. Золотой, с изящным орнаментом и большим изумрудом, круглым, с огранкой по краю. Подарок Тимура, давно уже покойного потрясателя Вселенной. И еще два таких перстня лежат дома, в шкатулке, всего получается – три. Похожих, как близнецы-братья. Или – одних и тех же?
Иван взглянул на кольцо и вдруг нахмурился: показалось, что камень вдруг вспыхнул на миг недобрым зеленоватым светом. Неужели… Нет, и впрямь – показалось, просто в гранях изумруда отразилось солнце.
– Ну что ж. – Подняв голову, Иван улыбнулся. – Заедем, коли зазноба. Что хоть за девушка, а, Проша?
Парень опустил глаза, застеснялся.
– Агафья, Захара Раскудряка дочь, – пояснил за него здоровяк.
Пронька тут же оглянулся на него, сердито сверкнув глазами:
– Лучше бы помолчал, Михряй. У меня, чай, и у самого язык есть!
– Агафья, значит, Захарова дочка. – Иван улыбнулся в усы. – Знаю, девица добрая. Ну завернем, поехали, навестим Захара.
И вновь понеслись кони, полетела из-под копыт жирная весенняя грязь, а впереди, в темной глади недавно освободившейся ото льда реки, отразилось солнце.
Рядок располагался рядом с мостом, впрочем, какой рядок – уже целый город! Торговые ряды, лавки, амбары, постоялый двор – все это было огорожено свеженьким частоколом, с крепкими воротами и башнями – успешная торговлишка Раскудряка, естественно, привлекала пристальное внимание лихого люда.
Завидев боярина, стоявший на воротной башенке парень в кольчуге и железном, начищенном ярко шеломе, свесившись вниз, махнул рукой, закричал что-то. Ворота медленно распахнулись, бесшумно, без всякого скрипа, Захар Раскудряк не пожалел на смазку петель старого сала.
– Здрав будь, боярин-батюшка! – выйдя, поклонились в пояс трое приказчиков – все в добротных кафтанах, при поясах шитых – не голь-шмоль перекатная.
– И вы будьте здоровы, людишки торговые, – улыбнулся Иван. – Где хозяин ваш, подобру-поздорову ли?
– Слава Господу, подобру, – откликнулся один из приказчиков – светловолосый, юный, с карими пронырливыми глазами. – Как говорят ливонские немцы – зер гут!
– Ого! – удивился боярин. – Ты и немецкую речь ведаешь?
Парень поклонился:
– Ведаю, господине. В Ливонию с прежним своим хозяином не раз хаживали – и в Ригу, и в Дерпт, и в Ревель. Пока не сгубили разбойные люди купца моего. С тех пор здесь и осел. А Захар с Хевронием-тиуном сранья еще подались в город с обозом, на ярмарке праздничной торговати.
– Ах, вон оно что. – Иван хлопнул себя по лбу. – Оно ж и правда – ярмарка! – Он живо глянул на приунывшего Проньку и, повернувшись обратно к приказчикам, спросил: – И кто тут у вас посейчас за главного?
– Язм, господине, – снова поклонился знаток немецкого и запоздало представился: – Савватий, Архипов сын. Захар мне наказывал сегодня на рядке за порядком следить.
– Ну уж и не рядок у вас, – довольно ухмыльнулся гость. – Город! Ну, Савватий, веди, показывай ваше хозяйство.
Жестом отпустив парней погулять, Иван зашагал следом за приказчиками. Шагал – улыбался. Было с чего – рядок-то и в самом деле разросся: от пристани почти до самого Чернохватова – раньше деревеньки в три двора, а ныне – уже дворов с полтора десятка будет, большое село! Скоро вот-вот с рядком в город срастется. Потянулся народ – бобыли – уже и слободки наметились – кузнецкая, горшечная, бондарская, прочие… А кто всем этим владеет? Ясно – кто. Иване Петрович Раничев, боярин-батюшка! А кто городом владеет, тот деньгу к деньге имеет – как тут не улыбаться? Рядок этот, еще лет пять назад Захаром и Хевронием-тиуном устроенный, Иване завсегда поддерживал – и материально, и, так сказать, морально, и – если надо – войском-дружиною. А войско у Ивана имелось. Хоть небольшое, но умелое – бывший дружинник рязанского князя Лукьян давно уже служил Раничеву верой и правдой.
– Монастырские не тревожат ли? – с нескрываемым удовольствием обозревая лавки и богатые товарами рядки, осведомился Иван.
– Да с ледохода не были, – отозвался приказчик. – Там ведь по льду тропка была – так старцы рекли – то их тропинка и чтоб наши, чернохватовские, по ней не хаживали.
– Слыхал, слыхал про эти распри. Докладывали.
– На постоялый двор глянешь, боярин-батюшка? – Савватий вмиг изобразил на лице подобострастное выражение – мол, только прикажи проводить!
– На двор? – Иван почесал бороду. – Нешто пивка сварили для-ради праздника?
– Сварили, как не сварить! Так и думали, что ты, господине, в гости пожалуешь.
Боярин усмехнулся, расправил плечи и с размаха хлопнул парня по плечу, отчего тот, бедняга, ажно присел.
– Ну веди, парнище!
– Ну и удар у тебя, батюшка… – скривился Савватий. – Тяжела рука-то!
– Ничего! То для врагов – тяжела, а для своих – легкая. Эвон, изба недостроенная – туда, что ли?
– Туда, туда, господине.
Зашли: мимо недавно сколоченного, еще пахнущего свежей смолой, заборчика, мимо коновязи, вдоль длинного амбара – вот и, собственно, постоялый двор. Просторная, рубленная в обло изба на просторном подклети, к подклети же примыкала пристроица с еще не покрытою крышей, так, сруб закончили класть осенью, и вот теперь пришла пора доделывать – крышу покрыть, прорубить оконца.
– Здрав будь, боярин-батюшка! – гурьбой скатилась с крыльца прислуга. – А мы-то издали углядели в оконце, мыслим – не к нам ли?
– К вам, к вам. – Иван ухмыльнулся. Эко – «углядели»! Еще бы не углядеть этакого видного боярина: красив, высок, строен, да и одет на загляденье: бархатные темно-голубые штаны, сапожки малиновые, кафтан немецкого сукна, зеленый, с узорочьем вышитым, поверх – для тепла и нарядности – просторная синяя однорядка, щедро украшенная битью – плющеной серебряной проволочкой. На голове у Ивана Петровича – шапка парчи алой, золотом вышита, мехом собольим оторочена, не шапка – загляденье; на поясе с желтыми шелковыми кистями – кошель-калита да – с левого боку – сабля. А пуговицы, пуговицы-то какие у боярина! На однорядке, да по всему кафтану, сверху донизу – золотом сусальным покрыты, блестят – спасу нет! Попробуй-ка, не заметь такого красавца.
Поднявшись по крыльцу, Иван прошел в просторную гостевую горницу, сняв шапку, перекрестился на иконы и, сбросив однорядку на руки служкам, уселся за стол на широкую лавку, пожурив для порядку:
– Чтой-то народу у вас маловато.
– Так, праздник же, господине! – в голос обиделись служки. – Благовещенье Пресвятой Богородицы.
Иван усмехнулся:
– И без вас знаю, что Благовещенье. Народ, поди, в городе весь?
– В городе, господине, на ярмарке.
– И к вам, конечно же, не заглядывали?
– Да какие-то скоморохи были. Ушли вот, недалече до вас.
– Скоморохи? Неплохо было б их послушать… Ну ладно. Чего встали? Несите пиво-то. А ты, – он оглянулся на Савватия, – со мной рядом садись, пиво пить.
– Ой, господине…
– Да не боись, сам платить не будешь – угощаю!
Служки живо притащили с полклети свежесваренного пивка в больших деревянных кружках, пенистого, холодного, а уж на вкус – нектар, не пиво. Иван глотнул и довольно крякнул:
– Эй, а сушек соленых нету?
– Несем, несем, батюшка.
Метнувшись вихрем, служки живо разложили на столе закуски: соленую капусту в большой деревянной плошке, сушки, соленую и жареную на вертеле рыбку – форель, налим, хариус, миски с ухою – налимьей, форелевой, стерляжьей – и краюху заварного хлебушка.
– Эх, хороша капустка! – Запустив руку в плошку, Иван Петрович лихо отправил в рот щепоть капусты, захрустел одобрительно. – И на стол поставить не стыдно, и съедят – не жалко. Верно, Савва?
– Так-так, господине… Ох и пивко удалось нынче. Вкусное!
– Хм… вкусное, – передразнил приказчика Иван. – Как говорится, за чужой-то счет и уксус сладок… Ну-ну, не журися, шучу! Пей давай, раз вкусно. И… вот что, паря… – Раничев жестом отослал служек прочь. – Кой годок-то ты здесь, на рядке, живешь?
– Второе лето будет.
– А самому-то тебе сколь?
– Пятнадцать, боярин-батюшка.
– Угу. – Раничев довольно хмыкнул. – Это хорошо, что пятнадцать. Значит, ты всю молодежь на рядке и в Чернохватове знаешь.
– Знаю, – живо кивнул приказчик. – Чай, господине, про кого-то спросить хочешь?
– О! – Боярин натянуто усмехнулся. – Смотри-ка, умен.
Иван вдруг резко сграбастал парня за ворот и, строго взглянув в глаза, негромко спросил:
– Про Агафью, Захара Раскудряка, хозяина твоего, дочку, что на рядке болтают?
– Умм… – Парнишка испуганно захлопал глазами. – Ничего… ничего плохого не говорят, батюшка.
– А хорошего?
– Хорошего… Ммм… Весела, говорят, дева, добра, да и рукодельница.
– Рукодельница? То неплохо. А ты сам-то ее знаешь?
– Да знаю, я ж у Раскудряка живу. Да и хороводы водим… Поет звонко, заслушаешься, и на вид – краса-дева.
– Вот и славно, – отпустив приказчика, Иван подозвал служек. – Эй, вы что там, заснули, что ли? А ну, тащите еще пива!
Служки вмиг исполнили просьбу. Напившись, Иван швырнул служкам мелкую серебряную монетку – деньгу – и, выйдя из-за стола, направился к выходу. Следом за ним подался и приказчик. Правда, на полпути замешкался, обернулся, почувствовав, как сзади дернули за рукав.
– Боярину передай, Саввушка, – с поклоном попросил служка. – То сдача. Больно много целой деньги за пиво-то. Да и деньга-то не простая – ордынская.
Приказчик покривил губы:
– Да уж, ордынская-то в три раза дороже обычной. Ну так это он, может, вам и оставил.
– Мы свое уже взяли, – твердо пояснил служка. – А лишнего не надо. Уж ты возверни, а? Нам-то за боярином по улице бежать неудобно, мало ль чего удумают? Не про нас, про боярина-батюшку.
– Ладно. – Савватий пожал плечами и подставил ладонь. – Давай, передам, чего уж…
Не обманул, передал, на, мол, Иване Петрович, сдачу со двора постоялого.
– Сдачу? – подивился Иван. – Ну молодцы, честно работают!
Взяв монетку, сунул, не глядя, в кошель.
У ворот рядка – или, теперь уж, раз частокол – города – давно уже дожидались слуги во главе с Пронькой.
– Едем дальше, господине?
– Едем!
Вскочив в седло, Иван Петрович махнул на прощание рукою. Все – и редкие сейчас, в праздник, торговцы, и покупатели – поклонились боярину в пояс. Иван кивнул, улыбнулся: что и говорить, немалый доход приносил, по сути, только еще зарождающийся городок.
* * *
Когда подъезжали к Угрюмову, солнышко уже светило вовсю, жарило, отражаясь в золоченых маковках церквей. Колокольный звон плыл над городом, поднимаясь высоко в синее-синее небо; казалось, угрюмовские колокола слыхать было в соседних Ельце и Пронске. Пахло теплом, тающим снегом и первой, едва пробивающейся, травою. Впереди, едва не заливая мостик, поблескивала разлившаяся широко речка. За мостом, у пристани, у раскрытых ворот, прохаживалась принаряженная вороная стража: в пластинчатых плоских доспехах, в шеломах с разноцветными яловцами – флажками, с копьями, при червленых миндалевидных щитах.
Заметив боярский кортеж, стражники насторожились, выставив вперед копья, кое-кто из них уже бросился, побежал к воротам, однако застыл, обернулся на свист. Свистел, узнав Ивана, один из пожилых воинов. Махнул рукой, улыбнулся, успокоив своих. Иван Петрович в Угрюмове-городе человек был для многих известный – как же, именитый вотчинник! Да и у самого друзей здесь было немало, и также немало врагов-завистников.
Пронька оглянулся в седле:
– Куда поначалу, боярин-батюшка? В церкву, в корчму, на торжище?
– В церкву, в церкву, куда же еще-то? – размашисто перекрестясь на видневшиеся из-за городской стены золоченые купола храма, благостно отозвался Иван. – Чай, к обедне звонят.
– К обедне.
Тут же, за воротами, у старой башни, привязали коней, оставив для присмотра одного из молодших слуг, да, сняв шапки, пошли в церковь.
Красиво было кругом, истинно празднично. Тусклым золотом блестели оклады икон, сладко пахло ладаном и свечами. Священники в парадных облачениях творили службу… Иван не вслушивался в слова, молясь про себя и время от времени осеняя чело крестным знамением. Поставил несколько свечек: во здравие всех своих близких и ныне живущих друзей, за упокой умерших. Взяв в руки свечу за бывшего ордынца, а ныне московского дворянина Тайгая, задумался. Тайгай ведь был мусульманином, что никогда не мешало ему весело пить вино… хотя сейчас, кажется, Тайгай – православный. Ну да, ну да – крестился, а крестным сам князь был, Василий Дмитриевич. Значит, смело можно свечечку во здравие ставить. Теперь – за упокой славного воеводы Панфила Чоги, приемного отца Евдокси, за упокой еще многих, кои были когда-то дружны с Иваном, но, увы, теперь давно уж лежат во сырой земле. Это те, о которых знаешь. А ведь есть еще и другие, о которых не известно совсем ничего, – скоморох Ефим Гудок, Салим Ургенчи, Нифонт Истомин, известный в теплых морях как искатель удачи Зульфагар Нифо. Что с ними? Где они? Живы ли, нет ли? Бог весть…
Отдав дань памяти живым и мертвым, Иван принялся исподволь разглядывать посетителей храма. Искал знакомых, да что-то не видно было никого. Хотя… Нет, во-он тот боярин, что стоит со свитой напротив амвона – с ним точно встречались у князя. Как бишь его, боярина-то? А, не важно… Рядом с ним какая-то женщина в темном, накинутом на голову покрывале… вот словно бы почувствовала взгляд, обернулась. Мимолетная улыбка тронула уста. Иван озадаченно нахмурился. Кто такая? Знакомая, явно знакомая, но вот – кто? Была бы здесь супруга, Евдокся, может быть, и узнала бы, да не взял сегодня с собою жену Иван Петрович, не взял. Побоялся – едва оправилась та от лихоманки, пусть уж дома посидит до настоящего-то тепла, побережется с опаской.
Иван улыбнулся. О супруге думалось ласково, с нежностью. Еще бы… Слава господу, подарил-таки любовь. Сколько Ивану было при первой встрече с Евдоксей? За тридцать уже… а ей – примерно семнадцать. Пятнадцать лет прошло, пролетели годы, как один день, даже не верится. Уже и дети подрастают: сыновья – Мишаня с Панфилом, Катюша – дочка.
Задумавшись, поддавшись нахлынувшим вдруг мыслям, Раничев и не заметил, как подошла к концу служба. Народ, крестясь, повалил к выходу поначалу благостно, сановито, затем – поспешно толкаясь. Праздник-то – он ведь только еще начинался!
Выйдя на паперть, Иван прикрыл глаза – настолько ярким показался ему солнечный свет, впрочем, и не ему одному, после полумрака храма. Прищурившись, Раничев приложил руку ко лбу козырьком – смотрел, как в небе стремительно пронеслись птицы с раздвоенными хвостиками. Ласточки или стрижи. Летели высоко – дождя не будет, а еще примета такая была: Благовещенье без ласточек – к холодной весне. Нынче, значит, весна теплою будет. Ну оно и так видно.
Иван распахнул однорядку, расстегнул верхние пуговицы кафтана. Жарко!
– Теперь куда, господине? – почтительно осведомился Пронька. – На торжище или в корчму?
Иван задумался:
– Пожалуй, для начала – на торг, подарков купим. Ну а потом можно и в корчму заглянуть, выпить – праздник все же.
Кивнув, Пронька обернулся к остальным, махнул рукою – на торг, мол, идем.
Торговая площадь в Угрюмове располагалась тут же, за старой башней. Рядки, лавки, а кто и просто так торговал – с телег. Раничев присмотрелся: товарец сейчас был все больше праздничный: дорогие, переливающиеся на солнце ткани, узорчатые покрывала, разноцветные ленточки – в косы, тут же – в посудном ряду – золотые и серебряные блюда, многие – с чеканкою, ярко начищенные – больно глазам – медные тазы, сковородки, миски. Не отставали и мастера-деревщики: посуда у них тоже имелась, и в избытке – покрытые резьбою тарелки, липовые миски, корцы, плетенные из лыка фляжицы, а кроме посуды имелись еще и разноцветные прялки, и раскрашенные в веселые цвета веретена, и пряслица, и еще какие-то чудные вещицы, бог знает для чего предназначенные, Иван даже об этом и не задумывался, проходил мимо, остановился лишь напротив ряда игрушек: деревянных расписных медведей, волков, лисиц, глиняных свистулек, костяных гребней и прочего, прочего, прочего – глаза разбегались.
– Желаешь чего, господине? – угодливо изогнулся продавец. – Эвон, купи детишкам свистулечки!
– Простоваты больно. – Иван усмехнулся. – Нет ли чего посложнее?
– Посложнее? – Торговец ненадолго задумался и, нагнувшись, вытащил из кучи поделок маленькую молотобойню. – Эвон, возьми кузнецов.
Раничев засмеялся в голос:
– Была у моих когда-то такая игрушечка. Сломали.
Торговец развел руками:
– Ну уж этак-то любую игрушку сломать можно. Дети – они дети и есть.
Долго ходил по рядкам Иван, захаживал в лавки, приглядывался. Выбрал-таки наконец. Сыновьям – резные из дерева шахматы – пора уже играть учиться, ум вострить, дочке – разноцветные бусы, ну а супруге – дивной красоты ожерелье из янтаря – солнечного камня. Себя только забыл; впрочем, ничего такого для себя интересного Раничев на торжище и не заметил. Оружие? Так оружейная лавка оказалась наполовину пустой, а из того, что там было – мечи, сабли, наконечники для рогатин, – ничего Ивану не поглянулось. Сабля у него была куда как лучше, а наконечники чернохватовские кузнецы ковали ничуть не хуже. Нечего было брать!
Походил-походил Иван да направился к музыкальному рядку, где продавались гусли, домры и – куда как больше – всякие сопелки, дудки, пищалки. Думал взять чего – душу потешить, что и говорить – любил музыку. Чуть позади, за рядками, несмотря на церковный запрет, тешили собравшуюся толпу скоморохи. Двое – в занятных раскрашенных масках, по всей видимости, изображали двух пропившихся пьяниц – «питухов»; третий, толстый, в маске волка, повадками походил на кабатчика. «Питухи» уже давно пропились и теперь клянчили у «кабатчика» лишнюю чарку:
Ты налей-ко, налей,
Зелена вина,
Зелена вина
Чашу добрую!
За спиной «кабатчика» замаячила «добрая чаша» – огромная, на десятерых, братина.
– Эвон! – смеялся народ. – Немалая чашица. Пить не перепить.
– Эти-то питухи да не перепьют? От только не на что.
– Да найдут – на что, голь-то на выдумки хитра, не нами сказано.
Чувствуя неподдельную заинтересованность толпы, скоморохи-«питухи» обратились к людям за советом. Один схватил за рукав Проньку и слезно заголосил:
– Ой, детинушка, чтой-то делать мне, сирому да убогому, присоветуй! Може, остатнюю рубаху продать?
– Так продай. – Пронька конфузился, не очень-то ему нравилось столь пристальное людское внимание. А народишко веселился, подначивал:
– Скажи, скажи им, паря! Присоветуй.
– Продать? – Скоморох с деланным удивлением почесал заросший затылок и вдруг одним ловким движением скинул с себя рубаху – рубище! – упал на колени, протянув рваную одежонку Проньке. – Купи, купи, детинушко! За одну серебрину отдам, так и быть, больно уж выпить хочется!
Пронька не знал, что и делать.
– Порты, порты ему запродай! – советовали в толпе. – За порты, чай, две деньги даст, эвон, порты-то важные.
«Важные порты» были все в грязи и заплатках. Испугавшись, что поганый скоморох сейчас протянет ему и их, Пронька нащупал в кошеле мелкие, с ноготь на большом пальце, монетки – деньги – и бросил одну из них вымогателю, тут же пообещав, ежели тот не отстанет, хорошенько угостить палкой.
– Эвон, палкой! – потешался народ. – А есть у тебя, паря, палка-то?
– Сабля, сабля на поясе есть!
– Эй, питухи, паситеся. А ну как он вас саблей?
Скоморохи тоже заметили саблю и поспешили убраться подальше. Отошли, однако, недалеко – к девкам, что, раскрасневшись, жевали пряники и с неослабным вниманием следили за разворачивающимся действом.
– Ой, девы, девы, – запричитал полуголый – якобы пропивший рубаху – скоморох. Якобы – потому как рубаху он давно незаметно передал своему напарнику, а деньгу – пес, конечно, зажилил. – Девицы красны, а ну-ко, порты у меня купите!
И так он прыгнул на девиц, с таким напором дернулся, будто тут же и хотел в единый миг сбросить штаны. Девки завизжали, попятились, однако не тут-то было: сметливые скоморохи давно окружили их со всех сторон и начали вымогать пряники. Ну пряников девкам было не жаль: нате, подавитеся!
– Ой, Никитушко! – обняв своего сотоварища, заблажил «питух». – Закуска у нас есть, дело славное. Идем-ка в корчму! Эй, корчемщик, корчемщик! Наливай на все.
– А не налью! – «Кабатчик» выставил вперед ногу и упрямо склонил голову. – Не налью, пока не спляшете!
– Пляшите, питухи, пляшите! – подзадоривали зрители. – Не нальет ведь, упырь.
– А и спляшем! – Скоморохи переглянулись, махнули своим. – А ну-ка, робяты, вдарьте по струнам, вострубите в свиристели-сопелицы, раскатитеся бубнами!
Остальные скоморохи, похоже, только того и ждали. Первыми грянули гусли и домры, хорошо так, заливчато, с перебором, Ивана аж чуть слеза не прошибла, да и не его одного. Но это еще была, так сказать, прелюдия – главная-то музыка зазвенела дальше. Впрочем, «зазвенела» – вряд ли удачное слово для обозначения хотя бы и малой толики того бедлама, что вдруг сотворился на торговой площади славного града Угрюмова! Ухали барабаны, звенели бубны, трещали трещотки, колотились-гремели колототушки, брунчалки, это уже не говоря о колокольчиках, бубенцах, боталах и варганах. Еще и на ложках наяривали, и в глиняные свистульки дули, и в сопели, и в свиристели! И вот под весь этот жуткий аккомпанемент «питухи» с «кабатчиком» затеяли пляску, вернее сказать – свистопляску, с посвистом, с подскоками, с вывертами.
А зрителям нравилось! Они и сами подскакивали, подхохатывали, били в ладоши и в морды попавшимся воришкам, во множестве шнырявшим в толпе наравне с продавцами пирогов с требухою, скороспелого сбитня, браги, медового перевара и прочего дешевого простонародного пойла.
Пронька смотрел-смотрел – плюнул, перекрестился да повернулся было уйти. Не ушел – Иван-то Петрович, боярин-батюшка, глаз от пляшущих скоморохов не отрывал, ногою в сапожке малиновом притопывал:
– Эх-ма, эх-ма-а! Эх, хорошо пляшут, заразы!
Уйдешь тут, как же!
Пока подарки выбирали, пока скоморохов смотрели, пока туда-сюда – дело к вечеру. Похолодало, утомившееся за день солнце нырнуло за дальний лес спать. Раничев зябко поежился и плотней запахнул однорядку. Тут как-то незаметно вдруг исчезли, разбежалися скоморохи, вот только что они тут были, скакали – и нету. Вот только что бились-колотились-звенели барабаны, бубны, варганы – и стихло все. Зрители тоже хлынули по сторонам, кто куда. Иван с любопытством покрутил головой и осклабился, обнаружив причину столь быстрого опустения – отряд городской стражи во главе с каким-то священником или монахом. Ну понятно, духовные не вынесли «глуму» и «сраму», прикрыли лавочку, а жаль – нескучное было действо.
– Что ж. – Раничев потер руки, осмотрелся, подмигнул слугам. – Теперь можно и в корчму. По чарочке да домой. Подарки не потеряли?
– Да нет, господине, храним.
– Ну и слава Богу. Тогда идем за башню, к Ефимию.
За старой полуразрушенной башнею как раз и располагалась самая известная угрюмовская корчма, куда и направился боярин Иван Петрович Раничев вместе со своими феодально зависимыми людьми. Направился, надо сказать, вовремя – в корчме уже собралось довольно много народу, еще немного – и не хватило бы места. Все не голь перекатная – богатые купцы-гости, служилые за испомещаемую землицу люди – дворяне и дети боярские – даже пара именитых вотчинников – и те сидели за богато накрытым столом, брады уставя. Оно и понятно – праздник. Хороший, весенний, светлый. Чего дома-то в этакий день сидеть? Все правильно, сначала в церкви отстояли обедню, потом скоморохами развлеклись, теперь самое время оскоромиться – погулеванить, попить, песен попеть-послушать.
– Иване Петрович! – узнав, закричал кто-то. – Давай к нам.
Раничев присмотрелся: ба, знакомые все лица! Бывший монах Гермоген, а ныне – расстрига и один из богатейших купцов княжества.
– Здорово, брате! Как поживаешь? Как супружница, детушки?
– Да все подобру, слава Господу. Сам-то как?
– И я неплохо.
– Эй, служка, тащи еще кувшинец! Мальвазеицы? Вкусна, собака! Вижу, вижу – щуришься. Ну мальвазеицу – это мы для начала, а потом и стоялого медку тяпнем, а, Иване Петрович?
Расстрига шустро подозвал служку, зашептал в ухо и, дав для ускорения подзатыльник, гулко захохотал. Служка побежал шустро – что и сказать, бывшего монаха Господь силушкою не обделил, сей блудный монастырский сын подковы гнул запросто.
Тяпнули мальвазеицы за встречу, потом перешли к медовухам. Медок принес сам хозяин корчмы, дядько Ефимий, тот еще упырь. Бородища лопатой, светлая, нос ноздреватый, широкий, правый глаз вытаращен, левый – хитро прищурен, словно бы высматривает, где б чем поживиться?
– Угощайтеся за-ради Святого праздника, гостюшки дорогие. – Корчмарь поклонился Ивану в пояс и ловко выставил на стол объемистую корчагу с медовухой и яства – жареную утку, медвежий язык, белорыбицу.