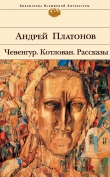Текст книги "Том 4. Счастливая Москва"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
6
Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты, музыканты и рабочие новых заводов. Никому не было более двадцати семи лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине – в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения привели в порядок мебельное убранство в двух залах – в одном для заседания, в другом для беседы и угощения.
Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Селин с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой от воображения музыки.
– Пойдем жевнем чего-нибудь, – сказал ей Селин.
– Жевнем, – согласилась Кузьмина.
Они пошли в буфет; там Селин, розовый мощный едок, съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных; она жила для игры, а не для пищеварения.
– Селин, почему ты ешь так много? – спросила Кузьмина. – Это может хорошо, но на тебя стыдно смотреть!
Селин ел с негодованием, он жевал как пахал – с настойчивым трудом, с усердием в своих обоих надежных челюстях.
Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Семен Сарториус, две девушки подруги – обе гидравлики, композитор Левченко, астроном Сицылин, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор сверхвысотных самолетов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, – но за ними опять послышались люди и еще пришли некоторые. Все уже были знакомы между собой – по работе, по встречам и по разным сведениям.
Пока не началось заседание, каждый предался своему удовольствию – кто дружбе, кто пище, кто вопросам на нерешенные задачи, кто музыке и танцам. Кузьмина нашла небольшую комнату с новым роялем и с наслаждением играла там девятую симфонию Бетховена – все части, одна за другой, по памяти. У нее сжималось сердце от глубокой свободы и воодушевленной мысли этой музыки и от эгоистической грусти, что она сама так сочинять не умеет. Электротехник Гунькин слушал Кузьмину и думал о высокой частоте электричества, простреливающей вселенную насквозь, о пустоте высокого грозного мира, всасывающего в себя человеческое сознание… Мульдбауэр видел в музыке изображение дальних легких стран воздуха, где находится черное небо и среди него висит немерцающее солнце с мертвым накалом своего света, где – вдалеке от теплой и смутно-зеленой земли – начинается настоящий серьезный космос: немое пространство, изредка горящее сигналами звезд – о том, что путь давно свободен и открыт… Скорее же покончить с тяжкой возней на земле, и пусть тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения земли – для великого воспитания земли – для великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия.
Немного спустя сюда же пришла Москва Честнова и молча улыбалась от радости видеть своих товарищей и слышать музыку, возбуждающую ее жизнь на исполнение высшей судьбы.
Позже всех в клуб явился хирург Самбикин; он только что был в институтской клинике и сам делал перевязку оперированному им мальчику. Он пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо – в напряжении своей заботы и ответственности. Весь его ум был наполнен мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье – и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения… Он хотел уже уйти из клуба, чтобы поработать ночью в институте над своим исследованием о смерти, но вдруг увидел проходящую мимо Москву Честнову. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и светящееся воодушевление, скрытые за скромностью и даже робостью лица. Раздался звонок к началу заседания. Все пошли из комнаты, где находился Самбикин, одна Честнова задержалась, укрепляя чулок на ноге. Когда она управилась с чулком, то увидела одного Самбикина, глядевшего на нее. От стеснения и неловкости – жить в одном мире, делать одно дело и не быть знакомыми – она поклонилась ему. Самбикин подошел к ней, и они отправились вместе слушать заседание.
Они сели рядом и среди речей, славы и приветствий Самбикин ясно слышал пульсацию сердца в груди Москвы.
Он спросил ее шепотом в ухо:
– Отчего у вас сердце так стучит?.. Я его слышу!
– Оно летать хочет, и бьется, – с улыбкой прошептала Москва Самбикину. – Я ведь парашютистка!
«Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, – подумал Самбикин. – Грудная клетка человека представляет свернутые крылья».
Он попробовал свою нагретую голову – там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой тесноты.
После собрания наступило время общего ужина и развлечений. Молодые гости разошлись по многим помещениям, прежде чем сесть к общему столу.
Механик Сарториус пригласил Москву Честнову танцевать, и она пошла кружиться с ним, с любопытством разглядывая великое круглое лицо знаменитого изобретателя в области точной индустрии, инженера – расчетчика мирового значения. Сарториус держал Москву крепко, танцевал тяжко и робко улыбался, выдавая свое сжатое влечение к Москве. Москва же смотрела на него как влюбленная – она быстро предавалась своему чувству и не играла женскую политику равнодушия. Ей нравился этот неинтересный человек, ростом меньше ее, с добрым и угрюмым лицом, который не вытерпел своего сердца и пошел на крайнюю для себя смелость – приблизился к женщине и пригласил ее танцевать. Но вскоре это, наверно, ему наскучило, руки его уже привыкли к теплоте тела Москвы, горячего под легким платьем, и он начал что-то бормотать. Москва же, услышав такое, сразу обиделась:
– Сам меня обнимает, сам со мной танцует, а думает совсем другое, – сказала она.
– Это я так, – ответил Сарториус.
– Сейчас же скажите, что – так, – нахмурилась Москва и перестала танцевать.
Самбикин с ветром пронесся мимо них – он тоже танцевал, приурочившись к какой-то комсомолке большой миловидности. Москва улыбнулась ему:
– Неужели и вы танцуете? Вот странный какой!
– Надо жить всесторонне! – с ходу ответил ей Самбикин.
– А вам охота? – крикнула ему Москва.
– Нет, я притворяюсь, – ответил ей Самбикин. – Это теоретически!
Комсомолка, обидевшись, сейчас же покинула Самбикина, и он засмеялся.
– Ну, говорите скорей, – с надуманной серьезностью обратилась Москва к Сарториусу.
«Неужели она дура? Жалко!» – подумал Сарториус. Здесь к ним подошел метеоролог Вечкин, затем Самбикин, и Сарториус не успел ничего ответить Москве. Встретились они лишь спустя час – за общим ужином.
Большой стол был накрыт для пятидесяти человек. Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей красоты, стояли через каждые полметра, и от них исходило посмертное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины-инженеры были одеты в лучший шелк республики – правительство украшало лучших людей. Москва Честнова была в чайном платье, весившем всего три-четыре грамма, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Москвы обозначился волнением ее шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего, грустного Вечкина, пришли в костюмах из тонкого матерьяла, простых и драгоценных; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью к стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.
Небольшой комсомольский оркестр играл на балконе за открытой дверью маленькие пьесы. Пространный воздух ночи входил через дверь балкона в залу, и цветы на длинном столе дышали и сильнее пахли, чувствуя себя живыми в потерянной земле. Древний город шумел и озарялся светом, как новостройка, иногда смех и голос прохожего человека доносился с улицы сюда, в клуб, и Честновой Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех: все равно социализм настает! Ей было по временам так хорошо, что она желала покинуть как-нибудь самое себя, свое тело в платье, и стать другим человеком – женой Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине…
Люстры завода «Электроприбор» бледной и нежной энергией покрывали людей и богатое убранство; легкая предварительная закуска стояла на столе, а основной ужин еще грелся вдалеке в кухонных очагах.
Собравшиеся, которые были красивы от природы или от воодушевления и незаконченной молодости, долго устраивались со своими местами, ища лучшего соседства, но в конце концов желая сесть сразу со всеми вблизи.
И вот когда они уселись, тридцать человек, то их внутренние живые средства, возбужденные друг другом, умножились, и среди них и родился общий гений жизненной искренности и счастливого соревнования в умном дружелюбии. Но остронастроенный такт взаимных отношений, приобретенный в трудной технической культуре, где победа не дается двусмысленной игрой, – этот такт поведения не допускал ни глупости, ни сантиментальности, ни самомнения. Присутствующие знали или догадывались об угрюмых размерах природы, о протяженности истории, о долготе будущего времени и о действительных масштабах собственных сил; они были рациональные практики и неподкупны к пустому обольщению.
Более других была нетерпелива и безумна Москва Честнова. Она выпила, никого не ожидая, стакан вина и покраснела от радости и непривычки. Сарториус заметил это и улыбнулся ей своим неточным широким лицом, похожим на сельскую местность. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, а мать крестьянка его выносила в своих внутренностях рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом.
Самбикин также наблюдал за Честновой и думал над нею: любить ему ее или не надо; в общем она была хороша и ничья, но сколько мысли и чувства надо изгнать из своего тела и сердца, чтобы вместить туда привязанность к этой женщине? И все равно Честнова не будет ему верна, и не может она никогда променять весь шум жизни на шепот одного человека.
«Нет, я любить ее не буду и не могу, – навсегда решил Самбикин. – Тем более, придется как-то портить ее тело, а мне жалко, лгать день и ночь, что я прекрасный… Не хочу, трудно!» Он забылся в течении своего размышления, утратив в памяти всех присутствующих. Присутствующие же, хотя и сидели за обильным и вкусным столом, но ели мало и понемногу, они жалели дорогую пищу, добытую колхозниками трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и классовым врагом. Одна Москва Честнова забылась и ела и пила, как хищница. Она говорила разную глупость, разыгрывала Сарториуса и чувствовала стыд, пробирающийся к ней в сердце из ее лгущего, пошлого ума, грустно сознающего свое постыдное пространство. Никто не обидел Честнову и не остановил ее, пока она не изошла своею силой и не замолчала сама. Самбикин знал, что глупость – это естественное выражение блуждающего чувства, еще не нашедшего своей цели и страсти, а Сарториус наслаждался Москвой независимо от ее поведения; он уже любил ее как живую истину и сквозь свою радость видел ее неясно и неверно.
Во время шума людей и уже позднего вечера в залу незаметно вошел Виктор Васильевич Божко и сел у стены на диване, не желая быть замеченным. Он увидел красную, веселую Москву Честнову и вздрогнул от боязни ее. К ней подошел какой-то молодой ученый человек и запел над нею:
Ты ходишь пьяная,
Ты вся уж бледная,
Такая милая
Подруга верная…
Москва, услышав это, закрыла лицо руками и неизвестно – заплакала или застыдилась себя. Сарториус в тот момент спорил с Вечкиным и Мульдбауэром; Сарториус доказывал, что после классового человека на земле будет жить проникновенное техническое существо, практически работой ощущающее весь мир… Древние люди, начавшие историю, тоже были техническими существами; греческие города, порты, лабиринты, даже гора Олимп – были сооружены циклопами, одноглазыми рабочими, у которых древними аристократами было выдавлено по одному зрачку – в знак того, что это – пролетариат, осужденный строить страны, жилища богов и корабли морей, и что одноглазым нет спасения. Прошло три или четыре тысячи лет, сто поколений, и потомки циклопов вышли из тьмы исторического лабиринта на свет природы, они удержали за собою шестую часть земли, и вся остальная земля живет лишь в ожидании их. Даже бог Зевс, вероятно, был последний циклоп, работавший по насыпке олимпийского холма, живший в хижине наверху и уцелевший в памяти античного аристократического племени; буржуазия тех ветхих времен не была глупой – она переводила умерших великих рабочих в разряд богов, ибо она втайне удивлялась, не в силах понять творчества без наслаждения, что погибшие молчаливо обладали высшей властью – трудоспособностью и душою труда – техникой.
Сарториус встал на ноги и взял чашку с вином. Короткого роста, с обыкновенным согретым жизнью лицом, увлеченный мысленным воображением, он был счастлив и привлекателен. Честнова Москва загляделась на него и решила когда-нибудь поцеловаться с ним. Он произнес среди своих замолкших товарищей:
– Давайте выпьем за безымянных циклопов, за воспоминанье всех погибших наших измученных отцов и за технику – истинную душу человека!
Все сразу выпили, а музыканты заиграли старую песнь на стихи Языкова:
Там за валом непогоды
Есть блаженная страна,
Где не темнеют неба своды,
Не проходит тишина…
Божко сидел покорно и незаметно; он радовался больше участников вечера, он знал, что непогода проходит и блаженная страна лежит за окном, освещенная звездами и электричеством. Он скупо, молчаливо любил эту страну и поднимал каждую крошку, падающую из ее добра, чтоб страна уцелела полностью.
Подали обильный ужин. Его бережно начали отведывать, но Семен Сарториус не мог уже ни есть, ни пить ничего. Мученье любви к Честновой Москве сразу занялось во всем его теле и сердце, так что он открыл рот и усиленно дышал, как будто ему стало неудобно в груди. Москва издали и загадочно улыбалась ему, ее таинственная жизнь доходила до Сарториуса теплом и тревогой, а зоркие глаза ее глядели на него невнимательно, как на рядовой факт. «Эх, физика сволочь! – понимал Сарториус свое положение. – Ну вот что мне теперь делать, кроме глупости и личного счастья!»
Городская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряжением далеких машин; возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Сарториуса. Он вышел на балкон, поглядел на звезды и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!» Самбикин по-прежнему сидел за столом, не трогая пищи; он был увлечен своим размышлением дальше завтрашнего утра и смутно, как в тумане над морем, разглядывал будущее бессмертие. Он хотел добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность из трупов павших существ. Несколько лет назад, роясь в мертвых телах людей, он снял тонкие срезы с сердца, с мозга и железы половой секреции. Самбикин изучил их под микроскопом и заметил на срезах какие-то ослабевшие следы неизвестного вещества. После, испытывая эти почти погасшие следы на химическую реакцию, на электропроводность, на действие света, он открыл, что неизвестное вещество обладает едкой энергией жизни, но бывает оно только внутри мертвых, в живых его нет, в живых накапливаются пятна смерти – задолго до гибели. Самбикин озадачился тогда на целые годы, и сейчас озадаченность его еще не прошла: труп, оказывается, есть резервуар наиболее напорной, резкой жизни, хотя и на краткое время. Исследуя точнее, размышляя почти беспрерывно, Самбикин начинал соображать, что в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, ядовитая для смертного гноя, смывающая прах утомления, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности. Но где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скупо и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несется по телу, срывает ту печать с запасной, сжатой жизни и она раздается в последний раз как безуспешный выстрел внутри человека и оставляет неясные следы на его мертвом сердце… Свежий труп весь пронизан следами тайного замершего вещества, и каждая часть мертвеца хранит в себе творящую силу для уцелевших жить. Самбикин предполагал превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых. Он понимал девственность и могущество той младенческой влаги, которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания; эта влага, добавленная в живого, но поникшего человека, способна его сделать прямым, твердым и счастливым…
Он стоял долго; все теперь было для него нерешенным и посторонним. Чужие люди ехали на трамвае по улице, и звуки движения и разговорная речь доносились до слуха Сарториуса точно издалека; он слушал их без интереса и любопытства, как больной и одинокий. Он захотел сейчас же уйти домой, лечь под одеяло и согреть свою внезапную боль до того, чтоб она отошла к утру, когда снова придется идти [на работу] [1]1
Слово вычеркнуто в рукописи, но замена не найдена.
[Закрыть].
За его спиной наслаждались его сверстники сознанием своего успеха и будущей технической мечтой. Мульдбауэр говорил о слое атмосферы на высоте где-то между пятьюдесятью и стами километров; там существуют такие электромагнитные, световые и температурные условия, что любой живой организм не устанет и не умрет, но будет способен к вечному существованию среди фиолетового пространства. Это было «Небо» древних людей и счастливая страна будущих: за далью низко стелющейся непогоды действительно находится блаженная страна. Мульдбауэр предсказывал близкое завоевание стратосферы и дальнейшее проникновение в синюю высоту мира, где лежит воздушная страна бессмертия; тогда человек будет крылатым, а земля останется в наследство животным и вновь навсегда зарастет дебрями своей ветхой девственности. «И животные это предчувствуют, – убежденно говорил Мульдбауэр. – Когда я гляжу им в глаза, мне кажется – они думают: когда же это кончится, когда же вы оставите нас! Животные думают: когда же люди оставят их одних для своей судьбы!»
Сарториус скучно улыбнулся; он хотел бы сейчас остаться в самом низу земли, поместиться хотя бы в пустой могиле и неразлучно с Москвой Честновой прожить жизнь до смерти. Однако ему жалко было оставить без своего ответа эти ночные звезды, с детства глядящие на него, быть безучастным к всеобщей жизни, наполненной трудом и чувством сближения между людьми, он боялся идти по городу безмолвным, склонив голову, с сосредоточенной одинокой мыслью любви и не желал стать равнодушным к своему столу, набитому идеями в чертежах, к своей железной пролежанной койке, к настольной лампе, его терпеливому свидетелю во тьме и тишине рабочих ночей… Сарториус гладил свою грудь под сорочкой и говорил себе: «Уйди, оставь меня опять одного, скверная стихия! Я простой инженер и рационалист, я отвергаю тебя, как женщину и любовь… Лучше я буду преклоняться перед атомной пылью и перед электроном!» Но мир, стелющийся перед его глазами огнем и шумом, уже замирал в своих звуках, заходил за темный порог его сердца и оставлял после себя живым лишь единственное, самое трогательное существо на свете. Неужели он откажется от него, чтобы поклониться атому, пылинке или праху?
Москва Честнова вышла к Сарториусу на балкон. Она ему сказала с улыбкой:
– Почему вы такой печальный… Вы меня любите или нет?
Она дышала на него теплотою улыбающегося рта, платье ее шелестело, – скука зла и мужества охватила Сарториуса. Он ответил ей:
– Нет. Я любуюсь другою Москвой – городом.
– Ну тогда ничего, – охотно примирилась Честнова. – Пойдемте ужинать. Там ест больше всех товарищ Селин… Весь объелся, сидит красный, а глаза все время печальные. Не знаете почему?
– Нет, – тихо ответил Сарториус. – Я сам тоже печальный…
Москва пригляделась во тьме к его несоразмерному лицу, по нему шли слезы при открытых глазах.
– Лучше не плачьте, – сказала Москва. – Я тоже вас люблю…
– Вы врете, – не поверил Сарториус.
– Нет, правда, – совершенно верно! – воскликнула Честнова. – Пойдемте отсюда поскорей…
Когда они проходили под руку среди торжествующих друзей, Самбикин посмотрел на них своими глазами, забывшими моргать и отвлеченными размышлением в далекую страну от личного счастья. У выхода перед грудью Москвы очутился Божко и с уважением произнес свою терпеливую просьбу. Честнова настолько обрадовалась ему, что схватила со стола кусок торта и сразу угостила Божко.
Виктор Васильевич служил теперь в тресте весоизмерительной промышленности и был увлечен всецело заботой о гирях и весах. Он попросил Москву Ивановну познакомить его с таким знаменитым инженером, который мог бы изобрести простые и точные весы, чтоб их можно было сделать за дешевую цену для всех колхозов и совхозов и для всей советской торговли. Божко здесь же сообщил, не видя грусти Сарториуса, о великих и незаметных бедствиях народного хозяйства, о дополнительных трудностях социализма в колхозах, о снижении трудодней, о кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов, о массовом, хотя и невольном, обмане рабочего потребителя в кооперации и распределителях… И все это происходит лишь благодаря ветхости государственного весового парка, устарелой конструкции весов и недостатку металла и дерева для постройки новых весовых машин.
– Вы меня извините, что я пришел сюда невольно, – говорил Божко. – Я понимаю, что я скучный. Здесь говорили, а я слышал, как человек скоро будет летающим и счастливым. Я это буду слушать всегда и с удовольствием, но нам нужно пока немного… Нам нужно хлеб и крупу вешать в колхозах с правильностью.
Москва улыбнулась ему с кротостью своего преходящего нрава:
– Вы прекрасный, советский наш человек!.. Сарториус, ступайте завтра же в ихний трест, сделайте им чертеж самых дешевых, самых простых весов – и чтоб правильные были!
Сарториус задумался.
– Это трудно, – сознался он. – Легче усовершенствовать паровоз, чем весы. Весы работают уже тысячи лет… Это все равно что изобрести новое ведро для воды. Но я приду в ваш трест и помогу вам, если сумею.
Божко дал адрес своего учреждения и ушел в свою комнату, где его ожидал обычный труд по всемирной корреспонденции.