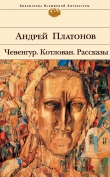Текст книги "Том 4. Счастливая Москва"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
4
Однажды в коридоре военкомата стоял худой и бледный вневойсковик с книжкой военного учета в руках. Ему казалось, что в райвоенкомате пахло так же, как в местах длительного заключения – безжизненностью томящегося человеческого тела, сознательно ведущего себя скромно и экономично, чтобы не возбуждать внутри себя замирающего влечения к удаленной жизни и не замучиться потом в тщетности, от тоски отчаяния. Равнодушная идеологичность убранства, сделанного по дешевому госбюджету, и незначительность служащих лиц обещали пришедшему человеку бесчувствие, происходящее от бедного или жестокого сердца.
Вневойсковик ожидал служащую у одного окна, пока она дочитывала стихи в книге; вневойсковик полагал, что от стихов каждый человек становится добрее – он сам читал книги до полуночи с молодости своей жизни и после того чувствовал себя грустно и безразлично. Служащая, дочитав стих, начала ставить вневойсковика на переучет, удивляясь тому, что этот человек, по данным учетного бланка, не был ни в белой, ни в красной армии, не проходил всеобщего военного обучения, не являлся никогда на сборно-учебные пункты, не участвовал в территориальных соединениях и в походах Осоавиахима и на три года пропустил срок своей перерегистрации. Неизвестно, каким способом, в какой тишине данный вневойсковик сумел укрыться от бдительности домоуправлений, со своей военно-учетной книжкой устаревшего образца.
Военнослужащая посмотрела на вневойсковика. Перед нею, за изгородью, отделявшей спокойствие учреждения от людей, стоял посетитель с давно исхудавшим лицом, покрытым морщинами тоскливой жизни и скучными следами слабости и терпения; одежда на вневойсковике была так же изношена, как кожа на его лице, и согревала человека лишь за счет долговечных нечистот, въевшихся в ветхость ткани; он смотрел на служащую с робкой хитростью, не ожидая к себе сочувствия, и часто, опустив глаза, закрывал их вовсе, чтобы видеть тьму, а не жизнь; на одно мгновение он вообразил себе облака на небе – он любил их, потому что они его не касались и он им был чужой.
Поглядев нечаянно в даль военкомата, вневойсковик вздрогнул от удивления: на него смотрели два ясных глаза, обросших сосредоточенными бровями, не угрожая ему ничем. Вневойсковик много раз видел где-то такие глаза, внимательные и чистые, и всегда моргал против этого взгляда. «Это настоящая красная армия! – подумал он с грустным стыдом. – Господи! Почему я зря пропустил всю свою жизнь, ради иждевения самого себя!..» Вневойсковик всегда ожидал от учреждений ужаса, измождения и долготерпеливой тоски – здесь же он увидел вдалеке человека, сочувственно думающего по поводу него.
«Красная армия» встала с места – она оказалась женщиной – и подошла к вневойсковику. Он испугался прелести и силы ее лица, но из сожаления к своему сердцу, которое может напрасно заболеть от любви, отвернулся от этой служащей. Подошедшая Москва Честнова взяла у него учетную книжку и оштрафовала его на пятьдесят рублей за нарушение учетного закона.
– У меня денег нету, – сказал вневойсковик. – Я лучше как-нибудь живьем штраф оплачу.
– Ну как же? – спросила Москва.
– Не знаю, – тихо произнес вневойсковик. – Мне так себе живется.
Честнова взяла его за руку и отвела к своему столу.
– Отчего вам так себе живется? – спросила она. – Вы хотите что-нибудь?
Вневойсковик не мог ответить; он чувствовал, как пахло от этой служащей красноармейской женщины мылом, потом и какою-то милой жизнью, чуждой для его сердца, таящегося в своем одиночестве, в слабом тлеющем тепле. Он нагнул голову и заплакал от своего жалкого положения, а Москва Честнова в недоумении отпустила его руку. Вневойсковик постоял немного, а потом обрадовался, что его не задерживают, и скрылся в свое неизвестное жилище, чтобы просуществовать как-нибудь до гроба без учета и опасности.
Но Честнова нашла его адрес в переучетном бланке и через некоторое время пошла в гости к вневойсковику.
Она долго ходила в глуши Бауманского района, пока не отыскала один небольшой жакт, в котором находился вневойсковик. Это был дом с неработоспособным правлением и с дефицитным балансом расходов, так что его стены уже несколько лет не окрашивались свежей краской, а нелюдимый, пустой двор, где даже камни истерлись от детских игр, давно требовал к себе надлежащей заботы.
С печалью прошла Москва мимо стен и по смутно освещенным коридорам этого жакта, как будто ее обидели или она была виновата в чужой небрежной и несчастной жизни. Когда Москва Честнова вышла по ту сторону дома, обращенную к длинному сплошному забору, она увидела каменное крыльцо с железным навесом, над которым горел электрический фонарь. Она прислушалась к шуму в окружающем воздухе – за забором сбрасывали тес на землю, и слышно, как внизывались лопаты в грунт; у железного навеса стоял непокрытый лысый человек и играл на скрипке мазурку в одиночестве. На каменной плите лежала шляпа музыканта, прожившая все долгие невзгоды на его голове – и некогда она покрывала шевелюру молодости, а теперь собирала деньги для пропитания старости, для поддержания слабого сознания в ветхой голой голове.
Честнова положила в эту шляпу рубль и попросила сыграть ей что-нибудь Бетховена. Не сказав никакого слова, музыкант доиграл мазурку до конца и лишь затем начал Бетховена. Москва стояла против скрипача по-бабьи, расставив ноги и пригорюнившись лицом от тоски, волнующейся вблизи ее сердца. Весь мир вокруг нее стал вдруг резким и непримиримым – одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая темная сила действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, казенного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста, как непосильный труд из жизненной нужды.
Музыкант глядел на Москву равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью, – как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения, и предпочитал ее всему видимому. Под конец игры из глаз скрипача вышли слезы – он истомился жить, и, главное, он прожил себя не по музыке, он не нашел своей ранней гибели под стеной несокрушимого врага, а стоит теперь живым и старым бедняком на безлюдном дворе жакта, с изможденным умом, в котором низко стелется последнее воображение о героическом мире. Против него – по ту сторону забора – строили медицинский институт для поисков долговечности и бессмертия, но старый музыкант не мог понять, что эта постройка продолжает музыку Бетховена, а Москва Честнова не знала, что там строится. Всякая музыка, если она была велика и человечна, напоминала Москве о пролетариате, о темном человеке с горящим факелом, бежавшем в ночь революции, и о ней самой, и она слушала ее как речь вождя и собственное слово, которое она всегда подразумевает, но никогда вслух не говорит.
На входной двери висела фанерная доска с надписью: «Правление жакта и домоуправление». Честнова вошла туда, чтобы узнать номер квартиры вневойсковика, – он указал в учетном бланке один номер дома.
До канцелярии жакта шел деревянный коридор, по обе стороны его жили вероятно многодетные семьи – там сейчас с обидой и недовольством кричали дети, деля пищу на ужин между собой. Внутри деревянного коридора стояли жильцы и беседовали на все темы, какие есть на свете, – о продовольствии, ремонте дворовой уборной, о будущей войне, о стратосфере и смерти местной, глухой и безумной прачки. На стенах коридора висели плакаты Мопра, Управления сберкасс, правила ухода за грудным ребенком, человек в виде буквы «Я», сокращенный на одну ногу уличной катастрофой, и прочие картины жизни, пользы и бедствий. Многие люди приходили сюда, в деревянный коридор домоуправления, часов с пяти вечера, сразу после работы, и простаивали на ногах, размышляя и беседуя, вплоть до полуночи, лишь изредка нуждаясь в какой-либо справке домоуправления. Москве Честновой было удивительно узнать это; она не могла понять, почему люди жались к жакту, к конторе, к справкам, к местным нуждам небольшого счастья, к самоистощению в пустяках, когда в городе были мировые театры, а в жизни еще не были разрешены вечные загадки мучения, и даже у наружной двери играл прекрасную музыку скрипач, не внимаемый никем.
Пожилой управдом, работавший в шуме людей – среди дыма и разных вопросов, – дал Честновой точную справку о всем вневойсковике: он жил в коридорной системе второго этажа, в комнате номер 4, пенсионер третьего разряда, общественный актив жакта много раз ходил к нему – уговаривать насчет необходимости своевременного переучета и оформления своего военного положения, но вневойсковик уже несколько лет обещал это сделать, собираясь с завтрашнего утра потратить весь день на формальные нужды, но до сих пор не выполнил своего обещания по бессмысленной причине; с полгода назад сам управдом посетил вневойсковика на этот предмет, увещевал его три часа, сравнивал его состояние с тоскою, скукой и телесной нечистоплотностью, как если бы он не чистил зубы, не мылся и вообще наносил сам себе позор, с целью критики советского человека.
– Не знаю, что и делать с ним, – сказал управдом. – Один такой во всем жакте.
– А чем он занимается вообще? – спросила Москва.
– Я же тебе сказал: пенсионер третьей категории, сорок пять рублей получает. Ну, он еще в осодмиле состоит, пойдет постоит на трамвайной остановке, поштрафует публику и опять на квартиру вернется…
Москве стало грустно от жизни такого человека, и она сказала:
– Как нехорошо все это!..
Управдом вполне согласился с нею:
– Хорошего в нем нету!.. Летом он часто в парк культуры ходил, но тоже – зря. Ни оркестра не послушает, ни мимо зрелищ не погуляет, а как придет, так сядет около отделения милиции и просидит там целый день – то разговаривает понемногу, то ему поручение какое-нибудь дадут: он сделает пойдет, – любит он административную работу, хороший осодмилец…
– Он женатый? – спросила Москва.
– Нет, он неопределенный… Формально холост, но все ночи проводит молча с женщинами, уж сколько лет подряд. Это его принципиальное дело, жакт тут стоит в стороне… Но вот что – женщины к нему являются некультурные, неинтересные, такая, как вы, – первая. Не советую: убогий человек…
Москва ушла из правления дома. По-прежнему стоял музыкант у входа, но ничего не играл, а сам что-то слушал молча из ночи. Далекое зарево трепетало над центром города, волнуясь в бегущих тучах, и огромное, загроможденное мраком небо открывалось вдруг мгновенным и острым светом, сверкнувшим из-под трамвайного провода. В близком клубе местного транспорта пел хор молодых работниц, увлекая силой вдохновения собственную жизнь в далекие края будущего. Честнова пошла в тот клуб и пела там и танцевала, пока распорядитель, заботясь об отдыхе молодежи, не потушил свет. Тогда Москва уснула где-то за кулисами сцены на фанерной бутафории, обняв по девической привычке временную подругу, такую же усталую и счастливую, какой была сама.
5
Небрежный и нечистоплотный от экономии своего времени, Самбикин чувствовал мировую внешнюю материю как раздражение собственной кожи. Он следил за всемирным течением событий день и ночь, и ум его жил в страхе своей ответственности за всю безумную судьбу вещества.
По ночам Самбикин долго не мог заснуть от воображения труда на советской земле, освещенного сейчас электричеством. Он видел сооружения, густо оснащенные тесом, где ходили неспящие люди, укрепляя молодые доски из свежего леса, чтобы самим держаться на высоте, где дует ветер и видно, как идет ночь по краю мира в виде остатка вечерней зари. Самбикин сжимал свои руки от нетерпения и радости, а потом вдруг задумывался во мраке, забывая моргать по полчаса. Он знал, что тысячи юношей-инженеров, сдавших свою смену, сейчас тоже не спят, а ворочаются в беспокойстве в общежитиях и в новых домах – по всей равнине страны, а иные, только улегшись на отдых, уже бормочут и постепенно одеваются обратно, чтобы уйти опять на постройку, потому что их ум начала мучить одна забытая днем деталь, грозящая ночной аварией.
Самбикин вставал с кровати, зажигал свет и ходил в волнении, желая предпринять что-либо немедленно. Он включал радио и слышал, что музыка уже не играет, но пространство гудит в своей тревоге, будто безлюдная дорога, по которой хотелось уйти. Тогда Самбикин звонил в институтскую клинику и спрашивал – есть ли сейчас срочные операции, он будет ассистировать. Ему отвечали, что есть: привезли ребенка с опухолью на голове, которая растет с ежеминутной скоростью, и мальчик темнеет сознанием.
Самбикин выбегал на московскую улицу; трамваи уже не ходили, по асфальтовым тротуарам звучно стучали высокие каблуки женщин, возвращавшихся домой из театров и лабораторий или от любимых ими людей. Самбикин, действуя своими длинными ногами, быстро добегал до Бауманского района, где строился медицинский экспериментальный институт специального назначения. Институт не был еще окончательно оборудован, и сейчас в нем работали только два отделения – хирургии и травматическое. Двор института был загружен трубами, досками, вагонетками и ящиками с научным инвентарем; забор детского масштаба, отделявший строительство от какого-то жилищного дома, накренился и вовсе поник.
На этом дворе Самбикин услышал вдруг жалкую музыку, тронувшую его сердце не столько мелодией, сколько неясным воспоминанием чего-то прожитого, оставленного в забвении. Он заслушался на минуту; музыка играла по ту сторону бедного забора. Самбикин влез на забор и увидел постаревшего лысого скрипача, игравшего в безлюдьи, в два часа ночи. Самбикин прочел вывеску над входной дверью дома, у которого играл музыкант: «Правление жакта и домоуправление». Самбикин достал рубль и хотел дать его музыканту за работу, но скрипач отказался. Он сказал, что сейчас играет для себя, потому что ему тоскливо и он может спать только на утренней заре, а до нее еще далеко…
Около малой операционной залы уже висели два мягких баллона с кислородом и стояла старшая дежурная сестра. В конце коридора, в отдельной комнате-боксе, сплошь застекленной по стороне, обращенной в коридор, больного ребенка готовили к операции – ему быстро брили голову две сестры. За левым ухом у мальчика, заняв полголовы, вырос шар, наполненный горячим бурым гноем и кровью, и этот шар походил на вторую дикую голову ребенка, сосущую его изнемогающую жизнь. Ребенок сидел в кровати и не спал: ему было лет семь. Он смотрел опустевшими, уснувшими глазами и немного поднимал руки в воздух, когда его сердце заходилось от боли, мучаясь и не ожидая пощады.
В живом сознании Самбикина с точным ощущением встала болезнь ребенка, и он потер у себя за ухом, ища шаровидную опухоль – вторую безумную голову, в которой сжимается смертный гной. Он пошел готовиться к операции.
Переодеваясь и думая, он слышал шум в своем левом ухе – это гной в голове ребенка химически размывал и разъедал последнюю костяную пластину, защищавшую его мозг; в уме мальчика сейчас уже стелется туманная смерть, жизнь держится еще под защитой костяной пленки, но в ней осталось толщины не более доли миллиметра, и слабеющая кость вибрирует под напряжением гноя.
– Что он сейчас видит в своем сознании? – спрашивал сам у себя Самбикин про больного. – Он видит сны, берегущие его от ужаса… Он видит двух своих матерей, моющих его в ванне, а это две сестры бреют его волосы. И он одного только боится: почему две матери?.. Он видит любимую кошку, которая живет с ним дома в комнате, и эта кошка впилась ему сейчас в голову…
Пришел старый хирург-оператор, которому должен помогать Самбикин. Старик был готов и приглашал своего ассистента. Вести операцию самостоятельно Самбикину еще не давали: ему было двадцать семь лет, и хирургический стаж его продолжался всего второй год.
Все звуки в хирургическом институте тщательно уничтожались, и сигнализация совершалась цветным светом. В комнате дежурного врача зажглись три лампы разных цветов – и вслед за тем почти бесшумно были совершены несколько действий: по пробковому ковру коридора проехала низкая тележка на резиновых колесах и отвезла больного в операционную залу; электромонтер переключил электрический свет на питание из институтской аккумуляторной батареи, чтобы свет не зависел от случайностей городской сети, и пустил в ход аппарат, нагнетающий озонированный воздух в операционную; дверь операционной залы беззвучно открылась, и в лицо больного ребенка подул прохладный и благоуханный ветер из специального прибора – мальчик получил усыпление и улыбнулся, освобожденный от последних следов страдания.
– Мама, я очень сильно заболел, меня сейчас резать будут, но мне ничуть не больно, – сказал он и стал беспомощным и чуждым самому себе. Жизнь словно отлучилась из него самого и сосредоточилась в отдаленном и грустном воображении снов; он видел предметы, всю сумму своих впечатлений, – эти предметы мчались мимо него, и он узнавал их – вот забытый гвоздь, который он держал в руках давно, гвоздь теперь заржавел, стал старый, вот черная маленькая собака, с ней он играл когда-то на дворе – она лежит мертвая в мусоре, с разбитой стеклянной банкой на голове, вот железная крыша на низком сарае, он влезал на нее, чтобы смотреть с высоты, она пустая сейчас, и железо скучает по нем, а его долго нет; стоит лето, тень матери лежит на земле, идет милиция, но ее оркестр играет неслышно…
Старый хирург предложил Самбикину вести операцию, а он будет ассистировать.
– Начнем, – сказал старик в светлой глуши залы.
Самбикин взял резкий, блестящий инструмент и вошел им в существо всякого дела – в тело человека. Острая, мгновенная стрела вышла позади глаз из ума мальчика, побежала по его телу – он следил за ней воображением – и ударила ему в сердце: мальчик вздрогнул, все предметы, знавшие его, заплакали по нем, и сон его воспоминаний исчез. Жизнь сошла еще ниже, она тлела простой, темной теплотой в своем терпеливом ожидании. Самбикин чувствовал руками, как греется все более тело ребенка, и спешил. Он спускал гной из разверстых покровов головы и проникал в кость – он искал первичные очаги заражения.
– Тише, медленнее, – говорил старый хирург. – Скажите пульс, – обратился он к старшей сестре.
– Аритмия, доктор, – сказала сестра. – Иногда не слышно вовсе.
– Ничего, инерция сердца всегда велика – выправится.
– Держите ему голову! – указал Самбикин сестрам. Он приступил к выборке костных участков, в порах которых таился гной.
Инструмент звенел, как при холодной металлообработке, Самбикин шел в ударах на ощупь – глубже или мельче – на точном чувстве искусства; большие глаза его остекленели без влаги – ему некогда было моргать, – бледные щеки стали смуглыми от силы крови, пришедшей ему на помощь из глубины его сердца. Извлекая костяные секции, Самбикин глядел в них в свете рефлектора, нюхал, сжимал для лучшего ознакомления и передавал старшему хирургу; тот равнодушно бросал их в посуду.
Мозг приближался; выкалывая кости из черепа, Самбикин исследовал их теперь под микроскопом и все еще находил в них гнезда стрептококков. В некоторых местах головы ребенка Самбикин дошел уже до последней костной пластинки, ограждающей мозг, и зачистил ее по поверхности от смертного серого налета. Его руки действовали так, как будто они сами думали и считали каждый допуск движения. По мере удаления стрептококков их становилось меньше, но Самбикин переходил на сильнейшие микроскопы, которые показывали, что число гноеродных телец, быстро убывая, целиком все же не исчезает. Он вспомнил знаменитое математическое уравнение, выражающее распределение теплоты по пруту бесконечной длины, и прекратил операцию.
– Тампонировать и бинтовать! – приказал он, ибо, чтобы совершенно уничтожить стрептококков, надо было искрошить не только всю голову больного, но и все его тело до ногтей на пальцах ног.
Самбикину было ясно, что разверстое, с тысячами рассеченных сосущих кровеносных сосудов, горячее, беззащитное тело больного жадно вбирало в себя стрептококков отовсюду – из воздуха, а особенно – из инструмента, который стерелизовать начисто невозможно. Нужно было давно перейти на электрическую хирургию – входить в тело и кости чистым и мгновенным синим пламенем вольтовой дуги – тогда все, что носит смерть, само будет убито и новые стрептококки, проникнув в раны, найдут в них сожженную пустыню, а не питательную среду.
– Кончено, – сказал Самбикин.
Сестры уже перевязывали голову больного. Они повернули его лицом к врачам.
Тепло жизни, пробиваясь изнутри, розовыми полосами шло по бледному лицу ребенка и быстро размывалось прочь; затем оно возникало снова и опять стушевывалось. Глаза его были почти открыты и высохли настолько, что региновое вещество немного сморщилось от сухости…
– Он мертвый, – сказал старый врач.
– Нет еще, – ответил Самбикин и поцеловал ребенка в увядшие губы. – Он будет жить. Дайте ему немного кислорода. Пить не давать до утра.
По выходе из клиники Самбикин встретил трясущуюся, судорожную женщину – мать ребенка. Ее не пускали по правилам и за поздней ночью. Самбикин поклонился ей и велел пропустить ее к сыну.
Загоралось утро. Самбикин посмотрел через забор на соседний жакт, все пусто было, скрипач ушел спать. Из двери вышел человек скромной наружности со сморщенной, изношенной годами и трудностью женщиной. Спутник ей убедительно признавался в любви; Самбикин нечаянно заслушался его голоса – в этом голосе звучала темная грудная грусть, и это делало его трогательным, хотя человек говорил пошлость и глупость.
– А война будет, ты бросишь меня, – робко возражала женщина.
– Я? Нет, нисколько! Я последняя категория, я вневойсковик, почти ничто… Пойдем за сарай ляжем полежим, душа опять болит.
– Иль ты в комнате не долюбил меня? – счастливо удивилась женщина.
– Маленько – нет, – сказал вневойсковой любовник. – Сердце еще болит, не остыло.
– Ишь, хамлет какой! – улыбнулась женщина. – И здоровья ему не жалко!
Она была горда сейчас, что нравится и увлекает мужчин. Вневойсковик сжался от утренней прохлады в своем истертом, усталом пальто и поспешил под руку с женщиной, видимо, желая как можно скорее отделаться от всего…
Самбикин пошел по Москве. Ему странно и даже печально было видеть пустые трамвайные остановки, безлюдные черные номера маршрутов на белых таблицах, – они вместе с трамвайными мачтами, тротуарами и электрическими часами на площади тосковали по многолюдству.
Самбикин задумался, по своему обыкновению, над жизнью вещества – над самим собой; он относился сам к себе как к подопытному животному, как к части мира, доставшейся ему для исследования всего целого и неясного.
Он думал всегда и беспрерывно, его душа сейчас же заболевала, если Самбикин останавливался мыслить, и он снова работал над воображением мира в голове, ради его преобразования. Ночью ему снились его разрушенные мысли, а он тщетно шевелился в постели, силясь вспомнить их дневной порядок, затем мучился и просыпался, радуясь утреннему свету и восстановленной ясности ума. Его длинное, усохшее тело, доброе и большое, всегда шумно жило и дышало, точно этот человек был алчный – постоянно хотел есть и пить, и громадное лицо имело вид опечаленного животного, только нос его был настолько велик и чужд даже громадному лицу, что сообщал кротость всему выражению характера.
Домой Самбикин пришел уже в светлое время, когда летнее великое утро горело на небе так мощно, что Самбикину казалось – свет гремит. Он позвонил в институт, ему сказали – оперированный ребенок хорошо спит, температура снижается, мать его тоже уснула на другой кровати. Передумав все о сегодняшней операции и все очередные проблемы, Самбикин почувствовал свое тоскующее, опустевшее сердце – ему надо было опять действовать, чтобы приобрести задачу для размышления и угомонить неясный и алчущий, совестливый вопль в душе. Спал он мало, и лучше всего после большой работы, тогда и сны в благодарность оставляли его. Нынче он действовал недостаточно, разум в голове не мог устать и хотел еще работать, отвергая сон. Пометавшись беспомощно по комнате, Самбикин пошел в ванну, разделся там и с удивлением оглядел свое тело юноши, затем пробормотал что-то и залез в холодную воду. Вода умиротворила его, но он тут же понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо – не более как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте…