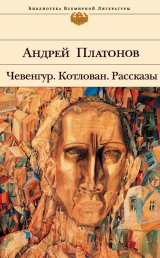
Текст книги "Котлован"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Андрей Платонов
Котлован
В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.
Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался – там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре – оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр: однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.
– Эй, пищевой! – раздалось в уже смолкшем заведении. – Дай нам пару кружечек – в полость налить!
Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.
Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.
– Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!
Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.
– Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.
Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.
– Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!
Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал – полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.
– Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.
Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.
Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком – защищать свой ненужный труд.
– Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме. – О чем ты думал, товарищ Вощев?
– О плане жизни.
– Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.
– Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.
– Ну и что ж ты бы мог сделать?
– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.
– Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.
Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время; но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.
– Вы боитесь быть в хвосте: он – конечность, и сели на шею!
– Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость – работал восемь, теперь семь, ты бы и жил – молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?
– Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Вощев в размышлении.
Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство – в тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега – там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.
Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.
Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, – наблюдал родителей Вощев, – сущности они не чувствуют».
– Отчего вы не чувствуете сущности? – спросил Вощев, обратясь в окно. – У вас ребенок живет, а вы ругаетесь – он же весь свет родился окончить.
Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.
– Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка – вам лучше будет.
– А тебе чего тут надо? – со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. – Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...
Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.
– Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?
– Близко, – ответил надзиратель, – если не будешь стоять, то дорога доведет.
– А вы чтите своего ребенка, – сказал Вощев, – когда вы умрете, то он будет.
Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы, но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне – все предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни, – со скупостью сочувствия полагал Вощев, – лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».
– Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, – сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. – Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.
Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.
Но уже был виден город вдалеке; дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:
– Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!
Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.
– Миш, лучше брось работать – насыпь: убытков наделаю!
Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.
– Я ж вчера тебе целый рубль дал, – сказал кузнец. – Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!
– Жги! – согласился инвалид. – Меня ребята на тележке доставят – крышу с кузни сорву!
Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:
– Грабь, саранча!
Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног – одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые скупо отверстые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.
Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.
Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети – это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.
Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях – Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.
– Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, – сказал он инвалиду. – Ты бы лучше закурил!
– Марш в сторону, указчик! – произнес безногий.
Вощев не двигался.
– Кому говорю? – напомнил калека. – Получить от меня захотел?!
– Нет, – ответил Вощев. – Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.
Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.
– Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.
– Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили, – тихо проговорил Вощев. – Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.
Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:
– Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты, – нету.
– Я на войне настоящей не был, – сказал Вощев. – Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.
– Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видел, то он вроде нерожавшей бабы – идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!
– Эх!.. – жалобно произнес кузнец. – Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»
Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Вощев продолжал томиться и пошел в этот город жить.
До самого вечера молча ходил Вощев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.
Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянущий запах сена приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Вощев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.
– Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? – не решался верить Вощев. – Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? – сомневался Вощев на ходу.
Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.
Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.
К полуночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и уйти с площади.
– Чего тебе! – неохотно говорил Вощев. – Какая тут площадь, это лишнее место.
– А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.
– А где же мне быть?
– Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.
Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца – оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев всмотрелся в лицо ближнего спящего – не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями, – каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Вощев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует, и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.
Утром Вощеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.
– Он слаб!
– Он несознательный.
– Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот тоже остаток мрака.
– Лишь бы он по сословию подходил: тогда – годится.
– Видя по его телу, класс его бедный.
Вощев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение.
– Ты зачем здесь ходишь и существуешь? – спросил один, у которого от измождения слабо росла борода.
– Я здесь не существую, – произнес Вощев, стыдясь, что много людей чувствуют сейчас его одного. – Я только думаю здесь.
– А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?
– У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили...
Все мастеровые молчали против Вощева: их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.
– Что же твоя истина! – сказал тот, кто говорил прежде. – Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!
– А зачем тебе истина? – спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. – Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.
– Вы уж, наверное, все знаете? – с робостью слабой надежды спросил их Вощев.
– А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! – ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от измождения слабо росла борода.
В это время отворился дверной вход, и Вощев увидел ночного косаря с артельным чайником: кипяток уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака; время пробуждения миновало, наступила пора питаться для дневного труда...
Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза; розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.
– Иди с нами кушать! – позвали Вощева евшие люди.
Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.
– Что же ты такой скудный? – спросили у него.
– Так, – ответил Вощев. – Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.
За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.
Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Вощев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом; вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить бесхозяйственных бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит – весь народ занят жизнью и трудом.
Вощев уже наелся и встал среди сидящих.
– Чего ты поднялся? – спросил его Сафронов.
– Сидя у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.
– Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция – той лишь бы посидеть да подумать.
– Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом – не увидел значения жизни и ослаб.
К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Вощева в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.
Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью.
Профуполномоченный, уже знакомый Вощеву, вошел в рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на выкошенном пустыре после шествия.
Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием – он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки.
Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание.
Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, – и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени.
К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух новостроящихся заводов, профуполномоченный напрягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу; музыканты приложили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.
– Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы пойдем – чего мы не видали!
Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу – он всегда ее чувствовал, когда его обижали.
– Товарищ Сафронов! Это окрпрофбюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жилища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья, – тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату, который вы начнете строить вслед за тем...
– Ты нам не переугождай! – возражающе произнес Сафронов. – Что мы – или не видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.
– Значит, я переугожденец? – все более догадываясь, пугался профуполномоченный. – У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец?
И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреждение союза, и оркестр за ним.
На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности. Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха; обездоленный, Вощев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, – и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью.
Среди пустыря стоял инженер – не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом – он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения: мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым. Вощев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и Вощеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце. Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован, и показал на вбитые колышки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом – он во время земляных работ был старшим в артели, грунтовый труд был его лучшей профессией; когда же настанет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову.
– Мало рук, – сказал Чиклин инженеру, – это измор, а не работа – время всю пользу съест.
– Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я просил сто, – ответил инженер. – Но отвечать будем за все работы в материке только вы и я: вы – ведущая бригада.
– Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой. Лишь бы люди явились.
И, сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо. Вощев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость сделается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинок, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его опередил, он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин не мог его понять.
От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась потом, никакого предохраняющего сала у Чиклина под кожей не было – его старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью. Когда-то он был моложе и его любили девушки – из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было преданно всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы и самому было чего чувствовать, тогда женщины и товарищи из ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние вишневые вечера.
К полудню усердие Вощева давало все меньше и меньше земли, он начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели; лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, пот слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами; при подъеме земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна.
– Козлов! – крикнул ему Сафронов. – Тебе опять неможется?
– Опять, – ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.
– Наслаждаешься много, – произнес Сафронов. – Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился.
Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления.
– За что он тебя? – спросил Вощев.
Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тосковал.
– Они говорят, – ответил он, – что у меня женщины нету, – с трудом обиды сказал Козлов, – что я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорится, все знают!
Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается – еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове – ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством.
– Сафронов, – сказал Вощев, ослабев терпеньем, – лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна.
– Не выдумаешь, – не отвлекаясь, сообщил Сафронов, – у тебя не будет памяти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам себя, как животное.
– Чего ты стонешь, сирота! – отозвался Чиклин спереди. – Смотри на людей и живи, пока родился.
Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут: он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.
– Козлов, ложись вниз лицом, отдышься! – сказал Чиклин. – Кашляет, вздыхает, молчит, горюет! – так могилы роют, а не дома.
Но Козлов не уважал чужой жалости к себе – он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связный грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам – его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поверх костей и уговаривать шепотом терпеть.
Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выспался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.








