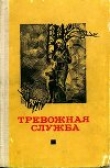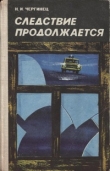Текст книги "Тревожная служба"
Автор книги: Андрей Козлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Откуда это? – удивился я.
– Ребята теперь тащат сюда все, что можно снять с разбитых при бомбежке или артобстреле машин, – отвечает сержант Назаров. – Ремонтники и шоферы хвалят наш "ГУТАП".
Утром по трассе проезжал заместитель командира 17-й автотранспортной бригады по технической части военный инженер 2 ранга Владимир Константинович Кедров. Специально машину остановил, осмотрел наш "ГУТАП" изнутри, кругом обошел, похвалил:
– Молодцы! Здорово придумали.
Вскоре на трассе выросла еще одна снежная избушка с шутливой надписью автолом "Воды". Здесь к услугам водителей были прорубь и ведро.
Не помню сейчас фамилии пограничника – одного из самодеятельных художников комендатуры. На листе фанеры, прибитой к двум шестам, он написал призыв и установил его на трассе:
"Водитель, помни! Каждые два рейса обеспечивают десять тысяч жителей. Борись за два рейса в день!"
Щит сбивал ладожский ветер – сиверик или сиверко, приносивший с собой метель и пургу. Пограничник снова и снова укреплял его. Вскоре подобные призывы появились по всей трассе.
– Ездить стало веселее, – говорили шоферы. – Щиты смелости прибавляют. Едешь и разговариваешь с ними, как с живыми.
Среди пограничников были и шоферы, и трактористы, и дорожники. Сменившись с постов, прибыв из разведки или боевого охранения, они помогали ремонтировать машины, расчищать дорогу, отмечали шестами с привязанными к ним еловыми лапами трещины, полыньи, воронки, образовавшиеся после бомбежки и артобстрела.
Как-то ночью разведывательно-поисковая группа обратила внимание на колонну машин, остановившуюся километрах в десяти от западного берега Ладоги. Мела поземка, и колеса чуть ли не до половины были занесены снегом. Значит, уже давно стоят. В чем дело? Подошел старший группы к колонне. Моторы работали, а водители... спали. Шумихин лыжной палкой постучал по кабине первой машины. Водитель очнулся, открыл дверцу. На усталом лице смущение.
– Вторые сутки из-за баранки не вылезаю. – Он глянул вперед, протер глаза, еще раз глянул и виновато добавил: – Я ведь почему остановился машины впереди были. Когда же они ушли?
– Ты, друг, поспи еще, а я машину до берега доведу, – предложил Шумихип, снимая лыжи и забрасывая их в кузов. – Еще двоих можем подменить. Не бойся, шоферы мы! – перехватив недоверчивый взгляд водителя, добавил старший группы.
Вскоре колонна была на берегу.
Всему составу разведывательно-поисковой группы капитан В. А. Лебедев объявил благодарность.
Грузы перевозились в никудышной таре: ящики и бочки, бывало, еле держатся, мешки – заплатка на заплатке. Любой груз не взвешивался: некогда было, да и не на чем. Пограничники выступили инициаторами ремонта тары и правильной организации погрузочно-разгрузочных работ в порту. Делали все для того, чтобы не было Потерь.
Трудности возникали на каждом шагу, словно нарочно их нам подсовывали. Но каждый думал не о том, чтобы избежать трудностей, а о том, как их побыстрее преодолеть. Бывало, все валились с ног от усталости, но если надо было что-то делать – делали.
"Что возможно, то, считай, уже сделано, а что невозможно, то будет сделано!"
Не знаю, кому принадлежат эти слова, ставшие на Ладоге крылатыми. Я слышал их на собраниях и совещаниях, их приводили в нашей многотиражной газете "Фронтовой дорожник". Этот девиз стал законом жизни каждого, кто трудился на трассе.
Один из моих подчиненных как-то сказал:
– Мы вытащили на экзамене трудный билет... Хочешь не хочешь, а отвечать надо.
Мы были разными по возрасту и служебному положению, по характеру. Но всех нас спаяла фронтовая дружба. Ежедневно, на волосок от смерти, голодные и холодные, мы видели перед собой, я бы сказал, великий пример для подражания – ленинградцев. Они учили нас мужеству, передавали нам свою ненависть к врагу.
Никогда не забуду женщину, вывезенную из города. Изможденная. Худая. Выпали почти все зубы. Еле на ногах держится. Ребенок у нее лет семи – кожа да кости. Объявили посадку в автобусы. И тут налетели фашистские бомбардировщики. Все смешалось: хватающий за душу вой самолетов, разрывы бомб, крики людей... А женщина в самое пекло рвется. "Я, – говорит, – врач, мое место там". И пошла, а сама шатается, сумку санитарную еле тащит...
В тот раз погибли семь наших офицеров и три бойца, одиннадцать пограничников получили ранения...
А разве забудешь Василия Ивановича Сердюка, тоже ленинградца, водителя 390-го автомобильного батальона!
В годы Отечественной войны на башнях танков, стволах пушек и фюзеляжах самолетов красовались звездочки – так отмечались ратные подвиги советских воинов, велся боевой текущий счет уничтоженной вражеской технике.
На дверце автомобиля, за рулем которого сидел В. И. Сердюк, было одиннадцать красных звездочек! Нет, он не уничтожил ни одного фашистского танка, не раздавил колесами ни одной пушки, не сбил ни одного самолета. За каждой звездочкой – сто тонн груза, перевезенного в блокадный Ленинград. Сто тонн – это по крайней мере тридцать три рейса по льду, который может проломиться в любую минуту, нередко под бомбежкой и артиллерийским обстрелом, в пургу и в мороз. Это – подвиг!
Январь 1942 года на Ладоге был исключительно суровым. То, бывало, ветер 9-12 баллов, то пурга, то тридцатиградусный мороз.
В один из таких дней с озера вернулась разведывательно-поисковая группа в составе пограничников Бойцова, Ключарева, Виноградова и Суликманова. На шапках, воротниках и даже на бровях у пограничников висели сосульки, лица красные от ветра и мороза, валенки обледенели.
– Что видели? – спрашиваю их.
– Подвиг видели, товарищ старший лейтенант. ...Автоколонна, шедшая на восточный берег, попала под артиллерийский обстрел. Один из крупнокалиберных снарядов разорвался чуть ли не под радиатором первой машины. Водитель затормозить не успел... А в кузове, тесно прижавшись друг к другу, сидели шестнадцать худых, безучастных ко всему мальчишек – учащихся ремесленного училища.
Водители и пограничники с риском для жизни вытащили всех ребят из ледяной воды. В. И. Сердюк посадил их на свою машину, закутал, как мог, и помчался на обогревательный пункт.
Обогревательный пункт... Тем, кто трудился на Дороге жизни, подставляя себя ладожскому сиверко, кому приходилось мерзнуть в кузове грузовой машины, мчавшейся по льду озера в тридцатиградусный мороз или в пургу, знает, чем был для них обогревательный пункт! Никогда не забудут они дежуривших там медицинских работников, оказавших им помощь, а то и спасших жизнь.
Острова Зеленцы – это выступающая из воды каменная гряда. На островах был целый палаточный городок. Там перевязывали раненых, оказывали помощь обмороженным, обогревали эвакуированных из Ленинграда стариков, женщин и детей. В мороз и в пургу в городке находили приют шоферы, связисты, регулировщики, пограничники, зенитчики...
А у банки Астречье, на седьмом километре дороги, открытая всем ветрам, стояла одна-единственная палатка, хозяйкой которой была военфельдшер Оля Писаренко, хрупкая, небольшого роста девушка-комсомолка.
Круглые сутки в палатке топилась печурка, на которой кипел чайник. Только хозяйку не всегда можно было застать. Частенько она оказывала помощь прямо на трассе. Разыскивала раненых и обмороженных, когда над озером бушевала пурга, спасала людей, очутившихся после бомбежки в ледяной воде. Тридцать восемь тысяч человек прошли через палатку Оли Писаренко в первую блокадную зиму, и каждый унес с собой частицу тепла и бодрости этой героической девушки.
Не было, пожалуй, дня, чтобы враг не бомбил или не обстреливал седьмой километр. (Недаром шоферы прозвали этот отрезок пути "Пронеси, господи!".) Фашистов выводил из себя темный квадрат на белом снегу – наперекор всему, палатка стояла незыблемо! А вокруг лед превратился почти в сплошное крошево, и если б не морозы, к "ледовому лазарету", как на трассе называли палатку Оли Писаренко, невозможно было бы подойти.
Гитлеровцы все же расправились с темным квадратом на белом снегу. Это было солнечным морозным утром. Видимость – лучше некуда. Три бомбы легли в цель. Немцы, конечно, ликовали. Не знали они только одного: накануне вечером Оля Писаренко вместе со своими помощниками перебазировалась на другое место.
* * *
В феврале наш 8-й пограничный отряд был преобразован в 104-й отдельный пограничный полк НКВД. Вместо комендатур и застав у нас, как и в стрелковых частях Красной Армии, стали батальоны и роты. Кадровым пограничникам новые термины казались вначале необычными, но вскоре к ним привыкли.
Те дни памятны для меня массовым развитием снайперского движения, зародившегося на нашем фронте в конце 1941 года. Одним из первых боевой счет истребленных захватчиков открыл ленинградский паренек Феодосии Смолячков. За три месяца он уничтожил сто двадцать пять гитлеровцев! Смолячкову было всего восемнадцать лет, когда он погиб. Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил ему звание Героя Советского Союза.
Военный совет обратился ко всем воинам Ленинградского фронта с призывом уничтожать фашистских захватчиков так, как их уничтожал Феодосии Смолячков. Этот призыв нашел горячий отклик. Ряды снайперов стремительно росли. Уже не одиночки, а снайперские отделения и взводы выдвигались за передний край обороны. Гитлеровцам житья не стало. Помнится, они даже разбрасывали листовки, в которых обвиняли нас в том, что мы "неправильно" воюем. Пленные показывали, что снайперы вселяли в каждого немца животный страх.
В разгар снайперского движения командиром нашего полка стал полковник Тихон Савельевич Шуйский. Полковник сразу полюбился всем. У него была заметная внешность: высокий, широкоплечий, на мужественном лице красивый орлиный нос, неизменная трубка в зубах. Т. С. Шумский – высокообразованный командир. Он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, что в те годы было не таким уж частым явлением. Служил он все время во внутренних войсках, но и пограничное дело, как я не раз убеждался, знал отлично. По-хозяйски крепко стоял на земле этот человек. Не любил недомолвок. Правду говорил в глаза. Если чего-нибудь не знал, не стеснялся спросить у любого из подчиненных. Загрустил – душу вылечит, поддержит добрым словом, отличился – отметит, допустил халатность, небрежность – так отчитает, век не забудешь.
Когда Тихон Савельевич покидал полк (через год его назначили с повышением, если мне не изменяет память, начальником штаба корпуса), бойцы и командиры тяжело переживали расставание с ним.
Вместе с начальником политотдела батальонным комиссаром П. К. Суваловым и начальником штаба майором Андреем Максимовичем Соловьевым, прибывшим к нам из Кремлевского полка, полковник Шумский лично формировал снайперские команды, особенно придирчиво отбирал офицеров, которые их возглавляли. И, надо сказать, сделал он на этом поприще очень много.
– Изумительно в людях разбирается! – с гордостью говорил, бывало, В. А. Лебедев. – Он словно опытный начальник ОТК: сказал, что продукция высшего сорта, – все, так оно и есть. От начальника ОТК полковника отличает то, что он не только умеет отбирать для нужного дела хороших людей, но и воспитывать таких!
Да, Тихон Савельевич умел воспитывать людей. П. К. Сувалов и А. М. Соловьев изо всех сил помогали ему: начальник политотдела – страстным большевистским словом, начальник штаба – личным показом, передачей своего богатого опыта.
Как-то я присутствовал на занятиях молодых снайперов, только-только зачисленных в команду. Младший лейтенант Павел Михайлович Третьяков отрабатывал с ними переползание по-пластунски. Занятие проходило на учебном поле. Это был внушительных размеров сухой луг, кое-где поросший кустарником, изрытый окопами, траншеями и ходами сообщения. С трех сторон луг окружали леса. Здесь мы занимались тактической и инженерной подготовкой, учились владеть штыком и прикладом, захватывать вражеских лазутчиков и парашютистов... В общем, это был огромный класс под открытым небом, класс, в котором мы учились побеждать врага. Во время перерыва подошел майор Соловьев. Пограничники любили начальника штаба, сразу же окружили его, посыпались вопросы.
– Поэт Степан Щипачев про вас стихотворение написал. Слышали? – спросил А. М. Соловьев.
Стихотворение было новым, и его еще никто не читал. . Соловьев достал из полевой сумки фронтовую газету "На страже Родины", развернул ее и стал читать:
Он знает все
где кочка, где овраг.
Он ждет часами
тут нельзя спешить.
Когда ж на мушку
попадает враг,
Тому и полсекунды
не прожить...
– Что означает слово "снайпер"? – задал начальник штаба вопрос. И сам же на него ответил: – Очень меткий и искусный стрелок. Отборочные стрельбы показали, что в меткости на вас можно положиться. Но этого мало. У немцев, а особенно у финнов, метких стрелков тоже хватает. В первые дни войны, как вы знаете, "кукушки" немало попортили нам крови на Карельском перешейке. Вражеские снайперы не дураки. Запомните это, друзья мои! Они не только по-настоящему умеют стрелять, но и маскироваться, терпеливо, ничем не выдавая себя, наблюдать. И потому ваша подготовка должна стоять на трех китах: вам надо научиться стрелять так, чтобы уничтожать противника с первой пули; так маскироваться, сливаться с местностью, чтобы фашисты и с помощью стереотрубы не смогли вас разыскать; с ходу отыскивать на местности самых хитроумных вражеских солдат и офицеров, выжидающих удобного момента, чтобы послать пулю наверняка. Ваша задача – уничтожать фашистских захватчиков. Каждый из них опаснее зверя! Каждый из них несет разрушения нашим городам и селам, смерть советским людям. Но прежде всего не давайте житья вражеским снайперам, которые охотятся за нашими людьми. Враг силен. Враг хитер. Но помните, что сказал старый казачий полковник Тарас Бульба? Нет на свете такой силы, которая бы пересилила русскую силу. И нет такого хитреца, добавлю я, – который перехитрил бы советского пограничника! Но все это: сила и ловкость, смекалка и находчивость – сразу не дается. Надо, друзья мои, учиться, тренироваться до седьмого пота, только тогда дело выйдет наверняка. И еще надо помнить о том, что времени для учебы у нас в обрез.
Майор привел несколько известных ему примеров искусства наших лучших стрелков, уже побывавших на огневых позициях за передним краем, рассказал, как ведут себя фашистские снайперы.
– А ну-ка, попробуем выбрать огневые позиции на этой местности! предложил вдруг майор. – Кто первый?
Ответом вначале было молчание. Наконец один из бойцов сказал:
– Эта местность, товарищ майор, не вполне удачная...
– Какая жалость! – всплеснул руками начальник штаба. Он отозвал в сторону младшего лейтенанта Третьякова, сказал ему что-то, взял у одного из снайперов винтовку, зарядил ее и приказал всем повернуться кругом. Срезал ножом несколько веток, воткнул их под погоны, ремень и фуражку, за сапоги, выдвинулся вперед, в невысокий кустарник.
Видя, что майор Соловьев занял огневую позицию, Третьяков приказал своим подчиненным обнаружить снайпера. Бойцы все глаза проглядели, но начальника штаба не увидели. Раздался выстрел. Заранее выставленная мишень упала – попадание с первой пули! И даже после этого никто не смог обнаружить огневую позицию, занятую Соловьевым...
– Вот вам и не вполне удачная местность! – насупившись, сказал майор, выслушав доклад о том, что никто не смог его разглядеть. – А у противника есть стрелки поопытнее меня. Как же вы их будете отыскивать на местности, которая может быть еще более "неудачной", чем эта?
– Расскажите им, товарищ младший лейтенант, еще раз о выборе огневой позиции и способах маскировки. Покажите, как это делается. А потом разбейте команду на две группы: одна пусть занимает огневые позиции, а другая отыскивает замаскировавшихся снайперов. Да с часами в руках тренируйтесь. А то ведь можно целый день искать. Группы меняйте!
Этот урок, преподанный начальником штаба полка, заставил пересмотреть программу подготовки снайперов, мы стали стараться учить их в обстановке, максимально приближенной к боевой.
И таким вот наставником А. М. Соловьев был во всем. Все, кто знал этого умного и храброго человека, были опечалены, когда стало известно, что майор Андрей Максимович Соловьев погиб смертью храбрых.
Необходимо сказать, что П. М. Третьяков, вняв советам начальника штаба, отлично подготовил свою команду. Находясь в боевых порядках 98-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии 23-й армии, 39 снайперов-пограничников за несколько дней уничтожили 311 солдат и офицеров противника. Наши потери – двое раненых.
В связи с развертыванием снайперского движения не могу не сказать хотя бы несколько добрых слов в адрес заместителя командира полка по снабжению Федора Карповича Хорькова. На его плечах в те годы лежал нелегкий груз. С питанием было плохо, и все же он как-то ухитрялся кормить нас довольно сносно – добавлял в котел самые различные пищевые заменители – "подножный корм", как говорили острословы. По-особому он заботился о снайперах. Для них Федор Карпович и в условиях блокады доставал все необходимое.
Я хочу, чтобы читатели поняли меня правильно. Ф. К. Хорьков не ловчил, не пользовался какими-то привилегиями у высокого начальства. Просто он был запаслив, расчетлив, скуповат, билась в нем хозяйственная жилка, которая не позволяла пропадать ни одной крошке. Находить же эти крошки, "подножный корм", он умел.
– Федор Карпович Хорьков из печеного яйца цыпленка высидит! по-хорошему шутили у нас в полку.
Под стать Хорькову были и его подчиненные – начальники служб, складов, повара. Умели они беречь и по-хозяйски расходовать каждый грамм продуктов, горючего и смазочных материалов, обмундирование и снаряжение, оружие и боеприпасы – все, что нужно в бою.
Начальником связи полка в те годы был капитан Г. Г. Горовенко. Как и все офицеры штаба, он многое делал для формирования и обучения снайперских команд. Но больше всего ему везло на вражеских разведчиков, диверсантов и парашютистов. Капитан Горовенко несколько раз участвовал в прочесывании лесных массивов, в поисках шпионов на эвакопунктах, в порту, в других местах. И всегда успех сопутствовал ему.
Первая снайперская команда из тридцати трех человек была подготовлена старшим лейтенантом Разумником Дмитриевичем Винокуровым, лейтенантом Михаилом Николаевичем Власовым и политруком Геннадием Николаевичем Тулакиным. Она действовала в боевых порядках 1-й дивизии НКВД и за десять дней уничтожила сто тридцать восемь гитлеровцев. Команда потерь не имела. И в этом была большая заслуга старшего лейтенанта Винокурова.
Заботливая душа и прекрасный специалист, Винокуров был всеобщим любимцем. Его отличали смелость, отвага и какая-то особая смекалка. Он находил выход из любого положения, каким бы сложным оно ни было, и настойчиво учил этому подчиненных.
Будучи командирам роты, затем начальником штаба батальона, я непосредственно занимался организацией учебы и боевой деятельности снайперов. А когда был переведен в штаб полка, то принимал участие в организации взаимодействия наших снайперских команд с командами армейских частей, на участках которых они действовали. В штабе полка ежемесячно разрабатывались графики выхода снайперских команд на передовые позиции. В них определялись места, сроки, состав и старшие команд, а также командиры, проверяющие работу снайперов.
В. А. Лебедеву и мне не раз приходилось сопровождать снайперские команды, вместе с ними находиться в боевых порядках войск.
...Ночью пехотинцы 204-го стрелкового полка вместо со снайперами-пограничниками вели разведку боем. После огневого налета артиллерии бойцы устремились вперед. В это время со стороны вражеских траншей заговорил пулемет. Плохо пришлось бы наступавшим, особенно на правом фланге, если бы их не выручил снайпер ефрейтор Роман Васильевич Васильев. По вспышкам он определил местонахождение огневой точки. Один за другим сделал несколько прицельных выстрелов. Пулемет замолчал. Всего ефрейтор Васильев уничтожил в том бою восемь гитлеровцев и был награжден орденом Красной Звезды.
...Снайперская команда пограничника младшего лейтенанта Л. Е. Нескубы находилась на позициях 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Бойцы не только уничтожали огневые точки врага, но и забрасывали их гранатами, а врываясь в окопы, умело действовали прикладом. Особенно отличились тогда старшины Дмитрий Васильевич Витушкин и Андрей Ефимович Деревянко, ефрейтор Михаил Калинович Юрчин. Всех снайперов наградили орденами и медалями.
Противник понял, что с советскими снайперами шутки плохи. Фашисты перестали передвигаться не только в полный рост, но и пригнувшись. Гитлеровцы, считавшие себя хозяевами захваченной земли, на передовой и в ближнем тылу ползали, как пресмыкающиеся. Многие наши снайперы оказались "без работы".
Надо было что-то придумывать. И мы придумали: стали использовать снайперов во время нашего артиллерийского огневого налета. Находясь в боевых порядках 102-й отдельной стрелковой бригады, я своими глазами видел, какие результаты это дало.
Солдаты противника занимались своим делом: тянули связь, подносили боеприпасы, термосы с пищей... Естественно, маскировались, опасаясь метких выстрелов наших снайперов. Огневой налет многих застал вдали от траншей и землянок. Словно ошпаренные, солдаты заметались в поисках хоть какого-нибудь укрытия. Вот была снайперам работа! Двадцать одного фашиста уничтожили пограничники.
Вскоре после этого к нам в полк прибыл командир бригады Герой Советского Союза полковник Н. С. Угрюмов и в торжественной обстановке вручил правительственные награды большой группе снайперов.
А через несколько дней Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями были награждены многие солдаты, сержанты и офицеры, отличившиеся на Дороге жизни. Орденом Красной Звезды был награжден и я.
Всех награжденных пограничников – было нас человек пятнадцать – вызвали в Ленинград. Помнится, выехали мы ночью. До штаба, который размещался на улице Каляева, 19, добрались без происшествий, пристроились на столах, на полу и заснули как убитые.
Ордена и медали нам вручал генерал-лейтенант Г. А. Степанов.
Только началось торжество, гитлеровцы стали бомбить и обстреливать город. Несколько снарядов и одна бомба угодили в помещение штаба.
Тяжело было сознавать свое бессилие в такой обстановке. Враг глумился над голодным, замерзшим городом, сеял смерть, а мы не могли ему отомстить в полной мере!
Будто подслушав мои мысли, генерал, поздравляя нас, сказал:
– Уничтожать врага на снайперских позициях, уничтожать всюду, где бы он ни появился; делать все для того, чтобы фронт и город получали как можно больше грузов; чтобы ни один шпион и диверсант, ни один подлый шептун не проник в Ленинград – вот что должно быть вашим ответом на высокие награды Родины, на бесчинства фашистских стервятников.
В обратный путь мы снова должны были выехать ночью, поэтому у каждого было несколько часов свободного времени. Одни решили навестить родных и знакомых, другие – просто посмотреть город.
Ленинград заметно изменился с тех пор, как я в начале октября 1941 года водил по его улицам маршевые роты. В глаза бросались разрушенные бомбами и снарядами дома, засыпанные снегом троллейбусы и трамвайные вагоны. Улицы стали тесными от высившихся по бокам сугробов. Тихо брели женщины, старики и дети, закутанные шалями, а то и одеялами. Некоторые тянули за собой стиральные корыта или листы железа, на которых лежали мертвые.
Вечером в небе заплясали лучи прожекторов, послышались разрывы зенитных снарядов. Очередной налет фашистских самолетов вызвал новые разрушения и пожары.
Недалеко от Литейного моста фашистская бомба расколола пополам пятиэтажный дом. Вначале было трудно разобраться в жутком хаосе душераздирающих криков, огня, дыма и пыли. По лестнице, заваленной кирпичами и какими-то искореженными металлическими конструкциями, я пробрался на третий этаж, рванул дверь одной из квартир. Языки пламени лизали стены. На полу лежала женщина с залитым кровью лицом. Рядом с нею, протягивая ко мне руки, плакала девочка лет пяти. Я распахнул шинель, схватил ребенка и поспешил на улицу. Здесь ко мне подбежала женщина из отряда МПВО с одеялом в руках. Я передал ей ребенка и снова бросился к горящему зданию.
Я помогал выбираться из огня женщинам и старикам, выносил какие-то вещи, первыми попадавшиеся под руку. А перед глазами стояла худенькая девочка с лицом старушки, протягивающая ко мне свои косточки-руки.
Как я уже писал, движение машин по льду Ладоги было прекращено 21 апреля 1942 года. Через месяц, 22 мая, на озере открылась летняя навигация. Личный состав Ладожской военной флотилии и Северо-западного речного пароходства был так же отважен и смел, как и автомобилисты.
Прямая обязанность военных моряков – конвойная и навигационная служба, защита караванов и отдельных судов, их охрана на рейде. Но они добровольно брали на себя и перевозку боеприпасов, продовольствия, медикаментов.
– Загружать все, что плавает! – такое решение вынесли на собраниях коммунисты и комсомольцы флотилии.
Весной 1942 года 104-му пограничному полку поручили еще и противодесантную оборону западного побережья озера. В первой половине лета совместно с войсками 23-й армии и моряками Ладожской флотилии мы создали надежный оборонительный рубеж: построили дзоты, блиндажи, стрелковые и минометные окопы, щели и убежища. Серьезное внимание обращалось на взаимодействие между сухопутным и флотильским командованием.
Частым и желанным гостем пограничников был комиссар Ладожской военной флотилии полковник Николай Дмитриевич Фенин. Знали мы и командующего капитана 1 ранга Виктора Сергеевича Черокова (ныне вице-адмирал в запасе), и начальника штаба Сергея Валентиновича Кудрявцева (ныне контр-адмирал в отставке). Но самые тесные связи были, конечно, с командирами кораблей. Об одном из них – командире тральщика ТЩ-100 старшем лейтенанте Петре Константиновиче Каргине (ныне капитан 1 ранга, доцент, кандидат военно-морских наук) – необходимо рассказать подробнее.
Небольшого роста, круглолицый, с чуть прищуренными глазами, озорно выглядывавшими из-под козырька надвинутой на лоб и сбитой на правое ухо фуражки, П. К. Каргин и минуты не мог прожить спокойно. С ним было легко и весело.
Команда любила своего командира, потому что видела – он много знает и умеет, с ним не страшны любые невзгоды. Все, кто служил на ТЩ-100, были отлично подготовлены. Старший лейтенант Каргин старался добиться автоматизма во всем, что не требовало размышления, а всю освободившуюся умственную энергию подчиненных направлял на проблемы, заслуживающие этого. В минуту, когда на карту были поставлены жизни десятков людей, такой метод себя оправдал.
...22 октября 1942 года. Холодный и пасмурный день. Тяжелые тучи заволокли небо. Озеро окутал туман. На рассвете, мало чем отличавшемся от ночи, тридцать два немецких и финских корабля по-воровски подошли к острову Сухо. Врага заметил сигнальщик находившегося в дозоре тральщика ТЩ-100. Прозвучала боевая тревога. Уведомив по радио командование, тральщик открыл огонь.
Враг имел большое преимущество в количестве и калибре орудий. Кроме того, его действия поддерживали вначале четыре "мессершмитта", затем появились штурмовики и бомбардировщики. И все же команда тральщика первой добилась успеха: удачное попадание – и фашистский катер взорвался. Вскоре один за другим были уничтожены еще два вражеских судна. Тральщиком управлял молодой, но опытный командир, умело сочетавший маневр с огнем. Вода вокруг маленького суденышка кипела. По нему вели огонь несколько вражеских кораблей, его бомбили, обстреливали из пушек и пулеметов самолеты, а оно было неуязвимо.
Фашистские солдаты все же сумели высадиться на остров, который оборонял небольшой гарнизон во главе с командиром батареи старшим лейтенантом Иваном Константиновичем Гусевым.
Защитники Сухо открыли огонь. Силы были неравными. Но моряки-ладожцы не отступили. И. К. Гусев был пять раз ранен, но продолжал руководить обороной острова.
Вскоре к месту боя прибыл "морской охотник" старшего лейтенанта Ковалевского, другие наши корабли, в воздухе появились самолеты Краснознаменного Балтийского флота и ВВС Ленинградского и Волховского фронтов.
Узнав о нападении на остров Сухо, командир 104-го пограничного полка привел в боевую готовность и значительно усилил подразделения, непосредственно выделенные для борьбы с десантами на западном побережье Ладоги. По тревоге был поднят один из батальонов. Погрузка на суда заняла несколько минут, и пограничники поспешили на помощь гарнизону Сухо. Правда, она не потребовалась.
Десант с острова был сброшен, вражеские суда обращены в бегство. Шестнадцать кораблей с десантом были уничтожены, один захвачен в плен. В воздушом бою было сбито пятнадцать фашистских самолетов. Враг потерял убитыми и ранеными сотни матросов, солдат и офицеров.
Разгоряченный боем, старший лейтенант Каргин не забыл и о товарищах, сражавшихся с врагом на острове. Он принял на борт раненых и взял курс на Новую Ладогу – в базу.
Герой-артиллерист, бледный от потери крови, лежал на палубе на носилках. Он улыбнулся, когда над ним наклонился Каргин.
– Орел ты! – тихо сказал Гусев. – И ребята твои – орлы!
Он ослабевшей рукой пошарил по палубе, где лежали его вещи, и по очереди передал Петру Константиновичу бинокль и пистолет.
– Мои трофеи, добытые сегодня в бою. Возьми на память...
Вскоре после этого боя Политическое управление Краснознаменного Балтийского флота выпустило специальную листовку: "Слава командиру тральщика Петру Каргину!" Политработники нашего полка ознакомили с ней всех пограничников, призвали их служить Родине так, как этот отважный моряк.
За бой у острова Сухо старший лейтенант Петр Константинович Каргин был вскоре награжден орденом Красного Знамени.
В заключение нелишне сказать несколько слов о корабле П. Каргина, который вот уже седьмой десяток лет исправно несет службу.
ТЩ-100, построенный еще до Октябрьской революции, побывал на своем веку и минным заградителем, и тральщиком, и учебным, и вспомогательным судном. Настало время идти ему на слом. Механик Тимофей Григорьевич Гудзь, проплававший на ТЩ-100 двадцать семь лет, не мог примириться с этим. И он уговорил правление рыболовецкого колхоза купить этот корабль. Ветеран остался в строю.
Рижская студия телевидения выпустила фильм "О большой судьбе маленького корабля". Это – увлекательный рассказ о ТЩ-100.
Коль речь зашла о моряках, не могу не вспомнить о людях родственной им профессии – о водолазах Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), которыми руководил контр-адмирал Ф. И. Крылов.