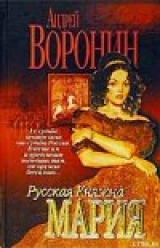
Текст книги "Русская княжна Мария"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сделав так, он снова накинул на себя портупею с болтавшимся на ней тяжелым палашом, пригладил рукой в перчатке волосы и вышел из карточной.
На пороге гостиной Кшиштоф Огинский остановился и обвел внимательным взглядом разместившихся здесь офицеров, не найдя среди них ни своего кузена, ни поручика Синцова. Насчет кузена можно было не беспокоиться: судя по разыгравшейся у парадного крыльца сцене, Вацлав был неравнодушен к юной княжне и теперь наверняка бродил где-то в доме, ища встречи со своей избранницей. При этой мысли красивое лицо пана Кшиштофа исказила злобная гримаса: проклятому кузену везло во всем. Княжна, мало того, что весьма недурна собою, наверняка была еще и сказочно богата. И все это – красота, молодость, богатство, титул – снова должно было достаться мальчишке, который заслужил свое счастье только тем, что появился на свет от правильных родителей, и у которого и без того имелось все, кроме, разве что, птичьего молока.
– Пся крэв, – по-польски прошептал пан Кшиштоф и отправился на поиски Синцова, твердо решив во что бы то ни стало заставить поручика завершить дело сегодня же, в крайнем случае – завтра на рассвете.
Синцов повстречался ему подле конюшни. Поручик, на котором лежала ответственность за подчиненных ему людей, решил перед сном обойти выставленные на ночь посты. Кроме того, он рассчитывал повстречать где-нибудь молодого Огинского. Ссора, прекращенная в самом начале вмешательством полковника Белова, ела ему внутренности, как кислота. Принесенные корнетом по настоянию полкового командира извинения, по сути, извинениями не являлись – это было просто очередное оскорбление, умело облеченное в форму извинений. Уязвленное самолюбие поручика взывало к отмщению, тем более, что в глубине души Синцов сознавал правоту Огинского. О том, что он лишь подтверждает эту правоту, намереваясь застрелить молодого человека за деньги, поручик не думал. Обещанная кирасиром тысяча рублей была нужна ему настолько, что как будто даже не имела отношения к делу. Набитый звонкой монетой кошелек в сознании поручика лежал как бы отдельно от всего, сам по себе, и притом уже не в кирасирском кармане, а в его собственном. Синцов хотел стреляться потому, что безусый корнет задел его честь, а деньги, как ему теперь представлялось, были вовсе ни при чем.
– Ну-с, господин поручик, – сказал ему Огинский, отведя его в тень ближайшей постройки, – извольте отвечать: что вы теперь намерены делать? Должен сказать вам, что не имею времени ждать; либо вы нынче же положительно закончите наше дело, либо денег вам не видать, и я вас не знаю, а вы меня не видели.
– Что это за тон, господин ротмистр? – выпячивая грудь, возмутился Синцов. – Кто дал вам право требовать у меня отчета?
– Вы сами, сударь, – холодно ответил Огинский. – Вы согласились вызвать мальчишку на дуэль и застрелить его за деньги. По сути, вы подрядились сделать для меня работу. Я готов платить, но я не вижу дела. Вы как будто неплохо начали, но кончилось все ничем. Вы, сударь, безропотно проглотили нанесенное вам оскорбление, так к чему теперь разыгрывать передо мной гордеца и недотрогу?
– Черт подери, – сквозь зубы процедил Синцов, – вы заходите слишком далеко, любезный.
При этом он с неожиданной трезвостью подумал, что поляк, пожалуй, во многом прав, а если и не прав, то, затеяв с ним дуэль, можно запросто расстаться с деньгами, так и не успев даже подержать их в руках.
Огинский в это самое время думал примерно о том же. Он уже жалел, что повел разговор в излишне резком тоне. Не стоило, пожалуй, затрагивать честь поручика: как и все, кто лишен чести вовсе, Синцов готов был убить всякого, кто ему об этом говорил.
– Пожалуй, вы правы, – сказал поэтому пан Кшиштоф самым мирным тоном, на какой был способен. – Признаю, что я слегка погорячился. Но и вы должны меня понять!
– Я понимаю вас полностью, – сказал Синцов совершенно искренне. Ему льстило, что на свете бывают люди, еще более низкие, чем он сам, да и деньги по-прежнему были нужны ему до зарезу. – Я ни от чего не отказываюсь. Я слово дал, черт возьми! Но вы же видели сами: чертов полковник не ко времени очнулся, и вообще момент был не самый подходящий. Право, я ничего так не хочу, как уложить этого юного наглеца.
– Тут наши желания совпадают, – сказал Огинский. – Так что же? Время не ждет, поручик. Прежде, чем мы расстанемся, я хотел бы оплакать и предать земле тело моего дорогого кузена. Мне кажется, что лучшего времени и места, чем сейчас и здесь, у нас уже не будет. Вацлав еще не спит; вам надобно немедля его отыскать и передать ему вызов. Сразу, как будет назначен час дуэли, вы получите ваши деньги.
– Лихо! – засмеялся Синцов. – А ежели случится невероятное и мальчишка меня убьет?
– Значит, вы умрете богатым, – сказал ему Огинский, подумав про себя, что в таком случае уж как-нибудь отыщет способ вернуть себе деньги.
В это время где-то поблизости в темном парке треснула под чьей-то ногой ветка. Ходивший по двору часовой взял ружье наизготовку и направил его в темноту.
Синцов и Огинский разом повернулись и стали вглядываться в темноту. Подозрительный звук больше не повторился. Выждав минут пять, поручик подошел к часовому.
– Что там, Гаврилов? – спросил он, оглядываясь по сторонам.
– Верно, собака, ваше благородие, – отвечал гусар. – Нынче их много одичает без хозяйского глаза.
– Ну, смотри, – сказал ему Синцов и, отпустив рукоятку сабли, вернулся к Огинскому.
Вдвоем они продолжили обход, не столько проверяя посты, сколько силясь отыскать столь ненавистного им обоим корнета.
Между тем в гуще парка, куда не проникали лунные лучи и не доставал свет от горевшего на заднем дворе костра, стоял, боясь пошевелиться, оборванный и страшный, обросший спутанными густыми волосами человек с вырванными ноздрями и лиловым клеймом беглого каторжника на лбу. Его ветхая, вся в прорехах и грязи рубаха была подпоясана веревкой, за которую был заткнут топор. В грязной ладони этот странный, похожий на отощавшего до последнего предела волка человек сжимал пистолет. Глубоко запавшие глаза его смотрели с волосатого грязного лица на Кшиштофа Огинского с выражением такой нечеловеческой злобы, что, казалось, светились в темноте собственным светом.
– Сами вы псы, – хрипло прошептал он в ответ на обращенные к Синцову слова часового.
Беглый каторжник, уцелевший в стычке на Смоленской дороге только благодаря быстроте своих ног, все это время следовал за паном Кшиштофом, горя жаждой мести и мечтая о наживе. Несуществующая полковая казна, которую, как он считал, присвоил себе проклятый поляк, представлялась ему в горячечных снах в виде множества доверху набитых золотыми монетами сундуков. Впрочем, висельник, о котором идет речь, не дрогнув душой, мог зарезать человека за пятак, что он и делал уже неоднократно. В детстве крещен он был Василием, а прозвище ему было Смоляк. Он был хитер и свиреп, как дикий зверь, и жаден до крови, как мохнатый паук, что вьет свою паутину в темном углу чердака.
Он шел за Огинским по пятам от самой Смоленской дороги, терпеливо дожидаясь удобного момента, чтобы свести с поляком счеты. Не раз он, безмолвный и неподвижный, как дерево, стоял в кустах на расстоянии удара ножом от пана Кшиштофа, но всякий раз ему что-нибудь мешало. Он знал каждый шаг Огинского с момента засады на Смоленской дороге, видел каждое его движение и слышал едва ли не каждое произнесенное им слово. Васька Смоляк сделался тенью своего обидчика. Он слышал, о чем тот договаривался с Синцовым, и видел сквозь освещенное окно карточной, куда Огинский спрятал парчовый сверток. Ничего не зная об иконе, Смоляк считал, что в парчу завернут ларец с деньгами. Только этот ларец да еще желание зарезать Огинского, как свинью, составляли сейчас смысл его существования; разговоры же господ про какую-то дуэль и про мальчишку, которого необходимо было убить, нимало его не занимали и потому были для него непонятны, как если бы они велись на французском языке.
Дождавшись, пока часовой совсем успокоился и ушел в дальний конец двора, Васька Смоляк тихо перевел дух и осторожно, чтобы не шуметь, двинулся заросшим парком примерно в том направлении, куда удалились Огинский с Синцовым. Будучи кровожадным, как паук, Смоляк точно так же был терпелив и хотел действовать только наверняка, не оставляя места для случайности, которая могла стоить ему жизни.
Меж тем два негодяя, одетых в офицерскую форму, держась в тени парковых деревьев, обогнули дом и оказались против парадного крыльца. На крыльце стояла, кутаясь в шаль, юная княжна.
– А хороша! – причмокнув губами и понизив голос до хриплого шепота, сказал Огинскому Синцов, любуясь в лунном свете фигуркою княжны. – И, верно, богата. Право, Огинский, твой кузен – резвый малый и знает, что делает.
– Надеюсь, поручик, что не позднее завтрашнего утра вы поубавите ему резвости, – так же тихо отвечал Огинский.
– Будьте покойны, – сказал Синцов. – Ежели не случится чуда, на рассвете ты, ротмистр, уж будешь проливать слезы над телом дорогого сородича. Гляди-ка, вот и он сам! Вот и говори после этого, что удача не с нами!
Последние его слова относились к молодому Огинскому, который вдруг появился на крыльце и, очевидно смущаясь, заговорил о чем-то с княжной.
– Стой тут, ротмистр, – сказал пану Кшиштофу Синцов, – и смотри в оба. Не дай ему, ежели что, пойти на мировую.
С этими словами он отступил назад и растворился в темноте. Огинский стал ждать, тщетно пытаясь уловить хотя бы слово из происходившего на крыльце разговора и даже не догадываясь о том, что в спину его, не прикрытую более железной кирасой, с дистанции не более пяти шагов смотрит дуло зажатого грязной, более похожей на звериную лапу рукой пистолета. Поколебавшись немного, Васька Смоляк опустил пистолет: как ни сладка была месть, раздавшийся в ночной тишине пистолетный выстрел переполошил бы солдат и уничтожил и без того призрачную надежду завладеть деньгами.
Синцов тем временем торопливо обогнул дом, вошел с заднего двора и, распахнув парадную дверь, явился на крыльце, где беседовали княжна Мария и Вацлав Огинский.
– Ба! Что за вид! Ну просто Ромео и Юлия! Корнет, не будь свиньей, дай старшему по званию побеседовать с красоткой! – закричал он, изобразив на своем усатом лице самую скабрезную улыбку.
Княжна вздрогнула от неожиданности этого грубого вмешательства. Огинский резко повернулся на каблуках и схватился правой рукой за эфес сабли. Отобразившаяся на его лице ярость была так велика, что Синцов невольно сделал шаг назад и тоже взялся за саблю, опасаясь немедленного, без всяких формальностей и переговоров, нападения. Он не был нисколько напуган, но желал лишь, чтобы затеянное им хладнокровное убийство имело пристойный вид состоявшейся в полном соответствии с кодексом чести дуэли. К тому же поручик побаивался, что старший Огинский, увидев, что дело сделано, в ту же минуту скроется в ночи вместе с причитающимися ему, поручику Синцову, деньгами.
– Вот и видно воспитание, – с холодной насмешкой сказал он, измеряя противника с головы до ног взглядом своих выкаченных бледно-голубых глаз. – Вас, поляков, верно, вовсе не учат манерам: только и знаете, что саблей махать и резаться на своих сеймах, как пьяные лавочники в кабаке.
– Не вам бы говорить о манерах, сударь, – сказал Огинский, – и не вам бы обсуждать поляков, о которых вы знаете только то, что болтают в столь любимых вами кабаках. Коли вы желаете учиться манерам, я охотно преподам вам такой урок. Сейчас не время для дуэлей, я говорил это и готов повторить, но после повторного оскорбления, нанесенного вами княжне Марии Андреевне, я вижу, что иного пути заставить вас соблюдать хотя бы видимость приличия не существует.
– Это вызов? – лениво и насмешливо спросил Синцов.
– Коли вы этого до сих пор не поняли, скажу прямо: точно так, я вызываю вас драться на саблях сию минуту, на этом самом месте!
– Господа… – попыталась вмешаться в ссору княжна, но на нее не обратили внимания.
– Тише, тише, петушок! – по-прежнему насмешливо проговорил Синцов. – Где тебе учить меня манерам, когда право выбора оружия принадлежит тому, кого вызвали! Хочешь драться – изволь, но не сейчас, а на рассвете, и не на саблях, а на пистолетах. Утром, как рассветет, посмотрим, кто кого обучит манерам! До утра тебе хватит времени одуматься и пожаловаться полковому командиру, чтоб он тебя опять защитил.
С каждым оскорблением, с каждым словом, уязвлявшим самолюбие корнета, Синцов чувствовал себя так, словно в кармане у него вдруг сама собой из ничего возникала сотня золотых. Это ощущение много прибавляло к тому удовольствию, которое он испытывал, язвя молодого Огинского.
В это время из тени парковых деревьев выступил и приблизился к крыльцу Кшиштоф Огинский. Делая вид, что только что подошел и не знает, в чем дело, он вмешался в разговор, осведомившись, о чем идет речь.
– Ах, да скажите хоть вы им! – в отчаянии воскликнула княжна, более не мечтавшая о том, чтобы два рыцаря дрались из-за нее на дуэли. – Они намерены драться из-за какого-то вздора, и совершенно не слушают меня, когда я говорю, что драться не надобно! Ведь они стреляться хотят! Так ведь можно нечаянно и до смерти убить! Вацлав, послушайте же меня! Я совершенно не чувствую себя оскорбленной и не желаю, чтобы вы стрелялись с поручиком! Я вам запрещаю, наконец!
– Позвольте, княжна, – галантно и вместе с тем отечески беря ее под локоток и увлекая в сторону от дуэлянтов, заговорил пан Кшиштоф, – девице вашего звания не пристало наблюдать подобные сцены. Мне понятны ваши чувства, но именно поэтому вам не следует здесь быть. Когда речь идет о дворянской чести, женщинам остается только уповать на милость небес; Мужчины же обязаны защищать свою честь и честь дам с оружием в руках. В конечном итоге, нам, мужчинам, приходится защищать свое право именоваться мужчинами. Будьте покойны, кузен, – продолжал он, обернувшись к Вацлаву, – я почту за великую честь быть вашим секундантом. Поручик, – обратился он к Синцову, – соблаговолите назвать имя вашего секунданта, чтобы мы могли обговорить условия дуэли.
– Вас найдут, – сказал Синцов и, поклонившись, отошел.
Через полчаса, когда все улеглось, и тишину заснувшего дома нарушали только шаги часовых и редкие удары копыт на конюшне, Кшиштоф Огинский снова встретился с Синцовым.
– Славно разыграно, – сказал он, передавая поручику длинный, туго набитый кожаный кошелек. – Вот ваши деньги, извольте пересчитать.
Синцов развязал шнурок и заглянул в кошелек, дабы убедиться, что внутри действительно золото. После этого он снова затянул шнурок и подбросил кошелек на ладони, проверяя его вес.
– Тысяча, – уверенно сказал он, – как одна копейка. Уж я-то знаю! Ступай, ротмистр, упражняйся перед зеркалом. Ладно ли будет, коли завтра над своим убитым кузеном ты будешь сиять, как масленый блин?
С этими словами он расстегнул мундир, сунул кошелек за пазуху и удалился, провожаемый сверкавшим в тени парковых деревьев злобным взглядом странных, не вполне человеческих глаз, которые смотрели с обезображенного страшным клеймом, обезноздренного и заросшего густым волосом лица.
Проводив Синцова, Кшиштоф Огинский вернулся в карточную, сбросил на пол лежавшие в придвинутом к горке с фарфором кресле седельные сумки, кое-как разместился, вытянув ноги в сапогах до середины комнаты, и забылся беспокойным сном.
Глава 4
Едва на востоке забрезжило утро, Вацлав Огинский, сопровождаемый своим кузеном Кшиштофом, который с удовольствием выполнял при нем роль секунданта, стараясь производить как можно меньше шума, выехал со двора и направился по боковой аллее в дальний, самый глухой и уединенный угол обширного парка, где было назначено стреляться.
О предстоявшей ему дуэли, которая могла и, по всему, должна была закончиться для него ранением, если не смертью, молодой Огинский почти не думал. Это была первая его дуэль, и сейчас, по прошествии короткой летней ночи, ссора с Синцовым и необходимость стрелять в него и самому подставляться род верный выстрел представлялись корнету неким театральным фарсом, где ему отводилась роль даже не участника, а всего лишь зрителя. Похоронное выражение, которое с огромным трудом удерживал на лице Кшиштоф Огинский, пропало даром: Вацлав не говорил с ним и почти вовсе не обращал на него внимания, озираясь по сторонам с печальной радостью узнавания. Молодой Огинский думал о княжне Марии Андреевне, сожалея о том, что не только не успел сделать ей признание, но даже и не попрощался. Княжна провела ночь в комнате больного дедушки и утром не вышла, что было, пожалуй, и лучше: кузен верно говорил, что женщинам не след вмешиваться в дела чести, происходящие между мужчинами.
Стреляться решено было на лужайке у пруда, который вскоре показался впереди большой лужей серого тумана. Лошади не спеша ступали по засыпанной гравием, уже заметно поросшей травой дорожке, на которой валялись сбитые недавней грозой и никем не убранные листья и целые сучья.
Выехав на лужайку, кузены увидели впереди под деревьями двух оседланных лошадей, подле которых прохаживались Синцов и его секундант Званский. Смуглое, с аккуратными черными усами лицо Званского было заспанным и недовольным: он не одобрял дуэли, из-за которой, к тому же, ему не дали хорошенько выспаться. Под мышкой он держал два одинаковых гусарских пистолета, взятых за неимением дуэльных. Синцов курил трубку и ответил на поклон своего противника лишь коротким кивком. На лице его было написано с трудом сдерживаемое нетерпение поскорее покончить с делом, и, прочтя это нетерпение, Вацлав Огинский вдруг со всей ясностью понял, что этот человек пришел сюда для того, чтобы его убить. Для него, Синцова, дуэль была делом привычным и едва ли не будничным, как визит к цирюльнику или портному.
Кузены спешились. Кшиштоф Огинский обменялся какими-то неслышными замечаниями со Званским, после чего оба приступили к выполнению своих печальных и вместе с тем торжественных обязанностей. Шагая широко и медленно, как два журавля, секунданты отмерили дистанцию и пометили барьер, воткнув в землю сабли на расстоянии десяти шагов одна от другой. Вацлав посмотрел на сабли и подумал, что они находятся почти рядом – так, что почти можно дотянуться рукой.
После этого все сошлись посередине лужайки. Соперники по очереди выбрали пистолеты. Званский, подавив нервный зевок, сердитым голосом проговорил:
– Господа, у вас есть последняя возможность для примирения. Согласны ли вы окончить это дело миром и пожать друг другу руки? Право, господа, – добавил он от себя, – какого черта вы затеяли в такую рань?
– О примирении не может быть и речи, – быстро сказал Вацлав, чтобы не подумали, будто ему страшно.
– Я выбью из этого мальчишки дурь, – проворчал Синцов.
– В таком случае, к барьеру, – быстро сказал Кшиштоф Огинский. – По моему сигналу начинайте сходиться.
Синцов в наброшенном на плечо ментике и Вацлав Огинский в своей юнкерской куртке разошлись по местам. Старший Огинский махнул платком, принадлежавшим убитому им ротмистру Мюллеру, и отошел в сторону, к мрачно стоявшему под старой березой Званскому.
Противники пошли навстречу друг другу, шурша сапогами по росистой траве и медленно поднимая пистолеты. Не одобрявший дуэли Званский вздохнул и поморщился в ожидании выстрелов.
Противники все медлили стрелять, продолжая сокращать дистанцию. Вдруг, словно сговорившись, оба почти одновременно спустили курки. Два белых дымка взлетели над лужайкой, и сдвоенное эхо двух выстрелов шарахнулось между деревьев. Где-то закричала вспугнутая резким звуком ворона. Синцов взмахнул обеими руками, будто собираясь взлететь, и опрокинулся навзничь, выронив пистолет. Кшиштоф Огинский, не веря себе, смотрел на продолжавшего стоять на месте с вытянутой вперед рукой Вацлава, но тут и второй дуэлянт, мягко подогнув колени, повалился в траву.
– Вот так штука, – растерянно сказал Званский. – Дуплетом, а? Раз – и обоих нету!
Не отвечая ему, Кшиштоф Огинский торопливо направился к лежавшему на земле кузену, всей душой надеясь, что он мертв. Званский тоже заторопился туда, где лицом к небу лежал Синцов. Не успел он пройти и половины, как поручик зашевелился и с трудом сел, прижимая ладонь к левому боку. Лицо его было перекошено от боли, но он, без сомнения, даже не думал умирать.
– Ты ранен? – спросил у него подбежавший Званский. – Тяжело?
– Чепуха, – морщась и растирая бок, отвечал Синцов. – Это не рана, а контузия, притом легкая.
Это была правда: выпущенная Вацлавом Огинским пуля угодила в спрятанный поручиком за пазуху и прикрытый полой ментика туго набитый кошелек, так что Синцов отделался легким ушибом там, где, не будь кошелька, его неминуемо ждала бы весьма мучительная и опасная для жизни рана.
– А что мальчишка? – спросил Синцов, с помощью Званского поднимаясь на ноги.
– Ротмистр, – крикнул через лужайку Званский, – что корнет, жив ли?
Старший Огинский повернулся к нему и развел руками.
– Кажется, еще дышит, – с прежней похоронной миной сказал он, – но не жилец. Пуля в голову. Ему не протянуть и пяти минут.
Синцов, услышав это, сплюнул в траву и стал набивать трубку.
Званский открыл рот, намереваясь сказать, что раненого все равно необходимо доставить в дом, но тут со стороны княжеского дворца, слегка приглушенная деревьями парка, донеслась сначала вялая, а потом все более оживленная ружейная пальба. Вскоре стали слышны крики и лязг железа о железо, словно возле дома шла нешуточная рубка.
– Что за черт? – выронив трубку и схватившись за саблю, удивился Синцов. – Неужто французы?
Кшиштоф Огинский уже бежал к своей высокой кирасирской лошади, путаясь шпорами в траве. Вскочив в седло, он схватил висевший у луки карабин и, сорвав с него чехол, выпалил по конным фигурам, что появились в аллее. Всадники были одеты в белые колеты и золоченые, сверкающие самоварным блеском кирасы и шлемы с красными петушиными гребнями. Эполеты на их плечах тоже были красными. Синцов узнал во всадниках французских карабинеров и, ругаясь во все горло, бросился к лошади.
Паля на скаку из карабинов и вращая в воздухе блестящими палашами, карабинеры выскочили на лужайку. Их было человек пять. Званский выстрелил по ним из пистолета и свалил одного, но тут же сам упал, настигнутый пулей.
Кшиштоф Огинский куда-то пропал.
– Сбежал, польский пес! – воскликнул Синцов, выхватывая из седельной кобуры пистолет и сбивая с седла близко подскакавшего карабинера.
Обнажив саблю, он обменялся ударами с другим карабинером, срубил его и с громким криком устремился навстречу оставшимся двоим, рассчитывая пробиться к дому. Французы дрогнули и, поворотив коней, нырнули в гущу парка. Из аллеи между тем показалось еще несколько всадников, и разгоряченный схваткой Синцов не сразу признал в них своих гусар.
– Что за дьявол? – закричал он им, вытирая саблю о гриву лошади и с лязгом бросая ее в ножны. – Что там у вас?
– Француз, ваше благородие! – возбужденно крикнул подскакавший унтер-офицер – босой, без кивера, на неоседланной лошади, в грязной нательной рубахе и рейтузах. – Видно, передовой разъезд. Отбили супостата!
– Надолго ли? Вот черт! Вели седлать! Уходим! Раненых грузите!
Через полчаса короткая колонна гусар, гремя копытами и грохоча возками, быстрым аллюром покинула имение Вязмитиновых, уходя на восток, к Москве. Разбуженная от короткого тревожного сна завязавшейся во дворе перестрелкой княжна Мария, простоволосая, выбежала на крыльцо, но увидела лишь удалявшийся хвост колонны, над которой в поднятой копытами пыли колыхалось взятое в полотняный чехол полковое знамя.
На изрытом гравии двора остался лежать, неловко подвернув ноги и разбросав по сторонам руки в белых с раструбами перчатках, убитый выстрелом в упор французский карабинер в блестящей золоченой кирасе. Белый колет его был запачкан кровью, сверкающая каска сбилась на лицо, так что княжне видны были только густые, намокшие от крови желтые усы и щетинистый квадратный подбородок. Правая рука убитого до сих пор сжимала обломок палаша, а левая глубоко зарылась пальцами в гравий. Шитый золотом широкий синий ремень портупеи соскользнул с плеча, а начищенные сапоги ненужно и страшно блестели в лучах восходящего солнца.
– Что ж это? – прошептала княжна, не в силах оторваться от страшного зрелища. – Ушли, совсем ушли! Мертвый перед крыльцом…
“Ежели бы это было в романе, – подумала она, – я бы сию минуту непременно упала в обморок, а очнувшись, нашла бы себя в чистой постели и в полной безопасности под охраной храброго рыцаря. А теперь что же? Теперь надо как-то жить, а как это – как-то? Ничего не знаю, ничего… Надо же – уехали!”
Сумбурный поток ее мыслей был прерван появлением Архипыча, который вышел из дома с какой-то рогожею в руках и, подойдя к убитому, накрыл его с головой.
– Уехать бы вам хорошо, ваше сиятельство, – сказал он княжне, тряся седой головой, – да только теперь что же?.. Теперь, мнится мне, поздно.
– Куда же мне ехать от дедушки, Архипыч, миленький? – сказала княжна со слезами в голосе. – Как же мы теперь?
Архипыч ничего не ответил и, вздыхая, скрылся в доме.
Немного помедлив, княжна последовала за ним. Если бы она могла знать, что на лужайке у пруда, истекая кровью, лежит между убитыми раненый в голову Вацлав Огинский, она непременно отыскала бы способ доставить его в дом. Но княжне ничего не было известно об этом. Она пребывала в уверенности, что внезапное нападение французского разъезда нарушило планы дуэлянтов, и что корнет Огинский покинул имение вместе с остатками своего геройского полка.
Между тем живой свидетель дуэли, о присутствии которого вблизи пруда никто не подозревал, раздвинув кусты, осторожно выбрался на открытое место. Топор и пистолет были у него в руках, а на обезображенном, косматом полузверином лице отражалась готовность в любую секунду пустить эти смертоносные орудия в дело. С чуткостью дикого зверя вслушиваясь в тишину и поминутно оглядываясь на все четыре стороны, Васька Смоляк двинулся по лужайке, переходя от одного убитого к другому и обирая их с тщательностью огородника, снимающего урожай. Кольца, перстни, карманные деньги, медальоны, нательные кресты – одним словом, все, что могло представлять какую-то ценность и при этом не было слишком громоздким, отправлялось в рваную котомку мародера.
Раненый Званский при его приближении поднял голову и слабо застонал, клокоча простреленной грудью. Смоляк с ухмылкой махнул топором, и стон оборвался. Обобрав Званского, мародер приблизился к лежавшему далее всех от него Вацлаву Огинскому.
Здесь он остановился и, казалось, на минуту задумался. Лежавший в траве гусар был примерно одинакового с ним роста. Смоляк приподнял полу своей ветхой рубахи, как столичная модница поднимает подол нового платья, любуясь узорчатыми переливами ткани. Если бы Смоляк знал грамоту, ему в голову непременно пришло бы, что сквозь эту рубаху можно читать газету. Но грамоте Васька Смоляк был не обучен, и потому подумал просто, что рубаха никуда не годится.
Приняв решение. Смоляк отложил в сторону пистолет и топор, стащил через голову лямку котомки и принялся торопливо, обрывая пуговицы, обдирать с корнета мундир. Во время этой процедуры Васька заметил, что гусар, которого он полагал убитым, еще как будто дышит, но добивать его не стал: рана на лбу Огинского имела самый серьезный вид, так что корнет, несомненно, должен был в ближайшее время умереть и без посторонней помощи.
Сапоги корнета не налезли на грязные, растоптанные ступни Смоляка, и каторжник, чтобы не пропадало добро, затолкал их в свою котомку. Закончив переодевание и натянув на ноги старые разбитые опорки, нелепая сгорбленная фигура в гусарской юнкерской форме и с косматой звериной головой без единого звука растворилась в царившем под деревьями старого парка полумраке.
Вацлав Огинский пришел в себя спустя два с лишком часа. Ему повезло: он спустил курок пистолета на долю секунды раньше Синцова. Резкий звук выстрела, прозвучавшего в тот момент, когда поручик сам уже начал тянуть за собачку своего пистолета, слегка смутил его и заставил руку Синцова едва заметно дрогнуть, так что пуля, которая должна была пробить Огинскому голову, лишь оцарапала его, скользнув вдоль черепа. Из-за обилия крови, выступившей из длинного рваного шрама, протянувшегося ото лба к виску, рана выглядела много опаснее, чем была на самом деле; казалось, что пуля разворотила корнету полголовы, тогда как в действительности дело обошлось, по сути, широкой ссадиной и контузией.
Страшный вид этой кровавой раны, конечно же, не смог бы ввести в заблуждение Синцова или Званского, как и любого обстрелянного боевого офицера на их месте. Но более привычный к нанесению ударов из-за угла, чем к открытым военным действиям, Кшиштоф Огинский обманулся обилием крови и бледными рваными краями шрама, решив, что кузена можно смело сбросить со счетов. Торопившийся поскорее завершить свое черное дело Васька Смоляк и вовсе бросил на окровавленную голову корнета лишь беглый взгляд. Раненый не препятствовал ему, лежал смирно и даже не стонал, а большего Ваське Смоляку от него и не требовалось.
Именно благодаря такому редкому стечению обстоятельств Вацлав Огинский остался лежать на лужайке у пруда вместо того, чтобы быть уложенным в возок с ранеными или, напротив, добитым топором мародера, как это случилось с подстреленным французами Званским.
Придя в себя и попытавшись открыть глаза, Вацлав обнаружил, что не может этого сделать. Голова у него болела с чудовищной, путающей силой, и в полубреду его сознание почему-то связало эту разламывающую голову боль с невозможностью разлепить веки. Корнету казалось, что, стоит ему открыть глаза, как боль тут же пройдет; в следующее мгновение он уже думал, что, если бы эта изнуряющая головная боль хоть ненадолго отступила, ему немедленно удалось бы открыть глаза.
В течение почти целой минуты, показавшейся Вацлаву вечностью, мысли его, как белка в колесе, бегали по этому замкнутому кругу, с каждым оборотом набирая скорость и приближая его к безумию паники. Поняв это, он заставил себя успокоиться и попытался понять, где он находится и что с ним произошло.
Не сразу вспомнилось ему, что он стрелялся на дуэли с Синцовым. Судя по нынешнему его состоянию, результат дуэли был ясен: Синцов, как и следовало ожидать, застрелил его наповал и, вероятно, в голову, так как иначе она не болела бы так сильно и неотступно.
Будто наяву, увидел он свои последние минуты перед тем, как все вокруг него погрузилось во тьму: туман над прудом, росистую траву под ногами, белый платок в руке кузена, встающее по левую руку над кронами парковых деревьев солнце и фигуру неторопливо идущего навстречу Синцова. Потом ему вспомнилось заслонившее весь мир черное жерло пистолета, глянувшее вдруг прямо в глаза и, казалось, в самую душу; вспомнился собственный испуг при виде этой черной дыры в небытие – испуг, который заставил его торопливо спустить курок.







