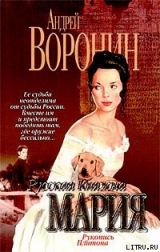
Текст книги "Рукопись Платона"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Увы, – смущенно вставил хозяин, жестом предлагая гостю присесть, – я не тот Понятовский, а всего лишь его однофамилец.
– Это неважно, – легкомысленно и не слишком учтиво ответил Хесс, усаживаясь на придвинутый слугою стул и плотоядно оглядывая уставленный всякой снедью стол. – Право, неважно, любезный герр Станислав, тем более что тот Понятовский давно умер, а все остальные, увы, и впрямь не те. И потом, что это значит – не тот? Вы – это вы, и вам вовсе незачем быть кем-то другим. Я, к примеру, тоже не тот Хесс, о котором в последнее время так много говорят, а всего-навсего его дальний родственник, но я – это я, и меня такое положение вещей устраивает.
– Однако, я вижу, лавры прославленного родственника не дают тебе покоя, – вклинившись в поток его болтовни, заметил Огинский и в подтверждение своих слов кивнул в сторону эскизной папки, что стояла у дальней стены.
– Чепуха, – сказал Хесс. Понятовский налил ему вина, он благодарно кивнул и надолго припал к бокалу, глотая так жадно и гулко, будто вернулся из пустыни. – Пустяк, – продолжал он, утирая салфеткою пухлые красные губы и ловко поддевая на вилку мускулистую индюшачью ногу. – Какие там лавры! Я когда-то обучался рисованию, вот мой кузен и попросил меня сделать для него кое-какие наброски. Он рассчитывает получить от русского правительства большой заказ. Вот и готовится заранее – делает эскизы, зарисовки местности. Работы много, так отчего бы мне ему не помочь?
– Как это любопытно! – с энтузиазмом воскликнул Понятовский. – Какая честь для меня! Я никогда не видел настоящего живописца, если не считать того, который малевал вывеску для постоялого двора.
Вацлав вспомнил вывеску, и его слегка передернуло. Он поспешно отпил из своего бокала, с интересом натуралиста наблюдая за тем, как Хесс обгладывает индюшку.
– В самом деле, любопытно, – сказал он. – Честно говоря, я как-то не ожидал увидеть тебя в роли художника. Ведь ты, помнится, обучался в иезуитском коллегиуме и мечтал сделаться кардиналом!
– Пфуй! – пренебрежительно фыркнул Хесс. – Ну, сам посуди, какой из меня кардинал? Где ты видел кардинала-немца?
– Так ведь немцы обыкновенно лютеране, – заметил Вацлав, доставая портсигар.
– Вот именно, лютеране, один я – белая ворона. Я ни о чем не жалею, Огинский, но, согласись, начинать карьеру, не имея никакой надежды продвинуться далее какого-нибудь захолустного прихода, было бы попросту неразумно. Служить Господу можно по-разному. К тому же я вовремя понял, что слишком люблю мирские удовольствия. Поздравляю вас, герр Станислав, – обратился он к Понятовскому, – вам повезло с поваром, а ваше вино заслуживает отдельного разговора. Да что там разговора – поэмы! М-м-м!.. – промычал он, залпом осушая наполненный радушным хозяином бокал. – Видите? Ну, какой из меня кардинал?
– Да уж, – сказал Вацлав. – Но, помнится, когда я говорил тебе то же самое в Кракове, ты заявил, что я ничего не понимаю и что служение Господу – твое призвание.
– Ты был прав, а я ошибался, – легко признал Хесс. – Это свойственно человеку, и я где-то слышал, что главное – уметь признавать свои ошибки и вовремя их исправлять.
Вацлав нагнулся к свече и раскурил сигару, с интересом разглядывая Хесса. Да, он и впрямь почти не изменился, только возле губ виднелись едва заметные жесткие складочки, которых раньше не было, да что-то новое появилось в глазах – непонятно, что именно. Впрочем, за четыре года утекло много воды, и Огинский подозревал, что сам изменился гораздо больше, чем Хесс.
– Но ты не ответил на мой вопрос, – не переставая жевать, проговорил немец. – Каким ветром тебя занесло в эти края? Путешествуешь? Я слышал, ты был на военной службе и даже как будто воевал на стороне победителя. Майн готт! Вот это и есть самое важное – уметь выбирать нужную сторону. Одни выбирают умом, другие – сердцем, но выбор – всегда выбор, какой бы орган ни участвовал в принятии решения, хоть селезенка... Вы согласны со мной, герр Понятовский? Я так и думал, благодарю вас... Вот я и говорю, друг мой, что тебе повезло сделать правильный выбор.
– В последнее время я начинаю в этом сильно сомневаться, – мрачнея, сказал Вацлав и окутался сигарным дымом.
– Что? Как? – всполошился Хесс, но тут же сообразил, о чем идет речь, и горестно закивал головой. – Майн готт! Я понял. Я совсем забыл, что вы оба – поляки. Ты говоришь об этом царском указе, верно? Доннерветтер! Да, это неприятно, но, в конце концов, для таких высокородных господ, как ты и любезный герр Понятовский, сия процедура наверняка превратилась в пустую формальность. Ни за что не поверю, чтобы у кого-то могли возникнуть сомнения в древности рода Огинских!
– Формальность, – дернув щекой, повторил Вацлав. – Да, ты прав, но какая унизительная! Давай оставим этот разговор, Пауль, он мне неприятен. Я еду в Петербург, дабы забрать у тамошних крючкотворов некоторые фамильные документы. Пся крэв! – неожиданно вспылил он. – Эти шитые золотом собаки имели наглость усомниться в подлинности наших родовых реликвий! Клянусь, если мы немедля не переменим тему, то к моменту прибытия в Петербург я буду готов кого-нибудь зарубить. И непременно зарублю, черт бы меня побрал!
Он заметил, как побледнел и пугливо отшатнулся в тень Понятовский, и взял себя в руки: то, что было тяжело и унизительно ему, представителю одного из древнейших шляхетских родов, наверняка казалось во сто крат тяжелее худородному и небогатому пану Станиславу.
– Простите, пан Станислав, – сказал он, беспощадно грызя кончик сигары. – Прости и ты, Пауль. Боюсь, я несколько забылся и наговорил лишнего.
– Главное, чтобы ты не забылся в Петербурге, – неожиданно становясь серьезным, заметил Хесс. – Доннерветтер, им ведь только того и надо! Такие, как ты – молодые, отважные, родовитые, сказочно богатые и всеми уважаемые, – всегда опасны для властей, и власти только ждут повода, чтобы упрятать их подальше. Так не давай им этого повода! Майн готт, как порою несправедлива жизнь!
– Несправедлива не жизнь, а люди, – возразил Вацлав. – Однако для воспитанника отцов-иезуитов ты ведешь чересчур смелые речи. Не забывай, мы находимся на территории империи. Здесь и у стен могут быть уши.
– Ясновельможный пан напрасно так говорит, – обиделся Понятовский. – Я целиком на вашей стороне.
– Простите великодушно, пан Станислав, – сказал Вацлав, – я вовсе не имел в виду вас. И потом, что значит – на нашей стороне? Здесь никто не намерен составлять политический заговор.
– И, быть может, напрасно, – тихо заметил Хесс.
Огинский посмотрел на него с легким недоумением и пожал плечами.
– Быть может, – сказал он. – Но я еще не готов к такому разговору, да и не знаю, буду ли готов когда-нибудь. Повторяю, Пауль, я не желаю об этом говорить. Неужто мы не можем найти иной, более занимательной темы для застольной беседы?
– Изволь, – сдался Хесс. – Так ты, выходит, едешь в Петербург? И, верно, через Псков...
– Верно, – сказал Вацлав. – Так получится короче, а у меня нет ни малейшего желания затягивать это путешествие.
– Жаль. Честно говоря, узнав, что ты здесь, я обрадовался. Мне показалось, что я обрел прекрасного попутчика. Что ж, видно, не судьба. Я еду в Смоленск, а это много южнее Пскова. Скоро наши дороги разойдутся – увы, увы! Если, конечно, ты не захочешь сделать небольшой крюк просто для поддержания компании, – добавил он с хитрецой, лукаво улыбаясь Вацлаву.
Огинский помедлил с ответом. Он положил в пепельницу потухшую сигару с изгрызенным концом и сразу же закурил новую, отметив про себя, что, кажется, обзавелся новой дурной привычкой – жевать сигары. Первым его побуждением было ответить на предложение Хесса решительным отказом. В самом деле, чего ради ему давать такой крюк? Вряд ли княжна Вязмитинова будет рада его видеть, да и что может принести эта встреча, кроме разочарования и боли?
Вацлаву вспомнился драгунский полковник Шелепов, сложением и манерами напоминавший огромного седого медведя; вспомнилось и его обещание вызвать на дуэль всякого, кому вздумается обидеть княжну. Разумеется, возможная дуэль нисколько не страшила Вацлава, хотя ему было трудно представить, как это будет выглядеть при такой большой разнице в возрасте и том уважении, которое он испытывал к полковнику. Да и какой смысл в этой дуэли? Не Вацлав был виновником разрыва и, уж конечно, не княжна. Увы, жизнь складывалась так, что те, кого он уважал и любил всем сердцем, постепенно отдалялись от него, волею судьбы переходя из разряда друзей и любимых в разряд чужих и посторонних.
Он прикрыл глаза и увидел Смоленск – горящие стены, рушащиеся стропила, крики людей и животных, грохот орудий, треск огня, лязг железа и свинцовый град, сыплющийся с затянутого черным дымом злого неба. На этом зловещем фоне вдруг проступило лицо княжны Марии Андреевны; Вацлаву почудилось, что княжна глядит на него с затаенным упреком, и он внутренне содрогнулся, внезапно осознав гибельную нелепость своего поведения: как мог он размышлять о политике и нанесенном ему оскорблении, когда речь шла о том, чтобы увидеться с Марией Андреевной?! Как мог он без малого два года прятаться за пустыми глупыми письмами, трусливо избегая объяснения? Политика... Да при чем тут, дьявол, политика?!
Открыв глаза, Вацлав первым делом увидел Хесса, который смотрел на него со странным выражением холодного интереса – так примерно смотрит натуралист на последние судороги пришпиленной бабочки. Встретившись глазами с Огинским, немец моргнул, после чего взгляд его вновь сделался теплым и участливым – настолько теплым и участливым, что Вацлав принял странное выражение его глаз за плод собственной фантазии.
– А что ты намерен рисовать в Смоленске? – спросил он, дабы окончательно развеять неприятное впечатление.
– В основном, кремль и переправу через Днепр, – отвечал немец, с удовольствием возвращаясь к вину и закускам. – Кое-какие пейзажи, виды города с разных точек... Словом, кузен Петер составил для меня целый список, и я очень боюсь не оправдать его доверия. – Он вдруг расхохотался, от полноты чувств стуча черенком вилки по дубовой столешнице. – Вообразите себе, господа, этот чудак хотел, чтобы я сделал для него несколько портретов!
– Что же здесь смешного, ясновельможный пан Хесс? – осторожно удивился Понятовский. – Признаться, я сам хотел просить вас о том же. Я понимаю, что вы торопитесь, но, может быть, на обратном пути...
Его прервал новый взрыв истинно немецкого хохота. Хесс смеялся от души – так, что даже слезы навернулись на глаза и побагровела лысина.
– Майн готт! – простонал он, утирая слезы. – Любезный герр Понятовский, дело вовсе не в спешке! Просто я очень хорошо осознаю границы своих возможностей и вовсе не хочу, чтобы вы, увидев свой портрет, написанный мною, сочли себя оскорбленным и проткнули меня своей шпагой или прострелили мою плешивую голову из пистолета. Я не художник, а всего-навсего родственник художника и его ученик – увы, ученик недостойный и ленивый.
Он поперхнулся куском дичи и мучительно закашлялся, выкатив глаза и сделавшись багрово-синим, как спелая слива. Вацлав, которого два года службы в гусарах благополучно излечили от избытка утонченных манер, привстал со стула и, перегнувшись через стол, несколько раз сильно ударил немца ладонью по жирной спине.
– Благодарю, – просипел Хесс, отдуваясь и утирая слезы салфеткой. Понятовский быстро наполнил его бокал, и немец выпил вино, как воду, в три огромных глотка. – О, благодарю вас, господа. Еще немного, и мой кузен никогда не дождался бы своих набросков... Ха-ха-ха!
Он смеялся так заразительно, что даже Огинский, которому его веселье казалось не вполне понятным, не мог удержаться от улыбки. Что же до хозяина, то он вторил Хессу, всплескивая руками и смущенно прикрываясь салфеткой, очень довольный тем, что все закончилось благополучно.
– А знаешь, Пауль, – задумчиво произнес Огинский, с трудом дождавшись конца этого бурного веселья, – я, пожалуй, переменю решение и поеду с тобой через Смоленск. Надеюсь, ты не откажешься воспользоваться моим экипажем.
– Майн готт! – воскликнул немец с таким энтузиазмом, что Вацлав слегка испугался, как бы он опять не начал хохотать. – Майн готт, вот так удача! Да о лучшем я просто не мог мечтать! Мало того что в твоем лице я обретаю приятного попутчика, так я еще и сэкономлю на проезде! Это надо отметить. Трактирщик, вина! – закричал он, явно забыв, где находится, но тут же спохватился и рассыпался перед паном Понятовским в извинениях, которые были учтиво приняты.
Спать они улеглись уже за полночь, а после полудня явился кузнец – карета Вацлава была готова. Огинский расплатился и, тепло распрощавшись с хлебосольным хозяином, тронулся в путь в компании веселого немца.
Глава 4
Большие и маленькие случайности, из коих складывается человеческая жизнь, переплетаются порою так замысловато и взаимодействуют друг с другом так хитро, что людям в этом видится проявление некой высшей воли. Некоторые называют это промыслом Божьим, иные – роком или судьбою, однако все сходятся в одном: бывает так, что случайная встреча, невзначай оброненное словцо или, к примеру, рессора, лопнувшая именно сейчас и именно здесь, становится причиной удивительных событий. Нет такого бедствия, будь то пожар в крестьянской избе или крушение великой империи, в самой основе коего не лежал бы какой-нибудь пустяк – безделица, на которую никто не обратил внимания. Позже, когда катастрофа уже произошла, изба сгорела, а империя рухнула, докопаться до первопричины сего бедствия бывает весьма затруднительно, а чаще всего невозможно.
Если бы отец Вацлава Огинского не захворал и поехал в Петербург сам, как собирался вначале, Вацлав остался бы дома; если бы он остался дома, у него не сломалась бы карета. Если бы карета сломалась раньше или позже, он не оказался бы в гостях у пана Понятовского и не встретился бы там с веселым тевтоном. Если бы за столом было выпито немного меньше вина и разговор пошел по иному руслу – словом, если бы хоть один из тысячи пустяков повернулся не так, а чуточку иначе, Вацлав Огинский ни за что не оказался бы в Смоленске в тот самый день, когда княжна Мария Андреевна Вязмитинова осматривала свой новый городской дом.
Мария Андреевна покидала город в состоянии деловитой озабоченности. Дела эти, даже самые сложные, не вызывали у нее растерянности и испуга – она привыкла к самостоятельности и управлялась со своими имениями на удивление ловко. Теперь она окончательно поняла простую истину: ежели ты делаешь дело, то результат твоей работы зависит только от тебя. Сделаешь хорошо – будет хорошо, сделаешь дурно – дурно и получится. Посему голова у княжны была забита множеством расчетов, производившихся одновременно: шпалеры, мебель, обивка, оконные стекла, зеркала, посуда, гвозди, работники, свечи – словом, все, без чего дом не дом, а просто кирпичная коробка, подвергалось сейчас учету и оценке. Процесс этот, знакомый каждой настоящей хозяйке, настолько увлек княжну, что она не заметила, как ее карета миновала городскую заставу и выкатилась в чистое поле.
По всему выходило, что княжне придется на время переехать из деревни в город, чтобы самолично руководить отделкой дома, проверять счета и спорить с вороватыми приказчиками из мануфактурных лабазов. Перспектива эта не вызывала у нее энтузиазма; впрочем, хозяйство в ее загородных имениях давно было отлажено, как швейцарские часы, и не требовало ее постоянного присутствия. Этого нельзя было сказать о ее смоленском доме, который пока что представлял собою пустую коробку, красивую снаружи и совершенно безликую внутри. «Так тому и быть, – решила Мария Андреевна. – Уж коли я затеяла эту стройку, так надобно закончить ее как подобает, чтобы не стыдно было гостей принять».
Красный шар закатного солнца медленно садился у нее за спиной, и, когда дорога сворачивала, огибая очередной пригорок, косые лучи ударяли то в правое, то в левое окошко кареты, золотя осевшую на стеклах дорожную пыль. На вершине одного из пригорков княжна зачем-то обернулась и через запыленное заднее окошко увидела какой-то экипаж, ехавший далеко позади в одном с нею направлении. Отсюда он казался черной букашкой, ползущей по медной холмистой равнине. Марии Андреевне даже не удалось разобрать, что это такое – помещичья коляска или крестьянская подвода. Она тут же забыла о незнакомом экипаже, снова погрузившись в расчеты и планы. Ей подумалось, что нужно сыскать хорошего живописца и попросить его сделать увеличенную копию с портрета князя Александра Николаевича. Мария Андреевна придумала повесить большую, во весь рост, копию портрета в прихожей городского дома как раз напротив парадного входа, где обыкновенно вешают зеркало, с тем, чтобы всякий, кто войдет в дом, сразу же понимал, куда он пришел и какие здесь заведены порядки.
«Да, – решила она, – это я здорово придумала. Только где же его взять, хорошего живописца? Они все нынче в Петербург подались, с генералов парадные портреты писать. Ну, да ничего. Бог даст, что-нибудь подвернется. Главное – не спешить, набраться терпения, и тогда все сбудется».
Дорога между тем нырнула в лес, и горевший на пыльных стеклах отблеск закатного солнца погас, словно дневное светило кто-то задул. Верхушки сосен все еще бронзовели в лучах заката, но внизу, на дороге, царил коричневый полумрак. Мария Андреевна слышала, как покрикивает, торопя коней, и щелкает кнутом кучер, спешащий засветло попасть домой. Княжна отчасти разделяла его нетерпение: долгий, полный забот и городской суеты день изрядно ее утомил, и лишь теперь она вспомнила, что за всеми своими хлопотами как-то забыла пообедать.
Вечером пыли стало меньше, или это только казалось из-за того, что едкие клубы не были освещены солнцем и оттого сделались невидимыми. Зато на смену пыли пришла мошкара, которая так и норовила с назойливым звоном залететь в открытое окно кареты. Ей, мошкаре, было все равно, кого кусать – лошадей, кучера или высокородную княжну, так что Марии Андреевне пришлось снова поднять стекло.
Между тем возле моста, под которым утром прятались «их благородие» Николай Иванович и бородатый Ерема, княжну поджидала засада. Ерема, как ему и было велено, привел с собой троих мужиков. Вместе с ним и атаманом получилось пятеро – вполне достаточное количество, чтобы справиться с едущей без охраны хрупкой девицею. Бывший дворянин и гусарский поручик, а ныне беглый каторжник Николай Иванович Хрунов, однако, полагал, что и пятерых здоровых мужчин мало для выполнения поставленной задачи: ему уже доводилось сталкиваться с княжной Вязмитиновой, и он относился к молодой хозяйке Вязмитинова с некоторой опаской – она умела преподносить сюрпризы.
Все пятеро сидели на траве в окружении густого кустарника, били комаров и негромко переговаривались, поджидая добычу. Разбойники были спокойны, во всем полагаясь на своего атамана; последний, напротив, проявлял признаки волнения, не зная наверняка, поедет ли княжна сегодня из города обратно в имение и если поедет, то когда именно. Ожидание тяготило его; то и дело Хрунов вскакивал с земли и принимался мерить шагами крохотную поляну, бросая раздраженные взгляды на своих подручных, которые с тупым безразличием сносили затянувшееся бездействие. Время от времени атаман разбойничьей ватаги закуривал сигарку, чтобы отогнать надоедливых комаров, но тут же ее тушил, опасаясь, что дым выдаст их присутствие. По этой же причине он запретил своим людям разводить костер; собственно, по причине летнего тепла нужды в огне не чувствовалось, но к вечеру трава начала потеть росой, и сидеть на ней стало неприятно.
Оседланные и взнузданные лошади стояли в стороне, пощипывая траву и листья. Порой какая-нибудь из них начинала, звеня уздечкой, отчаянно мотать головой в безуспешной попытке разогнать мошкару. Повсюду, куда ни глянь, тускло поблескивало оружие; бородатый Ерема, поджав под себя ноги, от безделья строгал палашом толстую березовую ветку. Приглядевшись, Хрунов увидел, что тот мастерит топорище, и поинтересовался, на кой дьявол оно ему понадобилось.
– А так, – не прерывая своего занятия, пожал плечами бородач, – скуки ради. Ну и, опять же, привычка. А чего еще делать-то? Ложку бы вырезать, так инструмент уж больно несподручный.
Инструмент и впрямь был несподручный: тяжелый прямой палаш с закругленным концом менее всего подходил для резьбы по дереву.
Глупое, совершенно бесполезное и ненужное дело, которым занимался Ерема, неожиданно вызвало в душе Хрунова прилив бешенства. Ему захотелось поддать недоделанное топорище ногой, чтобы оно, кувыркаясь, улетело в кусты, а после съездить Ереме по уху кулаком, а лучше все тем же сапогом, да так, чтобы мозги через другое ухо вылетели. Нашел себе развлечение, болван...
Он вынул из кармана венгерки затушенную сигарку, издающую отвратительный запах, резким движением сунул ее в зубы и только отыскал в другом кармане спички, как со стороны дороги долетел приглушенный тяжелый топот лошадиных копыт, гром колес и мерное поскрипывание рессор.
Хрунов быстро вернул сигарку в карман и сделал знак своим людям. Через минуту все уже были в седлах и стояли на заранее обозначенных местах, напоминая охотников, притаившихся в ожидании зверя.
И зверь появился.
Запряженная парой кровных рысаков карета с княжеским гербом на дверце, гремя и тускло поблескивая лакированными боками, выскочила из-за поворота и устремилась к мосту. Кучер в шитой золотом ливрее сидел на козлах, взмахивая кнутом и крича на лошадей страшным голосом. Лошади задирали точеные головы, раздували ноздри и скалили зубы, выбивая копытами частую барабанную дробь. Видно было, что княжна торопится, не желая ехать через лес в темноте; видно было также, что она чувствует себя полновластной хозяйкой округи и ничего не боится, поскольку при ней не было не только охраны, но даже лакея на запятках. Что ж, один раз ей повезло перехитрить поручика Хрунова, но теперь пробил час расплаты. Хрунов долго ждал этого дня и теперь, когда долгожданная минута приблизилась, вдруг ощутил спокойную уверенность в том, что все пройдет именно так, как было задумано. Проклятая девчонка сперва заплатит выкуп за свою драгоценную шкуру, а потом, разумеется, умрет, и только от нее будет зависеть, какою смертью.
Он тронул шпорами бока жеребца, выехал на дорогу и натянул поводья, останавливая лошадь. В результате этого маневра выезд с моста оказался перекрытым. Кучер вовремя заметил возникшее на пути кареты препятствие; прозрачные летние сумерки позволили ему разглядеть всадника и убедиться в том, что он не собирается освобождать проезд. Крича во всю глотку, кучер откинулся назад всем телом, натягивая поводья. Одновременно с этим он вцепился в рычаг тормоза; поднялась пыль скрыв карету, которая начала понемногу замедлять ход и остановилась, как и рассчитывал Хрунов, прямо на мосту, откуда некуда было деваться.
Чтобы кучер сдуру не наделал глупостей, Хрунов вынул из-за пояса пистолет и направил ему в лоб. Кучер, здоровенный детина с пшеничными усами и любовно расчесанной на пробор бородищей, уронил вожжи и растерянно приподнялся на козлах, будучи не в силах понять, что за напасть свалилась на его голову.
Из густых зарослей бузины над речкой, треща сучьями и вопя, как голодные демоны, вылетели четверо всадников. Впереди всех, неуклюже подпрыгивая на спине косматой деревенской лошаденки, скакал Ерема. Пролетев мимо кареты, он прямо на скаку сиганул с седла на козлы. В этом головоломном прыжке не было никакой нужды, но Ерема любил делать дела лихо, рисково и с изрядной долей рисовки. Кучер, который к этому моменту уже слегка оправился от испуга, храбро встретил обрушившуюся на него рычащую образину кулаками и кнутом. Оба противника обладали богатырским телосложением, и, когда они сцепились на козлах, карета закачалась, как лодка на морской волне. В такой ситуации длинный кирасирский палаш, которым был вооружен разбойник, оказался бесполезным. Обменявшись парой-тройкой увесистых тумаков, противники сцепились, как два репья, и кубарем слетели с козел. Проломив хлипкие перила, они упали с моста в мелкую воду.
Еще один разбойник ловко перескочил с седла на освободившиеся козлы, уселся там и спокойно разобрал вожжи. Двое других подъехали к карете с обеих сторон и стали, заблокировав двери. Княжна была взята в плен без единого выстрела. Хрунов, весьма довольный тем, как прошло дело, убрал пистолет за пояс и снова выудил из кармана свою недокуренную сигарку. Оглядев ее со всех сторон, атаман решил, что вонючий окурок мало соответствует торжественности случая: ему хотелось поздороваться с княжной во всем блеске. Посему он выбросил окурок и вынул из портсигара новую сигару. Он успел сунуть ее в зубы и даже запалить спичку, но раскурить сигару ему так и не удалось – помешала княжна.
Внезапно карета словно взорвалась. Только что фигурный лакированный ящик на колесах мирно стоял на мосту и изнутри не доносилось ни звука, будто там и вовсе никого не было, и вдруг... Остолбеневший Хрунов, все еще с зажженной спичкой в руке и с тонкой заграничной сигаркой в зубах, насчитал три выстрела, но они последовали друг за другом так скоро и неожиданно, что со стороны и впрямь сильно напоминали взрыв. Те, кто засел в карете (а Хрунов уже сильно сомневался, что княжна была там одна), не стали затруднять себя открыванием окон и начали пальбу прямо через стекла. Первый выстрел был произведен через переднее окошко, заслоненное снаружи широкой спиной сидевшего на козлах разбойника; сразу же вслед за тем выстрелили через правое окно кареты, а после и через левое. Три выстрела почти слились в один, зазвенело, разлетаясь вдребезги, оконное стекло, из пробитых пулями отверстий ленивыми клубами пополз синий пороховой дым. Разбойник, что сидел на козлах, и двое других, которые охраняли дверцы, грянулись о дощатый настил моста и остались лежать без движения, глядя в красное небо мертвыми глазами.
Спичка обожгла Хрунову пальцы, он выронил ее и вдруг увидел, как в переднее окошко кареты, со звоном вытолкнув наружу осколки разбитого стекла, просунулся толстый ствол с устрашающим широким раструбом на конце. Даже круглый дурак догадался бы, что будет дальше; бывший гусарский поручик Хрунов дураком не был и оттого среагировал даже раньше, чем ошеломленный мозг успел предупредить его о стремительном приближении бесславного конца. Обрывки издевательски любезной речи, сочиненной им заранее для встречи с княжной Вязмитиновой, все еще беспорядочно крутились среди серого хаоса, заполонившего его ум, а натренированное с детства тело уже начало действовать: Хрунов сдавил коленями бока своего жеребца и дал ему шпоры, одновременно до отказа натянув поводья. Конь с протестующим ржанием поднялся на дыбы в тот самый миг, когда выпалил старинный мушкетон, выбросив из ствола целое облако дыма.
Хрунов ощутил сотрясение, произведенное угодившей в лошадиную грудь пулей, и мельком подумал, что коня жаль – уж больно был хорош. В следующее мгновение жеребец начал падать, заваливаясь на бок. Бывший гусар со сноровкой бывалого наездника выдернул ногу из стремени и, когда конь наконец рухнул в пыль, мячиком откатился в сторону, потеряв по дороге засунутый за пояс пистолет. Два других пистолета остались в седельных кобурах, карабин отлетел далеко в сторону – Хрунову был хорошо виден его поцарапанный приклад, блестевший в пыльной траве на обочине. Не зная, что предпринять, да и не понимая толком, что, собственно, произошло, поручик приподнялся с земли, тиская вспотевшей ладонью рукоять бесполезной сабли. Он вдруг заметил, что все еще держит в зубах разгрызенную, разлохмаченную, запыленную сигарку, и с досадой выплюнул ее под ноги.
Мост был усеян трупами и оружием – заряженным, готовым к бою, но столь же недосягаемым, как если бы оно находилось на обратной стороне Луны. В кустах бузины под мостом кто-то тяжело ворочался, треща ветвями и плеща водой. – Хрунов очень надеялся, что это был не кучер княжны, а Ерема.
– Барин, ваше благородие, – донеслось оттуда, и Хрунов вздохнул с некоторым облегчением. – Что у вас там творится? Кто палит?
Хрунов не успел ответить. Дверца кареты распахнулась, и на шаткий дощатый настил моста легко выпрыгнула княжна Вязмитинова. Она была в нежно-голубом платье и кружевной шали, на голове ее сидела шляпка с вуалью, кокетливо сдвинутая на сторону; тонкие, чудесной формы руки, до локтя обтянутые атласными перчатками, непринужденно сжимали армейский кавалерийский карабин.
– Кому надо, тот и палит, – спокойно ответила она на вопрос Еремы.
В подтверждение своих слов она шагнула к сломанным перилам, легко подняла карабин к плечу, припала щекой к прикладу, помедлила какое-то мгновение, отыскивая цель, и выпалила в гущу кустов. В ответ из-под моста донесся матерный вопль и треск сучьев.
Воспользовавшись тем, что княжна отвлеклась на Ерему, Хрунов метнулся к своему пистолету, который валялся посреди дороги между ним и убитой лошадью, заманчиво поблескивая в пыли. Он успел добежать до оружия и даже наклониться, но княжна, очевидно, ждала этого маневра и была к нему готова. Сразу же бросив еще дымящийся карабин, она резко повернулась на каблуках и направила на Хрунова пистолет, который будто по мановению волшебной палочки возник у нее в руке.
– Стоять! – коротко бросила она. Этот окрик был таким властным, что Хрунов послушно замер, не успев даже подумать, надобно ли ему подчиняться этой сумасшедшей ведьме. – А ну покажи лицо! Любопытно, что это за благородие такое в моем лесу завелось? Что за барин лесной объявился?
Ужасное предположение родилось в мозгу Хрунова, и понадобился всего лишь миг, чтобы оно превратилось в твердую уверенность: узнав старого знакомого, княжна не станет обременять себя утомительной возней с полицией, следствием и судом, а просто спустит курок, одним махом избавившись от проблемы.
Не поднимая головы, он покосился на карету. Карета стояла с распахнутой дверцей, скаля кривые клыки разбитых стекол, и оттуда больше никто не выходил. Хрунов ужаснулся, поняв, что княжна была там одна и что кровавое побоище на мосту учинено ею без посторонней помощи. Это было непостижимо, немыслимо, но это было!
– Голову подними, – властно приказала княжна, – не то так и умрешь безымянным. Имей в виду, я не шучу! Считаю до трех! Раз, два...
Хрунов услышал в кустах у самого моста осторожный шорох. Он понадеялся, что это крадется ему на помощь чудом уцелевший Ерема. Вот уж действительно чудом! Пули, выпущенные княжной, били в цель с такой точностью, словно она стреляла в упор. В том, что произошло минуту назад, Хрунову чудилось что-то сверхъестественное. Княжну как будто оберегала некая высшая сила, и поручику пришло в голову, что попы, возможно, и не всё врут.








