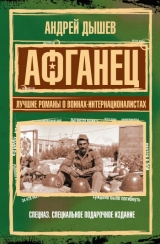
Текст книги "Афганец. Лучшие романы о воинах-интернационалистах"
Автор книги: Андрей Дышев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Глава 8
Через два месяца Нестерова выписали из госпиталя. Ему дали отпуск по ранению. Очень хотелось в Волгоград – домой, к родителям, и все же сначала он поехал на Брянщину.
Он шел по разбитой дороге, чувствуя хмельное головокружение от пахнущего весной воздуха. Нарочно со шлепком ставил промокшие сапоги в заполненные талой водой рытвины, в поток распутицы, чтобы хрустящая, как подмоченный сахар, грязь выпрыгивала из-под ног в разные стороны. И в душе у него была огромная и упругая пустота, ни мыслей, ни желаний, и только маленькой точкой давала о себе знать рана – как будто посветлело после продолжительной и тяжелой грозы, но дождь еще дрожал в воздухе, сыпался сверху тихой мягкой росой.
Потом он ехал на трясущейся телеге и смотрел, как старик, согласившийся его подвезти, подхлестывал мокрым обрывком пеньковой веревки худую лошаденку.
– Командир! А-а, командир!
Нестеров не слушал старика. Он, как соскучившийся по другу мальчишка, мысленно разговаривал с Шарыгиным, который словно вел его к себе домой. Они, уставшие, мокрые, падали с разбегу в потемневший снег, вставали, не отряхиваясь, и потом всем телом, с поднятыми руками, валились на черную скирду соломы. Шарыгин все торопил, не давая перевести дух, тянул лейтенанта за рукав и ступал по этой земле так, будто она вращалась под ним с бешеной скоростью, будто она улетала, а он держался на ней своим чудодейственным притяжением.
– Вот застенчивый ты человек, командир!
Все вокруг было его, Шарыгина. И этот снег, обжигающий до боли, до красноты пальцы, и эти тяжелые скирды, похожие на огромных, заснувших стоя лошадей, и этот незнакомый разговорчивый старик со своей худой клячей. Все окружавшее сейчас Нестерова излучало в огромных количествах такое знакомое чувство, которое всегда испытывали люди, общаясь с добрыми и приветливыми людьми.
– Сегодня знаешь ты что? Уже было не утро, а сказать тебе так – часов семь утра уже было, теперь скоро виднеется. Выхожу, знаешь, во двор. На березе сидит кукушка. Или птушки ее согнали, и вот она, значит, взлетела и раз кукнула. Я говорю, это она чувствует какую-то новость. Вот так оно пришлося: тут у соседей река из берегов вышла и огороды залила. А я вот поехал посмотреть, где что делается. Один живу – вот тоска и заедает. Раньше, бывало, директор ко мне зайдет. Но перестал ходить. В деревне никого нет, всё, знаешь, люди чужие. Так только всего, что в окно посмотришь, кто идет на колонку пить воды. Бывало, правда, ходили ко мне мужики, когда был моложе, а сейчас уже стал стариком. Думают, у меня уже голова не варит. Во до чего доживают! Еще, слава богу, до сих пор варила голова. Еще читаю! Очки надену, так трохи Евангелие почитаю. Особенно зимой много приходится читать… Плохо одному, очень плохо…
– А вы знали Володю Шарыгина?..
– Володьку? Спит уже третий месяц! Пятого февраля этого года погиб. В Афганистане. Мой приятель-однополчанин как-то пишет в письме: «Коля, как там Шарыгин Володя?» Я говорю: хлопец скоропостижно умер. На ту субботу была у меня его матка. А в воскресенье я вышел к колонке, мне тут дядька один говорит: «А мне сегодня некогда». Я говорю: «А что ты будешь делать?» – «Володьку Шарыгина хоронить!» Я говорю: «Ты что ж, с ума сошел?» – «Погиб смертью героя!» Э-эх! Был бы Володька, мне, знаешь, было б легче. Куда легче! Он и дрова помогал колоть, и воды принести. Он, бывало, ежедневно придет ко мне, и я у него спрошу: «Что делать? Совсем старый стал!» А Володька: «Не волнуйтесь, не волнуйтесь». Все, бывало, успокаивал. Теперь уже таких парней нету. Не то молодые, не то неразвитые. А он был хлопец находчивый… Да-а.
– А Ольгу, девушку его, вы знаете?
– Ну а чего не знаю? Девчонка эта в Брянске учится. Хоть бы скорей кончила, надоело ей ездить, три года уже на учебе. Но мне сдается, что аптекарка – это плохая специальность… Надо осторожность иметь! Чтоб не передать ненужных лекарств – бывают случаи такие. Надо иметь, знаешь ты, смекалку. Но она, кажется, девчонка опытная. Ее назначают в Брянской области работать. А подругу ее – ближе к северу. Распределяют во все стороны… Свадьба у нее летом будет. Хотели сейчас, но из-за Володьки перенесли. Да, перенесли.
– Свадьба? Этим летом свадьба?.. Как же она может так – парня любимого похоронила – и сразу замуж за другого?
– Нет, Ольга – девчонка порядочная. Володька еще в армию не ушел, а у нее уже жених был… Может, Володька и сам чего придумал? Да, писала она ему. Все про то знают. Матка его, Володи, сама просила: «Ты, Оля, пиши ему. Даже если не любишь – все равно пиши! Потому что он тебя любит, ты для него – как лучик солнечный!» Володька, знаешь, очень ранимый хлопец был, все к сердцу близко принимал. Такие не живут долго…
* * *
Нестеров принял взвод еще неопытным и стал командовать солдатами, имеющими за своей спиной полтора года боевого опыта. В палатке, оборудованной под спальное помещение, первое время его мучительно лихорадил запах уставшего тела вперемешку с пороховой гарью. Его ничем невозможно было выветрить. Возвращаясь с боевых, солдаты в изнеможении падали на койки, а он, Нестеров, очумевший от волнения, в который раз пересчитывал своих бойцов и все никак не мог поверить, что живы остались все. В темноте он сбивал табуреты, брошенные дежурным ведра для солярки – они гремели, как гусеничные машины, но никто из солдат не шелохнулся во сне. Тогда он случайно увидел на табурете, рядом с койкой Шарыгина, стопку писем от какой-то Оли и подумал: «Как, наверное, счастлив этот сержант! У него есть девушка, которая его любит и ждет его!»
Потом Нестеров вместе с взводом мчался по изрытой воронками грунтовке в Панджшерском ущелье. От напряжения он так стискивал крышку люка, что белели пальцы – каждую секунду можно было ожидать взрыва под колесами. Эти жуткие минуты казались ему тогда бесконечностью. Но отчетливо он запомнил лишь одно: молодой худенький солдат всю дорогу крепко спал внутри бронетранспортера на железном полу.
По-разному спят люди.
По-разному переживают…
* * *
На могиле Шарыгина снега не было. Лишь на выпуклой красной звезде плакал растаявший лед. Сержант смотрел на Нестерова из-за венков. Смотрел тем же взглядом, что и тогда, когда уходил на свое последнее боевое задание.
«Кто, кроме меня и матери Шарыгина, будет чувствовать незатихающую боль утраты и хранить память о нем как самое дорогое прошлое? – думал Нестеров. – Помнить и не лицемерить, не лгать самому себе?.. Почему мне все время кажется, что жить, ходить по этой земле и оплакивать погибших боевых товарищей должен был он, а не я? Ведь могло же быть наоборот. Или не могло?.. Он хотел быть похожим на меня… Странно, но теперь я хочу быть похожим на него, хочу делать добрые дела людям так, чтобы они этого не замечали и не знали обо мне. Пусть не оглядываются, пусть я вечно останусь в тени. Но что может быть лучше, чем тайно выполненный долг совести?.. Но что, что же я хочу теперь понять? Почему я раньше никогда не задумывался о поступках подчиненных мне солдат? Подвиг казался естественным, будничным случаем. Почему же только сейчас так хочется объяснить людям, напомнить им, что сегодня в боях погибают совсем молодые парни, и погибают потому, что они лучше всех, они – совершенство. И никак не приостановить этот процесс, всегда люди будут нуждаться в тех, кто пойдет на подвиг, на смерть во имя ближнего своего, и будет плодить земля героев столько, сколько потребуется…»
Пожилая женщина в черном платке, опершись на палочку, стояла на дороге и смотрела на могилу своего сына, рядом с которой на лавке, в расстегнутой шинели, без фуражки сидел молодой и совершенно седой лейтенант.
Серебряный шрам
Глава 1
Это страшно, когда ты должен ненавидеть, но любишь.
Минуту я стоял в прихожей разинув рот, и с моего плаща на пол капала дождевая вода. Я понимал, что должен изобразить на лице гнев, презрение или, на крайний случай, безразличие, но ничего не мог с собой поделать, и все мое нутро ликовало и пело, а сердце колотилось с такой страшной силой, что я был уверен – сейчас прискачут соседи и станут требовать, чтобы я прекратил колотить в стены. В ранней молодости я увлекался психологией, позже зачитывал до дыр Карнеги, и мне казалось, что я вполне научился владеть своими чувствами, во всяком случае, надежно маскировать их бесстрастным выражением лица. Теперь же я с обреченностью понял, что не научился ровным счетом ничему и, что самое главное, – совсем не знаю себя и не могу прогнозировать, когда мои чувства выдадут меня с потрохами.
Мокрый, пропитанный осенним ливнем, с набухшим от влаги воротником плаща, от которого неприятно холодило шею, я стоял в прихожей, и мое лицо полыхало юношеским румянцем, а глаза наверняка рассыпали во все стороны искры восторга. Я стоял и не мог вымолвить ни слова, а на диване, взобравшись на него с ногами, накрывшись пледом, сидела и спокойно взирала на меня Валери.
– Ты? – наконец задал я вполне идиотский вопрос.
– Тебе звонил Борис, – ответила Валери.
– К черту Бориса! – Я стащил с головы шляпу и кинул ее на холодильник. – К чертовой матери все телефонные звонки! Я хочу понять только одно – откуда ты здесь взялась? Валери, у меня белая горячка или ты, как привидение, впорхнула прямо в окно?
Не снимая плаща и ботинок, я вошел в комнату. Она похудела с того дня, как я простился с ней и Глебом на автовокзале, под глазами легли тени, а в уголках прекрасных бледных губ наметились горестные складки. Я подошел к ней, и Валери сжалась, натянула плед до подбородка, словно от меня повеяло арктическим холодом.
– Ключи, – сказала она едва слышно.
– Что – ключи?
– Борис дал мне твои ключи. Я открыла дверь. Теперь сижу. Жду тебя и греюсь.
Я присел у ее ног. Привидение обретало плоть. Все оказалось простым и будничным. Девушка взяла ключи у моего друга, который частенько пользовался моей квартирой для актов прелюбодеяния, открыла ее двумя оборотами по часовой стрелке, села на диван, накрылась пледом и стала ждать меня. Как все обыденно и серо!
– Ты мокрый, – сказала она и провела ладонью по моей голове. – Сильный дождь?
– Нет, это я купался в море, – ответил я, взял ее руку – тонкую, холодную, окольцованную еще более холодным тусклым металлом, и только потом вспомнил, что не разделся. – Валери, милая…
Я целовал ее ладонь, думая о том, что зря не остался на праздновании дня рождения моего приятеля. Пришел бы намного позже, вдрызг пьяным, и воспринял бы Валери как само собой разумеющееся.
– Как поживают бедные бабушки? Ремонт, надеюсь, вы уже завершили?
Валери провела ладонью по моей мокрой щеке, легонько хлопнула по ней пальцами, вздохнула.
– Поставил бы ты лучше чай.
– Лучше, чем что?
– Чем издеваться надо мной. Сейчас это слишком просто. Я одна, вся в твоей власти, и нет никого рядом, кто бы мог заступиться за меня… Под тобой лужа, и если ты сейчас ее не вытрешь, то к утру паркет вздуется.
– А потолок у соседа снизу – выгнется. Вот удивится мужик, да? Приходит домой, а люстра метра на два вверх уехала…
– Да замолчишь же ты когда-нибудь, господи! – вдруг крикнула Валери и закрыла лицо руками.
Я встал с колен, стащил с себя плащ и отнес его на кухню. Просушить его можно только над плитой, и я разжег все три конфорки. Поставил чайник, достал из буфета начатую бутылку коньяка и, прежде чем отнести ее в комнату, налил себе полстакана и залпом выпил. Чтоб не простудиться.
Зачем, откуда, для чего? – думал я, машинально вытаскивая из шкафа тарелки, нарезая хлеб, вскрывая рыбные консервы. Что она хочет сказать мне, эта молодая, красивая женщина, которая так ловко окрутила меня, на которой – пусть косвенно – лежит грех за убийство безвинного сторожа-корейца, которая с ангельской улыбкой провернула ловкую аферу, которая мастерски лгала мне о несчастных стариках и унизила меня тем, что я поверил ей. Эта женщина, о которой я так часто вспоминал после расставания с ней, которую даже не мечтал увидеть… И вот она здесь, в моей квартире, сидит на диване, укрывшись пледом, осунувшаяся, с глазами смертельно уставшего человека, обреченного на скорую гибель, и едва сдерживается, чтобы не закричать. Во всяком случае, на это очень похоже.
Стемнело. Я вошел в комнату с тарелкой в руке и хотел включить свет, но она попросила:
– Не надо.
Не надо так не надо. Приглашать ее на кухню, где со вчерашнего дня сохнет в раковине немытая посуда и ведро трещит от мусора? Я подкатил к дивану сервировочный столик, на котором еще пылились две рюмки, матово блестела смятая фольга от шоколадки да сильно пахла старым табаком переполненная пепельница – следы недавнего блуда Бориса. Валери заметила след губной помады на одной из рюмок и не преминула сказать:
– Вижу, ты здесь не очень-то скучал.
Она еще смеет в чем-то упрекать меня! Я не стал оправдываться, молча сгреб рюмки и пепельницу, смахнул со столика пыль и поставил тарелку с крупными кусками консервированной рыбы. Стоя перед шкафом, я делал вид, что раздумываю над тем, какие бы поставить бокалы. Несомненно, Валери успела провести здесь исследовательскую работу. Она перебирала книги и, похоже, рассматривала альбомы с фотографиями, это было заметно с первого взгляда – корешки книг и альбомов не выровнены. Я не выношу подобного беспорядка, а Борис и его растлительница моими фотографиями не интересуются… Я взял металлические рюмочки для ликера – больше ничего подходящего для дамы не было, поставил их на столик. Валери молча следила за моими действиями. Я чувствовал себя неловко и пару раз задел плечом дверной косяк. То ли коньяк на меня так подействовал, то ли присутствие дамы.
Очутившись снова на кухне, я зачем-то посмотрел в окно – нет ли там какой-нибудь тачки или незнакомого мужичка, пасущегося у моего подъезда? Я начинал играть с самим собой. Я был ошарашен ее появлением здесь, мне было – очень мягко говоря – приятно быть с ней наедине, и я всячески внушал себе это. Но, с другой стороны, я не верил ей – ни ее словам, которые она уже сказала и готовилась еще сказать, ни ее позе и внешнему виду. А всякое недоверие острым ножичком кромсает возвышенные чувства – эту истину давно еще классики заметили и потому руками своих героев душили несчастных женщин. И во мне начали борьбу два субъекта. Один изнемогал от любви и был готов носить нежданную гостью на руках, другой же сжался как пружина, возвел вокруг себя неприступную оборону и приготовился к схватке с коварным и сильным врагом, принявшим образ милого агнца…
Я в очередной раз задел кухонный стол, на пол с жутким грохотом упала пепельница, из которой я не успел выкинуть окурки.
Над домом опорожнилась очередная туча, и крупные, как виноградины, дождевые капли забарабанили в оконное стекло. Стемнело настолько, что я уже не мог различить выражение лица Валери. Мы сидели молча, прислушиваясь к тому, как непогода ломилась в наш маленький, но сухой и теплый мирок. Я попытался наполнить рюмки, но принял за рюмку Валери спичечный коробок, и струйка коньяка полилась на стол.
– Ну вот что! – наконец не выдержал я, вскочил со стула и включил настольную лампу. – Хватит ломать глаза и разыгрывать здесь театр теней.
Валери закрыла лицо ладонью. Я разлил в рюмки все, что осталось в бутылке, выпил и вонзил вилку в кусок рыбы.
– Выкладывай, – сказал я, тщательно пережевывая черствую корку. – Я весь внимание. Я готов тебя выслушать и понять – конечно, в меру своей сообразительности.
Валери смотрела на меня, покачивая в пальцах рюмку. Я чувствовал этот взгляд и старался не поднимать глаз.
– Ну так в чем же дело?
– Я жду, – ответила Валери.
– Чего ждешь?
– Когда ты прекратишь чавкать и посмотришь на меня.
– Это обязательно?
Она поставила рюмку на прежнее место с такой силой, что столик на полметра отъехал в сторону, сложила руки на груди, закинула ногу на ногу, стала смотреть в окно. Кажется, я перестарался. Точнее, не я, а тот субъект, который занял круговую оборону. Стоп! – сказал я себе мысленно, опасаясь, как бы Валери не запустила в меня вилкой.
Я перестал жевать, откинулся на спинку стула и, подражая ей, тоже скрестил руки на груди.
– На побережье у меня больше нет никого, кроме тебя, – сказала она глухим голосом, все так же глядя в окно.
Она сделала паузу. Я ждал. Некстати зазвонил телефон. Я не шелохнулся, и он вскоре замолк.
– И никто, кроме тебя, не может мне помочь, – тем же голосом добавила Валери.
– А как же Глеб?
– Глеб в тюрьме, – быстро ответила Валери.
Я прислушался к себе, но никаких чувств в связи с этой новостью не испытал. К Глебу я был равнодушен и, стараясь оставаться искренним, с безразличием посмотрел в глаза девушки.
– Ну и что?
Она мяла в пальцах кусочек хлеба; черные шарики падали на газету. Я допил ее коньяк. Чувство голода одержало верх над всеми остальными, и, глядя то на Валери, то на рыбу, я понимал, что этой пытки долго не выдержу.
– Ну и что? – повторил я.
– Я прошу тебя помочь мне.
– Что я еще должен сделать? – Я нарочно сделал ударение на слове «еще».
– Полететь со мной в Таджикистан.
– Куда-куда? – Я едва не поперхнулся. – Валери, голубушка! Ты хорошо понимаешь, о чем и с кем говоришь? Тебе известны такие понятия, как этика, мораль, совесть? Ты хорошо помнишь, что творила со мной месяц назад?..
– Ой, ой, ой! – Она поморщилась, замахала руками. – Все! Больше ни слова! Не надо, умоляю, говорить о морали.
Мы снова замолчали. Ты только не верь ей, говорил во мне субъект, который занял оборону, не вздумай поверить хотя бы одному ее словечку!.. Тебе ее не жалко? – спрашивал второй, который ее любил, ты даже не хочешь поинтересоваться, что ее заставило прийти к тебе?
– Ну и что там стряслось с твоим Глебом? – после паузы спросил я.
– Какая тебе разница? Я уже поняла, что помощи от тебя ждать не стоит… Проводи меня.
Она встала. Я пожал плечами и развел руки в стороны. Она вышла в прихожую, зажгла свет, стала надевать туфли. Я выжидал. Она сняла с вешалки зонтик. Обернулась.
– Ты остаешься?
Я кивнул – почти уверенный в том, что она остановится. На пороге, уже открыв дверь, уже сделав шаг наружу, но остановится и вернется. Но она не остановилась и с силой захлопнула дверь за собой.
В это мгновение я бы с удовольствием посмотрел на то, как вытянулась моя физиономия. Пружина, заведенная во мне с той секунды, как я встретился с Валери, стала раскручиваться с бешеной силой, и я пулей подлетел к двери, распахнул ее и помчался по ступеням вниз. Валери я догнал уже на улице, схватил ее за плечи, но она с разворота ударила меня по щеке.
– Отпусти, негодяй! Дрянь, трус! Отпусти, я ненавижу тебя!
Дождь быстро залил огонь ее чувств, и, мужественно приняв еще серию ударов, я подхватил ее на руки и кинулся в подъезд.
Так мы вернулись к нашим баранам. Валери снова села на диван, я укрыл ее пледом и пошел на кухню, чтобы приготовить чай. Она либо в самом деле ждет моей помощи, думал я, либо – блестящий психолог. Что вероятнее всего. Но, возможно, девочке и в самом деле плохо. Однако наверняка прикидывается. М-да…
Так я ни к чему и не пришел. Мы тянули маленькими глотками чай, куда я положил щепотку мяты, и делали вид, что всецело поглощены этим занятием. Я первым прервал затянувшееся молчание.
– Два месяца назад я познакомился с вашей милой компанией. Теперь трое из четверых сидят в тюрьме. Правильно говорят: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Так что случилось с Глебом?
Валери согревала замерзшие руки, обхватив ладонями чашку. Призрачный парок струился у ее красивых губ.
– Его обвиняют в торговле наркотиками.
– Но он, разумеется, не торговал?
Валери зло усмехнулась:
– Не торговал. Дело против него сфабриковали, все шито белыми нитками, это и дураку понятно. Но нужны доказательства.
– Ну давай по порядку. Когда, что стряслось, где он залетел?
– Тогда, в сентябре, ну, как мы… расстались…
– Когда вы заработали на казино, – помог я.
– Мы полетели военным бортом в Душанбе с товаром – электрочайники, кипятильники, ковры, ну и прочая ерунда, там это хорошо идет. Сдали и взяли контейнер дынь, чтобы в Москве сразу сдать перекупщикам. Сидим в аэропорту, ждем вылета. Вдруг подваливают к нам четверо в костюмах. «Вы вещи сдавали в камеру хранения?» Мы отвечаем: да, сдавали. Они: «Можете показать, что именно?»
– А кто были эти четверо? Таможенники?
– Я не знаю! Кагэбисты местные или милиция – кто их разберет!
– Так вы даже не поинтересовались их документами?
– Ну, в такой ситуации, когда к тебе подваливают четверо, с виду – приличные люди, вежливо просят спуститься в камеру хранения, разве будешь спрашивать документы?.. Так слушай дальше. Мы спускаемся вниз, там что-то вроде подвальчика, лестница, узкий коридор и сама кладовая, огороженная решетками. Эти четверо вежливо просят пассажиров расступиться, подходят к окну, где выдают вещи, и спрашивают кладовщика: этот, мол, гражданин сдавал сумки в камеру? Кладовщик кивает – этот.
– А вы в самом деле сдавали туда что-нибудь?
– А как же! Две сумки. Там личные вещи, фруктов немного, бритва Глеба, мои платья. Всякое барахло, в общем… Один из тех четверых просит Глеба: «Покажите, пожалуйста, ваш жетон». Мы думаем: какая-то неувязка с вещами получилась. Без всякой задней мысли Глеб протягивает им этот самый жетон, и кладовщик выволакивает две здоровенные бордовые сумки.
– Ну и что?
– Сумки-то не наши! Глеб сразу сообразил, что к чему, и говорит: «Позвольте, господа, но сумочки не наши». Эти, кагэбисты, выясняют у кладовщика: «Его сумки?» Кладовщик, старый лис, глазки в сторону отворачивает и говорит: «Они сдали – я принял. Жетон им дал и ничего больше не знаю». Глеб говорит: «Повторяю, сумки не наши!»
– А свои сумки вы нашли?
– Так о чем и речь! Глеб говорит: «Сейчас я покажу, где мои сумки, и, не открывая их, расскажу, что там лежит». Обошел стеллажи, заглянул во все уголки – сумок нет. А этот, иуда: «Зачем так говоришь? У нас ничего не пропадает. Ты сумки сдал – я принял. Других не было». Глеб говорит ему очень вразумительно: «Дедушка, зачем вы врете?» А тот свое: «Эти сумки я принял, эти сумки возвращаю».
– А что было в этих сумках?
– В этом-то и вся история. Эти ребята в костюмчиках вынесли сумки на середину, пригласили понятых и открыли «молнии». И что ты думаешь? Обе доверху набиты маковой соломкой.
– Пакостная история.
– Все намного сложнее, чем тебе кажется. Глеба тут же под руки куда-то увели. Он мне успел крикнуть, чтобы я сразу же стала искать хорошего адвоката. Там, в Душанбе, я вышла на Рамазанова – мне его посоветовали, он специализируется на подобных делах. Человек-легенда. Трижды на его жизнь покушались. Ходит только в сопровождении охраны, семью отправил куда-то за границу. В общем, принял он меня, выслушал, попросил зайти на следующий день. Пришла я назавтра. Рамазанов с порога: «Дела у вас неважные, но не безнадежные. Где был ваш брат семнадцатого сентября?» Я отвечаю: «В Крыму, он работал в казино». Рамазанов головой качает: «Я навел справки, из казино ваш брат был уволен четырнадцатого. А семнадцатого его видели в Душанбе на центральном рынке. Есть свидетели». Я спрашиваю, что делать? «Ищите свидетелей, что семнадцатого Глеб был в Крыму. Если мы это докажем, рухнет вся основа обвинения, которое ему предъявляют».
– И ты нашла меня.
– И я нашла тебя.
– А когда вы в самом деле прилетели в Душанбе?
– Двадцать первого.
– Разве нельзя проверить авиабилеты, чтобы это подтвердить?
– Мы летели на военном транспортнике, полулегально. Нас даже не внесли в списки!
– Но где-нибудь вы же должны были оставить следы? В гостинице, к примеру.
– В Москве мы жили у знакомого.
– Вот пусть он и подтвердит…
– У нас были ключи, мы вошли в его квартиру так же, как и я сюда. И жили два дня одни. Нас, как назло, никто не видел, господи!
Я смотрел в ее глаза. Они были полны слез. Она стала шмыгать носом, потянулась за платочком.
– И ты хочешь, чтобы я полетел в Душанбе и выступил в качестве свидетеля?
Она кивнула и высморкалась.
– Я не заставляю тебя говорить неправду. Но ведь ты в самом деле видел здесь Глеба семнадцатого сентября… Кирилл, я очень тебя прошу!
Я молчал.
Валери встала, неслышно, как кошка, подошла ко мне, опустилась рядом на пол. Темные волосы металлическими стружками упали на мои колени.
– Ну что ты молчишь? Ты злопамятный, да? Ты не можешь простить мне того, что я обманула тебя? И ты уже никогда не будешь верить мне? – Она покачала головой. – Если бы ты был мне безразличен, я никогда не стала бы искать с тобой встречи и тем более оставлять тебе свой адрес.
– Валери, ты режешь мое сердце на куски, – ответил я.
– Но почему, почему?
– Потому что я тебе не верю. Но очень хочу верить.
Она усмехнулась:
– Если бы очень хотел, то поверил бы. А все остальное – слова, «если бы», «если бы»… Да, я хитрая, меркантильная, расчетливая баба, я люблю подчинять себе людей, я привыкла распоряжаться ими так, как мне нужно. Но тобой я восхищалась. Ты тот человек, который никогда не будет принадлежать мне, а запретное и недоступное всегда кажется более сладким, и оттого так желанно… А как поживает «Арго»?
– Я снял с него мачты, мотор и затащил в гараж.
– Бедненький! Ему будет тоскливо без моря.
Я встал, осторожно высвобождая ноги от рук девушки. Достал из шкафа подушку, одеяло и кинул на диван.
– Ложись и спи, – сказал я.
– А ты?
– Мне надо ненадолго уйти.
– Куда? К женщине?
– Валери! – Я приподнял ее за руки и посмотрел ей в глаза: – Фальшиво. Не получается!
– Что не получается?
– Сыграть ревность.
– А все остальное – получилось? Про Душанбе, про брата, про мои чувства? Получилось, да?
Она дернула плечом, повернулась и быстро легла, накрывшись одеялом с головой. Я постоял минуту над ней, приподнял край одеяла. Она лежала на боку, спиной ко мне.
– Еще чая хочешь?
– Единственное, чего я хочу, – ответила она, подавляя зевок, – это никогда больше не видеть и не слышать тебя.
Я вышел в прихожую и прикрыл за собой дверь. Все это ерунда, думал я, в сравнении с мокрым насквозь плащом, который приходится надевать и идти на берег моря дождливым темным осенним вечером.








