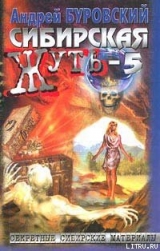
Текст книги "Тайга слезам не верит"
Автор книги: Андрей Буровский
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
А вскоре думать об этом уже времени совсем не стало, потому что завертелись дела: завтракать, ехать за палаткой, докупить всего, что не было сложено сразу. Вообще-то идея состояла в том, чтобы выехать уже одиннадцатого. Но весь этот долгий жаркий день пришлось пробегать за снаряжением, да и не хотелось попадаться на трассе Стекляшкиным. А кроме того, Ирина хотела зайти домой, взять для путешествия все, что она никак не могла взять вчера.
И в результате только рано утром двенадцатого августа они с Павлом стояли на трассе.
Вообще-то деньги на автобус у них были. Но во-первых, детям хотелось сэкономить. А вторая причина состояла в том, что они были еще очень молоды. И очень хотели проехать через всю Хакасию автостопом. Зачем им нужно это приключение, дети и сами не смогли бы сказать, но им очень хотелось. Что поделаешь…
И дети проехали автобусом только до Дивогорска, построенного специально как город тех, кто будет строить великую ГЭС и потом работать на ней. До сих пор между городом и ГЭС стоял монумент, изображающий грузовик с поднятым кузовом: памятник тем, кто покорял Енисей. Разумеется, никакого памятника не было поставлено тем, кто допокорялся до грандиозной экологической катастрофы. И никакой памятки на памятнике покорителям, что они-то как раз покоряли, покоряли и наконец допокорялись, тоже не было и в помине.
Героический грузовик стоял в устье речки Лиственки, а примерно в километре выше по реке в свальных ямах и по сей день догнивали останки примерно тридцати тысяч зеков – настоящих, а не киношных строителей и ГЭС, и всего Дивогорска.
А за Дивогорском был мост через Енисей. Переходить его ничуть не труднее, чем любой другой мост в мире, но разговаривать приходится громко, потому что на ГЭС постоянно спускают лишнюю воду из водохранилища. И каскады воды падают с высоты 90 метров, – как раз высота Ниагарского водопада. Если воды спускают много – не всегда слышен и крик собеседника.
За мостом дорога серпантином уходит вверх, и чем выше, тем игрушечней становится великая ГЭС, тем величественней вид на Карск, на горы за ГЭС, на Дивогорск, и особенное впечатление производят два водных зеркала, расположенных на разных уровнях – Карского водохранилища и Енисея, отделенного от водохранилища серой ниточкой плотины.
Здесь начиналось шоссе, идущее на юг, к Саянам, здесь предстояло ловить попутчиков, начиная долгий путь до Малой Речки.
Не знаю, как и где, а в Сибири небо редко бывает везде одинакового цвета. В это утро небо было нежно-бирюзовым по краям, пронзительно-голубым в середине. И чем ближе к зениту, тем сильнее, тем пронзительнее становилась голубизна, тем меньше было блеклых красок.
А под небом была серая лента шоссе, уходящий в небо серпантин, а потом – просто длинная лента, рассекшая надвое тайгу.
– До Маклахты добросите?
– Только до Кряжа.
Шофер грузовика, небольшого подвижного города, нажал на что-то, дверца за детьми мягко закрылась. Странно было видеть лес, шоссе с такой высоты.
– До Кряжа гравий возим. Там строительство идет.
– Кто-то строится на Кряже?!
– Представь себе, парень, строится!
Представить было нелегко, потому что от Карска до Маклахты – почти сто пятьдесят километров, и все это – горная тайга. А что такое горная тайга, дети очень хорошо почувствовали, пока стояли на шоссе, ловили нового попутчика. Грузовик дико взревел, лязгнул скоростью, свернул на незаметную грунтовку.
По обочинам росло все, что растет по всем обочинам в Сибири: мать-и-мачеха, иван-чай, медуница, пижма.
Дальше, за узкой лентой вырубки, высилась сплошная стена: кедры, пихты, ели. Темная хвоя, очень мало цветов, лиственных деревьев, насекомых. Есть еще светлохвойная тайга – лиственничная и сосновая. Но леса из лиственницы растут далеко на севере, где вечная мерзлота. А насчет сосновых лесов ученые спорят до помрачения ума: тайга это или вообще не тайга?!
Ученые мужи спорят и спорят, но стоит войти в сосновый лес, ощутить легкую прочную почву под ногами, вглядеться в рыжие, желтые, бронзовые стволы и светлую веселую листву, и вы никогда не спутаете сосновый лес и темнохвойную тайгу, где все краски гуще и темнее, влажная осклизлая почва плывет под ногой, а вместо полян – болота.
И действительно, трудно представить себе извращенную фантазию того, кто решил построить дачу в темнохвойке… Если у него есть выбор, конечно.
– До Маклахты не подбросите?
– Ну давай, садись! А ты куда?! – обратился водитель к Пашке.
– Мы вместе!
– Вместе не возьму! У меня заднее сидение все завалено, расчищать надо час. – И Павлу, очень напористо: – Ты мужчина?! Вот ты и лови еще одну машину.
Внешность водителя – мужик с пухлыми щеками и очень славянской внешностью – вроде бы должна была располагать… Но Павлу невольно лезло в голову, и очень упорно: «Мужчина, потому с тобой ее и не пущу!»
– Не-е… Мы вместе, – замотала головой и Ирина.
– Ты что, меня боишься?! – изумился мужик. – Довезу я тебя в сохранности!
– Отпускаешь, Павел?
– Нет!
Ирка спрыгнула опять на землю.
– Или возьмите вместе, или никак!
– Ну и черт с вами обоими! Торчите тут, сколько хотите! – обозлился мужик и бешено рванул свою «тойоту».
– Странные люди! Подозрительные ребята! – удивлялся через полчаса молодой, упитанный азербайджанец.
– Странные – еще понятно. А подозрительные почему?
– Кто еще на дорогах голосует? Самый подозрительный элемент! Что тут с одним парнем было, знаете?! Подобрал он таких вот, как вы, а ему руки-ноги оторвали-отрезали! Давай деньги, говорят! У него нет! Три тысячи во всей машине! Отобрал! Все, что в машине было, – отобрал! И еще все руки-ноги отрывал! Нехороший, понимаешь, человек, подозрительный… А ты спрашиваешь – почему да почему…
– Чего же вы нас тогда пускаете?! – требовала Ирина логики, а тут ей даже и не пахло.
– Как так чего же?! Ты челвэк! Тэбе ехат надо?! А у меня машина есть…
– Так мы же подозрительные! Вдруг ноги-руки оторвем?
– Не ноги-руки, так по-русски не говорят, – поправил строго южанин, – надо говорить про руки-ноги… И потом я же вижу, кто есть кто!
С такой логикой спорить было невозможно, Ирина только развела руками. И дальше говорил только Даман, – почти без перерыва несколько часов.
Дорогая явственно пошла вниз… Это как в самолете, когда очевидно снижение. Кончился Солгонский кряж, отделяющий Карскую лесостепь от Хакасской котловины. Начиналась Хакасия. Синий «жигуль» Дамана пять часов катился между открытых пространств, словно бы пришедших из Центральной Азии, из мира степей, разрушенных гор и пустынь. На мотоцикле ехал мужик в широкополой шляпе с продавленным верхом – видел Павел такие на фотографиях из Тибета. Вряд ли этот мужик специально старался, играл в тибетца; уж тем более не специально приделывали самим себе монголоидные лица милиционеры на обочине, старушки, торговавшие молоком и картошкой или голосующие на шоссе. Но ощущение, что они попали в какую-то другую страну, не в Россию, конечно только усиливалось.
Удивительно вообще, какое сильное воздействие оказывает на русского человека сама по себе дорога. Кто бы он ни был, каков бы… А вот ляжет серая асфальтовая, рыже-серая грунтовая лента между местом назначения и местом отправки, между прошлым и будущим, начнет разматываться до горизонта и за горизонт… и забудет человек первый праздник, и позднюю утрату, и прямо в душу ему хлынет что-то удивительно родное. Что-то, что властно потребует пожирать пространство, ехать, идти, двигаться по этой ленте.
Дорога вилась по равнинам, и волны теплого воздуха к середине дня все чаще становились удушливо-горячими, неприятными. Даже Даман утихал, жалобно сопел, утирал пот. Равнина была почти вся распахана, кроме мест, где кочки ясно показывали начало болота, или где земля прикрывала камень всего на несколько сантиметров. Но где не было светло-желтых полей пшеницы, пронзительно-желтых – сурепки, почти везде паслись стада.
Поля уже тронула желтизна; все было разных оттенков желтого и зеленого. Вот холм – с одной стороны залитый яркой желтизной сурепки. Дорога движется по склону, поднимается, и ее прекрасно видно снизу, видно, куда сейчас поедем. Тем более, что с другой стороны дороги, ниже по холму – темно-зеленые, с темно-желтым оттенком, пшеница. Реют коршуны в потоках воздуха, встают башни кучевых облаков впереди и вокруг дороги, во все стороны, бегут тени облаков по холмам. И дорога все это рассекает, уводит дальше.
А со всех сторон равнину окружали горы. Горы были везде, в пределах прямой досягаемости взглядом. Наплывала гряда, то очень далеко, то почти возле дороги; северный склон покрыт лесом – сочетание лиственницы с березой. Южный склон – степной, голый. И таких гряд очень много, а за ними другие, уходящие в сиреневую даль, удивительные оттенки синего, голубого, фиолетового на склонах громадных каменных волн.
К двум часам проехали верный признак, что добрались до Белогорска – гору с гладкими очертаниями склонов, с зализанными очертаниями как бы колоссальных мускулов. Гора выглядела, как огромное животное, погрузившее уже голову под землю, словно собираясь нырнуть.
Сам город был скорее жалок: сочетание неопрятных пятиэтажек и частного сектора, аккуратных маленьких домов. Таковы, впрочем, были и другие городки, встреченные по дороге.
– Можете нас высадить на остановке?
– Могу, конечно, ну о чем базар?! Только давайте лучше за углом – а то прицепятся к вам потом, чего с азерами ездите!
Даман улыбался, а ребятам сделалось неловко.
До автобуса на Абакан и было-то всего двадцать минут, и все-таки могла придти беда. С неизбежностью стихийного процесса позади Павла и Ирины, мирно стоявших у бордюра, начали скапливаться фигуры. Одна, вторая… третья… так постепенно до седьмой. Фигуры примерно их ровесников, но очень не похожих на Павла и Ирину; мальчиков с сигаретами, приклеенными в углах ртов, в расхристанной старой одежде. Нет-нет, главное, вовсе не в старой! Из тех же пиджаков заботливые мамы вполне могли бы выбить пыль, футболки можно постирать, рубашки еще и погладить, а ботинки еще и почистить. И тогда внешность этих, как выражался Окуджава, «полудневных теней», уже не будет производить впечатления небрежности, расхристанности, заброшенности, чего-то уличного и жалкого. А так они производят именно такое впечатление.
До тридцати человек ждали автобус или покупали билеты – тетеньки с кошелками, супружеские пары, отдельные мужчины средних лет. Но именно Павел с Ириной вызывали поднятие шерсти на загривках, исторгали утробное урчание из пастей гнусной приблудной шпаны.
Именно потому, что на Пашку достаточно посмотреть, и видно, что он – нормальный, приличный мальчик, умный и чистоплотный. Что слои пыли на его физиономии – дело временное и дорожное, так сказать, часть приключения, после которого парень вернется в мир, где чистые носки и трусы – никем не обсуждаемая норма, где дураком считают не того, кто читает книжки, а как раз того, кто не читает; где трезвый папа разговаривает, а не дерется; где мама с мягким голосом и добрыми руками зовет обедать, а не ругается матом.
Добрый, хороший мир стоял за этим мальчиком. Мир хорошей генетики, хорошего воспитания, хорошей кухни, хорошей библиотеки. Уже это одно вызывало в ущербных тварях злобную ненависть сидящих на игле, кирявших лет с двенадцати, сунувших сигарету в слюнявую пасть лет с восьми. Ненависть сдыхающих, гниющих заживо, лишенных будущего; ненависть пропащих к тому, кто много лет еще будет только входить в мужскую силу, только разворачивать могучие крылья, когда их и следа не будет на планете. Обычно такие не могут даже отомстить за себя: милиции они очень боятся. Тут, в кои веки, они получали возможность.
А тут еще Ирина… Чистоплотная, крепкая, почти не уставшая за полдня трудного пути. Длинноногая красивая девчонка в новой водолазке и джинсах, которая никогда не станет по доброй воле девчонкой никого из этих полудневных привидений. Как и всякая красивая и разумная женщина за всю их короткую, убогую жизнь подонков.
Непросто было решиться начать ЭТО посреди города, на глазах у множества людей. Первым решился вожак. На то он и был вожак, на полгодика постарше остальных, с рыбьими глазами и лицом цвета лягушачьего брюха.
– Ты, керя… марафет е?
– Что?!
– Марафету дай… На мастырку…
– Нету фета… А что такое фет? Или он марафет?
– Брезгуешь, да?! – прорезались нотки истерики в скулительном тоне вожака. – Брезгуешь?! Мы тебе не люди, да?! Не люди?!
Вожак сильно рванул Павла за ворот рубахи, заставил его сделать шаг от Ирины, и от выбранного места. Теперь Павел, начавший двигаться по чужой воле, все больше и больше зависел именно от нее, остановка была за следующими шагами. А кроме того, вокруг Павла молча (пока молча), неподвижно (пока неподвижно) собирались «полдневные тени». Пока только стояли и смотрели. И с точки зрения наблюдавших со стороны все выглядело, как разборки внутри одной шайки. Эти двое затеяли драку, а остальные уставились, как и полагается шпане.
Вожак не имел представления о вещах, которые Павел знал чуть ли не с рождения. За год он не понял бы того, в чем Павел разобрался бы за три минуты. Но и знание многого того, что вожак знал почти на уровне инстинкта, было совершенно чуждо Павлу. Он, конечно, мог бы понять, как надо избивать и калечить, но ему было бы нужно много времени для этого. Павел вроде бы и понимал, что делает собравшаяся шайка, но и понимание у Павла было слабым, нечетким; даже то, что он чувствовал инстинктивно, блокировалось логикой: «Но ведь этого не может быть!».
Вожак уже хватал Павла за грудки, надсадно завывая что-то про городских хлюпиков, которым слабо сказать честно, что они брезгуют простыми людьми.
– У тебя-то вот она, какая рожа! Какую харю наел! Тебе бы, падла, столько выпить, посмотрел бы я!
Вопли вожака все больше напоминали шаманские окрики – и полным отсутствием логики, и производимым действием. Так красножопые, размазывая по тупым грязным харям слезы и сопли, рвали рубахи перед офицерами на вокзалах и площадях Мировой войны, переходящей в Гражданскую:
– А у тебя вшей почему нет?! А ты сифилисом болел?! – приводя себя во все большую ярость по поводу этих гладких гадов, которым не нужен новарсенол, которые не знают полных страданий выхода из запоя и не спят с окопными проститутками («Конечно, у этих-то медсестры! Этим можно!»).
Ирина вдруг обнаружила, что между ней и Павлом возникли три спины, которые она вовсе не рада здесь видеть. Еще двое встали по бокам. Эти двое вроде бы не обращали на Ирину никакого внимания, но стискивали ее все плотнее, до невозможности пошевелиться. Все это напоминало случай годовой давности, о котором не знали родители. Ирина была уверена, что даже мама, не говоря о папе, упадет в обморок, если узнает об этом. Тогда Ирину и ее подружку Лену пытались прижать в подворотне, и девчушкам пришлось показать, что они не зря ходили в секцию. Тогда Ирка долго решалась: нужно было преодолеть в себе нечто для того, чтобы ударить человека. Теперь она решилась побыстрее: и все-таки был опыт, и опасность (пока) грозила не ей, а так решаться много проще.
…Первым рухнул стоящий справа: коротко вякнул, сложился вдвое, рухнул вперед головой – подкосились ноги.
Левый стал разворачиваться к Ирине, и нейтральное выражение его физиономии стало переходить в заинтересованно-удивленное. А в следующий момент и этот левый уже разворачивался в полете, планировал на асфальт головой вниз.
Только один из трех, стоявших между Павлом и Ириной, успел обернуться: первым двум хватило пинка в промежность, метко нанесенного в самое уязвимое место, после чего они присели на асфальт в задумчивости и просидели довольно долго, говоря что-то про себя. И не могу не сказать: крепкая все же это тварь – человек! Как ни разрушал себя этот третий напитками и зельями, причем с самого нежного возраста, но все же хватило мозгов! Не все пропил и прокурил до конца этот третий, оказался человеком понятливым: с невероятной скоростью вчистил он вдоль по улице и, ни разу не оглянувшись, исчез среди домов и домиков.
Только что стоявший среди враждебных рыл, изрядно растерявшийся Павел оказался вдруг один на один с тоже растерявшимся, в свою очередь, вожаком… И сделал то, чего давно хотел и не решался: присев от напряжения, ударил снизу вверх кулаком в челюсть. Ударил неумело, отбил руку, но вожаку вполне хватило. В конце концов, за всю свою жизнь вожак съел не больше двух-трех полноценных обедов из трех блюд, а простейший грипп у него длился по месяцу, потому что никак не лечился. Павел был несравненно менее опытен, гораздо хуже представлял, что надо делать, но он был несравненно здоровее, да и просто лучше кормлен. Вожак приземлился надолго, из распахнутого рта стекала кровь.
И тут же зафыркал, начал двигаться автобус, а в молчавшей до тех пор толпе настроения были, что называется, разные.
– А кто им позволил наших бить?!
– Так те же первые напали!
– Кто их разберет, кто там напал!
– Нет, ну им кто позволил наших бить?!
– Правильно сделали!
– Фулюганы! Бандиты!
– Нет, ну а девка-то!
– Я б такой девке, будь это моя дочка!
– Так те же первые напали!
– Фулюганы! Деточек побили! Не умеют с детками играться! – надсаживалась нечистоплотная бабка с кошелкой, распространяя ароматы дешевых духов, перегара и пота.
В скучной жизни Белогорска назревал соблазнительный, долгий скандал с воплями, взаимными оскорблениями, разбирательствами и тыканьем друг в друга пальцами.
Павел понял, что пора смываться.
К счастью, к стоянке бесшумно подваливал боком автобус Белогорск – Абакан, и Павел чуть не силой втащил в него растерявшуюся Ирину. На остановке шуму было много:
– Не пускайте их! Сейчас милиция!
– Не лезьте к ребятам! Не слушайте их!
– Самих не слушайте! Они против наших!
Две-три самых незанятых тетки ломились в дверь автобуса, оттесняемые контролером. Казалось бы, «несчастные деточки» как раз приходили в себя и являли отличный объект приложения материнских эмоций. Так сказать, представляли собой прекрасный объект жаления и спасения. Но вот тут-то ярко проявилось, что теткам на самом деле вовсе-то и не хотелось никого спасать; им хотелось только бить, и они, как умели, организовывали себе сладостные ощущения.
К счастью, контролер – девушка чуть старше Ирки – не испытывала ни малейшего желания участвовать в буче.
– Вы едете?! У вас билет?! Тогда па-апрашу вас!
Автобус тронулся, оставляя на стоянке небольшую шумную толпу, и девушка подмигнула ребятам:
– А здорово ты их! Где так учат?
– Я в секции три года занималась… – готова была заплакать Ирина. – Нет, правда, что они? Мы же никого не трогали, они же первые…
– Зато они свои! – назидательно тряхнула девушка русой, до пояса, косой. – Небось, у вас тоже если наши попадутся, ваши им накостыляют!
– Да никто им костылять не будет…
Но девушка смотрела понимающе, лукаво:
– У нас заречные тоже если поймают приречного, тому лучше сразу делать ноги. И наоборот, если приречные заречного поймают. Вы-то сами карские?
– Да. Только у нас такого нет…
– Ну уж и нет! Мне парень один рассказывал, он из Закровки – у них по улице чужим лучше и не проходить! Особенно с Пугача или с Колинаевки. Вмиг руки-ноги поотрывают!
Девушка хорошо, ясно улыбалась. Ее улыбка ассоциировалась с чисто прополотым огородом, сохнущей на руках землей, с кринкой, полной парного молока, с милыми домашними заботами: какую рубашку надел? Хорошо ли кушал Коленька? Что это разоралась, убежала в лопухи звонкая кошка Марфушка? С бледным месяцем, поднявшимся над стогами, с тихим душевным разговором на лавочке.
– У нас как говорят? Не парень, если за свою девушку кровавыми соплями не умылся. Не девушка, если рукава слезами не намочила по парню. А как ты… Эх, здорово!
И раскрасневшаяся девица от избытка чувств даже замотала головой, пока косы не пошли вразлет.
И Павел, и Ирина слабо представляли себе, что делается в Закровке, Пугаче и прочих районах индивидуальной застройки, мало посещаемых остальными горожанами. Может, под самым их носом и правда царит все это средневековье… На обоих пахнуло чем-то диким первобытным, жутким. Как будто им рассказали про человеческие жертвоприношения или про пляски голых девиц под полной луной для лучшего урожая.
В Абакане повезло – удалось быстро пересесть на автобус до Минусинска и ехали уже без приключений. Енисей в этом месте был непривычно быстрым, узким, еще не принявшим в себя множество речек и речушек, не успевшим разлиться двухкилометровой рекой по необъятной равнине. И сразу кончилась Хакасия. Автобус поехал по местности, до смешного напоминавшей ту, которую оставили ребята под самым Карском, на четыреста километров севернее: сосновые леса на песчаных легких почвах, медленно текущие реки, полное отсутствие голых пространств. И краски были другие, без пронзительной хакасской синевы.
Не случайно именно здесь почти триста лет назад поселились русские мужики, основали Минусинск и много сел. Хакасы почти не населяли сосновые боры и тучные земли Минусинской котловины, на левый берег, в саму Хакасию, русские не пошли.
За Минусинском трасса оказалась почти пустая. Четыре часа, – основной поток транспорта схлынул. А немногие проезжие не торопились никого подбирать. Не остановил свою иномарку, промчался мимо загорелый мужик в спортивной рубашке, оглашая трассу воем Вилли Токарева. Не остановился пожилой, солидный, в черной тройке, на «Волге». Правда, люди тут были вежливые – руками показывали, что сворачивают, взять не могут.
Остановился дребезжащий «Запорожец» – пожилой учитель физкультуры из Ермаков возвращался из Минусинска, от давно замужней дочери. И в шесть часов ребята были в Ермаках, вместе с жесточайшей головной болью – от рева двигателя и главным образом от рассуждений об упадке нравов и безобразий, чинимых современной молодежью.
И все равно здесь чувствовался юг. И солнце стояло высоко, и деревья были огромные, гораздо выше, чем под Карском. Такие тополя – как баобабы, под кроной которых скрывается весь деревенский дом, – Павел видел разве что под Воронежем.
Еще Павла поразили окрашенные в белый цвет домишки, а между ними долину пересекала лесополоса из таких вот огромных деревьев, да еще с белеными стволами – вид был совершенно украинский, в потоках яркого, пронзительного света.
На холмах бродят огромные тени облаков, и вид вполне мирный, пока не надвинулась хмарь. Надвинулась почти мгновенно, и непонятно даже – это от движения машины или сама собой шла мгла, стена непогоды. С ревом обрушилась сплошная стена дождя, дед притормозил – все равно дворники не справлялись. Об машину, об стекло, об трассу колотились капли, как будто взрывались от ударов. Во все стороны с силой летели фонтанчики. Павел не сразу успел закрыть окно, и удивился – дождевая вода была теплой, как не во всякой реке. Тоже яркая примета юга! Минут пять – и дождь уже прошел, стало парить. Потоки воздуха колыхались, поднимаясь вверх вместе с водяным паром. Местность становилась словно бы непрозрачной… Но скоро они уже ехали там, где никакого дождя вообще не было.
Трудно сказать, где появилось ощущение юга… Во всяком случае, когда выезжали с Солгонского хребта, его еще не было. А на подъездах к Абакану оно появилось и не отпускало до конца.
А еще чувствовалась близость гор. Слишком неровная местность, и слишком много везде камня. Очень заметно было, что чехол мягких пород, глины и песка здесь много тоньше, чем под Карском. Вот оползень на склоне холма – и в обнажении торчат огромные серые плиты, а не оплывшая глинистая яма.
Вот дорога углублена в склон холма, врезается в землю и видно, что толщина слоя глин и песков от силы сантиметров тридцать, а дальше пошли снова камни и окатанные слои гальки, но чаще – плитняк, начавшее разрушаться тело горы.
И реки – мелкие, с каменистым дном. Только углубляется река – а книзу идет уже твердое каменное основание, и реки петляют по нему – порожистые, мелкие, извилистые, неспокойные.
В деревнях тоже то три пролета в ограде – из дерева, а один – из плитняка. То ползабора из плитняка, то даже целая стена дома. Значит, камня много, и он дешев.
Гораздо хуже дождя был, несомненно, сам дед.
– Ряздягаются… Представляете, вот тут все голо! Рубашечка такая… или кофточка… только досюда, – похлопывал себя по животу активный старец, для чего ему пришлось выпустить руль. Машина завиляла: заметалась, пролетая в полуметре то от одной, то от другой канавы. – Вот до чего дошло! Живот по самый пуп торчит, а то и ниже, почитай, по самые волосья! – Последние фразы дед произнес напряженным, жадным голосом, и глаза у него полыхнули блеском недобрым, бесовским и стали даже вроде совсем желтыми. – Ну куда такое дело годится, а?! У нее и юбчонка только до сих пор! – быстро провел себя дед по бедрам, тяжело задышал и так же быстро облизал языком губы. – Можно подумать, советской молодежи делать больше нечего… Можно подумать, ей надо вот так… раздеваться, чтобы наголо, и чтобы вести себя совершенно свободно… как в ихней Америке!
Как не были наивны дети, напряжение деда передавалось им. А Ирина чисто инстинктивно, подвинулась поближе к Павлу, свела поплотнее колени (что уж вовсе глупо, если девушка в джинсах) и ссутулилась, пряча грудь, хоть особенно и прятать было нечего.
Так и прошли эти сорок минут в тихом ужасе: дед вещал истины в последней инстанции, дети шалели от его дурости, обалдевали от страха. Ирина все сильнее жалела, что она девочка.
– Вас, ребята, в Ермаках куда?
– К автостанции… наверное.
Только тут Павел вдруг сообразил, что попасть в Ермаки – это же совсем не то, что попасть в Малую Речку!
В древние советские времена от Малой Речки в Ермаки три раза в неделю ходила «будка» – то есть попросту говоря, леспромхозовский ГАЗ-66 с фанерной будкой в кузове и с сиденьями для пассажиров. Но во-первых, Павел не помнил, по каким дням ходила «будка» и в какое время ждала на площади. А если бы и вспомнил, ему бы это не помогло, потому что уже пять лет, как никакая «будка» совершенно никуда не ходила.
В те же древние времена каждый день в Малую Речку ходила машина со свежевыпеченным хлебом, а очень часто и с другими товарами. Но те же самые пять лет назад магазин в Малой Речке прихватизировали. Владелец построил там свою пекарню, а за товарами ездил нечасто и о поездках никого не извещал.
А попутки в Малую Речку ездили в среднем одна в две недели.
Из сказанного вытекало со всей очевидностью, во всей первозданной красе, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих: Павел с Ириной или пойдут пешком последние полсотни километров, или все-таки найдут машину. Вроде бы, несколько машин стояли здесь же, на автобусной площади. Даже Павлу было видно, что элегическая небрежность поз и небрежная расхлябанность слоняющихся вокруг шоферов вызваны желаниями прозаическими – найти седока, да еще в месте, где найти его почти что невозможно. Поведение шоферов похоже было на действия людей, стремящихся дождаться конца света… или, скажем, огненного дождя.
– До Малой Речки поедем?
– Малая Речка?! Это же сто верст в горы! За триста еще подумаю, да и то…
Пришлось подойти к другому «жуку» и поделиться впечатлениями: может быть, у того, у первого, не все в порядке с головой? А то как же он не знает, что в Малую Речку вовсе не сто, а всего полсотни верст, через Раздольное?
Доказав таким образом, что знает и места, и расстояния, Павел мог надеяться нанять машину за более приемлемую цену. Например, рублей за сто. Этой суммы Павел с папой не предусмотрели, да что поделаешь? Зато подэкономил на билетах…
– Я и сам хотел в ту сторону… Только мне, понимаешь, только до Раздольного… И надо с братом ехать, вот… Стольник плати, и поехали.
С одной стороны, все было вовсе и не так уж плохо, появлялся шанс через полтора-два часа быть на месте. С другой – перспектива оказаться в глухом месте с этим жуликоватым типом и его братом… или там не братом, кто разберет… Такая перспектива совсем не радовала Павла, особенно после Белогорска и прочих приключений на трассе.
– Ладно, поехали.
– А деньги-то у тебя есть? – поинтересовался мужик очень уж небрежным тоном. Павел прямо подскочил от такого.
– Деньги… Вот смотри, – показал Павел несколько смятых десяток.
– Мне сто надо.
– В Малой Речке мой отец сейчас, отдыхает. Будет тебе сто рублей, – объяснил Павел с максимальной убедительностью.
– Так твой же папа сейчас… – осеклась Ирина, встретив совершенно бешеный взгляд Павла.
– Только сегодня его не будет – он на гольцах, – светски объяснил Пашка Ирине. – А деньги-то я знаю, где.
– А твой батяня кто? – так же небрежно поинтересовался нанимаемый.
– Полковник милиции, начальник угро.
И Павел, и Ирина заметили, как местный жлоб внутренне подтянулся.
Проехали Раздольное, и на горизонте показались горы. Темные в это время года, рыже-сине-голубые. В мае и начиная с октября вершины гор были бы белые, но горы и так впечатляли. К восьми часам двенадцатого августа дети проехали по улицам Малой Речки, и машина встала возле нужным им ворот.
– Ну, бери деньги…
По знаку Павла, Ирина выскочила из машины. Паша сунул водителю сторублевку.
– А батяня?!
– У батяни я еще возьму. Ну, спасибо тебе, до свидания.
Вежливый Паша не преминул отметить выражение лица водителя, когда тот понял – деньги-то у парня были… И мысленно погладил себя по головке за то, что был так глубоко прав, обманув хитрого мужика. Впрочем, деятель не собирался еще уезжать, он с интересом изучал, что то дальше будут делать его юные друзья… А вдруг запросятся обратно?
Но главное было в другом, и этот мелкий жлоб уходил в прошлое, проваливался, исчезал, становился неважным, вместе со всеми сегодняшними попутчиками, от водителя грузовика до учителя из Ермаков. И весь сегодняшний, мучительно долгий, такой увлекательный день уже почти ушел в прошлое, почти исчез из жизни.
Главное же было в том, что перед смертельно уставшими, грязными, как сто чертей, Павлом и Ириной высились ворота усадьбы Мараловых. И что мигал ранний огонек в окне, звучали взрывы хохота, мелькали тени людей. Путь в Малую Речку был пройден.








