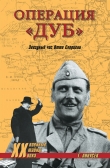Текст книги "Нежная любовь главных злодеев истории"
Автор книги: Андрей Шляхов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Алессандро, узнавший о миссии кузена и вообще давно мечтавший разделаться с ним, послал следом за Ипполито одного из своих верных людей, Джованни Андреа, профессионального убийцу. Джованни догнал Ипполито уже в Тунисе и успел отравить несчастного до того, как тот встретился с императором Карлом V. Алессандро продолжил править, ничуть не изменив свое поведение. Творимый им произвол вверг Флоренцию в состояние анархии, и, поскольку Алессандро был молод и полон сил, горожане пребывали в отчаянии, не зная, где им искать помощи. К тому же Алессандро, подобно всем Медичи искушенный в интригах и подкупе, сумел заручиться поддержкой Карла V. Император даже выдал за Алессандро свою побочную дочь Маргариту Парм– скую.
Великий Микеланджело, человек справедливый и строгих нравственных правил, невзлюбил Алессандро, что называется, «с первого взгляда». Когда Алеcсандро попросил его разработать план новых городских укреплений, Микеланджело отказался. Когда Алессандро передал Микеланджело, что он желает показать возводимую им часовню Сан-Лоренцо гостившему во Флоренции вице-королю Неаполя, Микеланджело демонстративно запер часовню на замок. Микеланджело покровительствовал сам Климент VII, поэтому скульптор мог вести себя с герцогом без раболепия. Однако, насмотревшись на то, что герцог Алессандро и его люди творили во Флоренции, Микеланджело предпочел бежать, поняв, что, несмотря на высочайшее покровительство, жизнь его буквально висит на волоске.
По иронии судьбы, Алессандро стал одним из двух Медичи, похороненных в знаменитой гробнице работы Микеланджело.
Неизвестно, что именно заставило Лоренцино возненавидеть своего покровителя. В объяснении мотивов мнения историков расходятся. Одни утверждают, что из-за вмешательства Алессандро Лоренцино лишился некоего крупного наследства. Якобы Алессандро заграбастал его себе. В это можно поверить, зная, каким алчным стяжателем был Алессандро. Другие считают, что гнев Лоренцино был вызван домогательствами Алессандро к его родной сестре, красавице-вдове Лаудо– мии. Эта версия кажется менее вероятной – учитывая глубину морального падения Лоренцино, по доброй воле ставшего приспешником развратного деспота Алессандро, вряд ли его могла заботить такая, с позволения сказать, мелочь, как честь родной сестры.
Самой обоснованной кажется версия о притязаниях на трон правителя Флоренции. Скорее всего, Лоренцино решил, что репутация избавителя города от тирана расположит к нему горожан и поможет добиться желаемого – власти над Флоренцией.
О том, что убийство Алессандро не было спонтанным, а готовилось заблаговременно, свидетельствует надпись, сделанная Лоренцино на рукописи своей комедии «Аридозия» (Лоренцино де Медичи, надо отдать ему должное, был неплохим сочинителем): «Скоро вы увидите другую и более прекрасную комедию того же автора».
Можно себе представить, как по вечерам, развлекая своего повелителя чтением из Тацита о заговоре Пизона и о смерти Гальбы, Лоренцино предвкушал убийство тирана.
Не понадеявшись на свою весьма малую физическую силу, Лоренцино, как это было принято в Италии, обратился за помощью к наемному убийце, некоему Скоронконколо, вошедшему в историю лишь благодаря своему преступлению – если можно назвать преступлением избавление подданных от свирепого деспота, каким был Алессандро де Медичи.
Изощренный ум Лоренцино без труда разработал ловушку для Алессандро. Фаворит разжег аппетит герцога описанием прелестей одной красавицы (нельзя уже сказать – вымышленной или настоящей, хотя некоторые исследователи утверждают, что в роли приманки выступила как раз та самая Лаудомия, родная сестра Лоренцо) и пригласил Алессандро на свидание с ней, которое должно было произойти в доме Лоренцино. Разумеется, похотливый Алессандро клюнул на эту наживку и не замедлил явиться в дом Лоренцино. Герцог пришел один, без сопровождающих, ибо кому– кому, а своему фавориту и родичу он доверял безгранично.
Надо сказать, что Лоренцино очень удачно и верно выбрал время для убийства герцога – ночь после большого и шумного праздника в честь святой Епифании, когда вся Флоренция, пьяная и утомленная празднеством, дрыхла без задних ног. Улицы города были совершенно пусты, лишь изредка появлялась на них ночная стража.
В ожидании красотки герцог выпил вина, а затем отцепил шпагу, снял верхнюю одежду и улегся на ложе. Лоренцино удалился якобы для того, чтобы поторопить прелестницу.
Вместо нее он вернулся со Скоронконколо. Лоренцино запер дверь, подошел к постели, на которой лежал Алессандро, и, отдернув полог, спросил: «Спите ли вы, государь?» Согласитесь, более дурацкого вопроса в подобной ситуации нельзя и придумать.
Ответа Лоренцино дожидаться не стал – своей короткой шпагой, излюбленным оружием итальянской аристократии того времени, он ударил Алессандро в грудь. Молодой герцог умер далеко не сразу. Он вцепился в своего убийцу и даже сумел прокусить ему руку, пока Скоронконколо не добил его.
Всего на теле Алессандро нашли семь ран, нанесенных убийцами, которые, не рискнув остаться во Флоренции, бежали в Болонью.
Лоренцино ничего не выгадал от убийства Алессандро. Власть над Флоренцией перешла к Козимо Медичи, который оказался еще худшим деспотом, нежели покойный Алессандро.
В народе многолетняя ненависть к Лоренцино перевесила одобрение его поступка, и героем бывшего фаворита никто не считал. Остаток жизни Лоренцино пришлось скрываться на чужбине, опасаясь возмездия. Он был убит в Венеции в 1548 году.
Со своей официальной супругой Маргаритой Пармской Алессандро детей не нажил, а вот его любовница и дальняя родственница, Тадцея Маласпина, родила ему сына Джулио и дочь Джулию, которых воспитал Козимо, новый герцог Флоренции.
Даже с Таддеей, родившей ему двух детей, Алессандро был всегда груб и не выказывал никаких галантных признаков влюбленности. Скорее всего, любовь вообще была ему недоступна, так же как и добрые дела. Он стал чуть ли не единственным из Медичи и из европейских правителей, о котором никто из современников или потомков не отзывался одобрительно – только с осуждением, если не с проклятиями. Как гласит народная мудрость, «по мощам и елей».
Жан-Поль Марат по прозвищу «Друг народа», один из вождей и основной идеолог французской революции
Закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных совершается,
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова 34:8
Настоящее имя – Жан-Поль Марат
Характер – жестокий, целеустремленный
Темперамент – сангвинический
Религия – протестант
Отношение к власти – трепетное
Отношение к подданным – безразличное
Отношение к любви – холодное
Отношение к лести – благосклонное
Отношение к материальным благам – безразличное
Отношение к собственной репутации – трепетное, внимательное до мелочей
Жан-Поль Марат по прозвищу «Друг народа», один из вождей и основной идеолог французской революции (1743-1793)
Несмотря на весь тот кровавый фанатизм, которым отличалась французская революция, которую некоторые склонны называть «Великой», ни один из ее вдохновителей не был столь одиозной и отвратительной фигурой, как Жан-Поль Марат, самонадеянно и выспренно называвший себя «другом народа».
«Говорят, что революция – «великая переоценка ценностей», – писал философ и публицист Марк Алданов. – Это неверно. Ценности переоцениваются до революций – Вольтерами и Дидро, Герценами и Толстыми. Потом и старые, и новые ценности размениваются на мелкую истертую монету и пускаются в общий оборот. Революция – великое социальное перемещение, оценка и переоценка людей, для которых она создает новые масштабы деятельности: для одних из маленьких большие, для других – из больших маленькие. Если б Ленин умер в 1916 году, то в подробных учебниках русской истории ему, может быть, отводились бы три строчки. Для людей, подобных «другу народа», революция – это миллионный выигрыш в лотерее – иногда, как в анекдоте, и без выигрышного билета. Говорю, разумеется, о «славе»: личные практические последствия могут быть неприятные, как это доказала Шарлотта Корде. Французская революция дала Марату то, чего его лишали и Ньютон, и Лавуазье, и Вольтер. Мелкий литератор, неудачный физик, опытный врач-венеролог получил возможность выставить свою кандидатуру в спасители Франции. У Мирабо, у Лафайета, у Кондорсе, у Бриссо были выигрышные билеты; все они годами ставили именно на эту лотерею. Марат, как очень многие другие, выиграл без билета – кто до революции знал, что он «друг народа»?»
Марат, знаменитый оратор французского Национального собрания и известный журналист, был некрасив. Как тут не вспомнить сакраментальное: «Бог шельму метит». Коротышка, ростом менее пяти футов, с бледным лицом, на котором маниакальным блеском горели глаза, он внушал окружающим страх и омерзение.
Марат был певцом насилия в его чистейшем виде, кровожадным жрецом богини смерти, вместо ножа орудовавшим словами. Безумный в своей серьезности и решительный в своей свирепости, он упивался насилием, жаждал его, служил ему. Потоки крови, проливаемые по его призывам, – а это были именно потоки, а не ручейки – никак не могли залить адское пламя, бушевавшее в душе Марата.
Он ненавидел людей, еще больше ненавидел хорошо одетых людей, а тех, кто хоть чем-то превосходил его, ненавидел втройне. Его газета «Друг народа» стала орудием для сведения кровавых счетов с обществом, вдохновителем убийств и глашатаем побоищ.
Его с великими почестями похоронили в парижском Пантеоне, установили ему памятник на площади Карусели и переименовали в его честь город Гавр и даже Монмартр, который стал называться Монмаратом. Но очень скоро останки Марата оказались буквально выброшенными в грязь, памятник был снесен, а Гавру и Монмартру вернули исконные имена. И верно – имена маньяков и злодеев недостойны увековечивания. Забвение да будет их уделом…
Несмотря на то что Марат, по свидетельству некоторых современников, был «мерзок, словно жаба», он все же пользовался некоторым успехом у женщин.
Три женщины оставили яркий след в жизни Марата, и первой была англичанка по имени Анна-Летиция Барбо.
Анна-Летиция Барбо, в девичестве носившая фамилию Эйкин, родилась в один год с Маратом в семье английского сельского священника. Джон Эйкин, отец Анны-Летиции, служил Богу в пресвитерианской церкви небольшой деревни Кибуорт, находящейся юго-восточнее древнего города Лестер, заложенного еще римлянами.
Джон Эйкин был человеком передовых взглядов и детям своим постарался дать как можно больше знаний. Анна-Летиция получила в отчем доме прекрасное образование. Девушка легко выучила французский и итальянский языки, читала на латыни и греческом, недурно разбиралась в философии, а при необходимости могла поучаствовать и в религиозном диспуте. Но больше всего ее привлекала художественная литература, чтение которой, надо признаться, преподобный Джон Эйкин считал бесполезным занятием, делая исключение лишь для классиков древности.
По иронии судьбы, сразу двое его детей стали писателями – дочь Анна и сын Джон, вначале выучившийся на врача, а уже после взявшийся за перо.
Анна была красива (красота досталась ей от рано умершей матери), немного легкомысленна и, как и положено молодой девушке, втайне от всех баловалась сочинением стихов, поверяя бумаге свои невинные девичьи мечты. Отец любил ее больше прочих детей и втайне, про себя, ужасался при мысли о том, что когда-нибудь его дочь выйдет замуж. Нет, преподобный Эйкин искренне желал дочери счастья и совсем не хотел видеть ее в рядах «синих чулков», которых в Англии всегда хватало. Ему просто трудно было представить разлуку со своей обожаемой Анной.
Когда Анне исполнилось пятнадцать лет, Эйкины переехали в Уоррингтон, где преподобный Джон Эйкин получил должность профессора теологии в местной академии.
Здесь, в Уоррингтоне, Анна и встретила швейцарца Жан-Поля Марата, преподававшего французский язык в той же академии, где трудился на ниве просвещения и ее отец. Чужеземец Марат был кальвинистом, поэтому поначалу он весьма нравился преподобному Джону Эйкину, человеку довольно мягкому во всем, кроме вопросов веры. Марат был вхож в дом Эйкинов, где и познакомился с Анной.
Он был некрасив, это так, но умен, умел красиво выражать свои мысли (а уж мыслей-то в его голове было полным-полно), разбирался в поэзии и писал сам. Правда, писал вещи, не совсем близкие Анне по духу, но тем не менее…
Анне было уже тридцать, по тем временам – чуть ли не середина зрелого возраста. Молодость давно канула в прошлое вместе с женихами. Честно говоря, с женихами Анне не везло – насколько их привлекала ее красота, настолько отталкивал острый язычок. Анна привыкла говорить то, что думала, вдобавок она была наблюдательна и остроумна, отчего могла высмеять поистине беспощадно.
Кое-кто утверждает, что именно Марат был редактором первого сборника стихотворений Анны, увидевшего свет в 1773 году, но это утверждение не выдерживает критики. Навряд ли Марат столь хорошо владел английским и чувствовал английскую поэзию, чтобы взяться редактировать стихи на этом языке.
Постепенно интерес перерос в приязнь, а приязнь в нечто, похожее на любовь. Марат даже намеревался получить британское подданство, чтобы жениться на Анне.
Был ли он на самом деле влюблен в Анну или просто играл в любовь, желая осесть и закрепиться в Англии, где надеялся быть оцененным по достоинству, сейчас сказать трудно. Тем более что дружбе Анны-Летиции Эйкин с Маратом было не суждено длиться долго – после одной некрасивой истории, связанной с присвоением чужих денег, Марат был вынужден покинуть Уоррингтон.
Анна если и скучала по нему, то недолго – в 1774 году она вышла замуж за потомка французских гугенотов Рошмоне Барбо, с которым и прожила всю жизнь, овдовев много позже смерти Марата.
В Англии Жан-Поль Марат прожил одиннадцать лет – с 1765 по 1776 год. Учился, преподавал, пытался прославиться как философ и врач, публиковал свои произведения, а втайне от всех занимался менее благовидными делами – брал деньги в долг без намерения отдавать их, мошенничал и даже ограбил музей в Оксфорде, украв оттуда золотые медальоны и старинные монеты стоимостью более двух сотен фунтов – весьма солидную по тем временам сумму. Есть данные о том, что за свои дела Жан-Полю Марату даже пришлось провести некоторое время в заключении.
Деньги Марата никогда не интересовали – он бредил одной лишь славой, жаждал ее, мечтал о ней и к ней стремился. Слава в его понимании была неразрывно связана с властью над людьми, над умами и сердцами поклонников и почитателей.
Полный самых неуемных амбиций, он пытался блеснуть то на одном, то на другом поприще и всюду терпел неудачи.
Врачом Марат считался весьма посредственным. Да, он был врачом свиты графа д’Артуа, но обратите внимание – не самого графа пользовал Марат, а всего лишь его челядь.
Как ученый Марат не состоялся. Его никогда не интересовала наука – он только пытался спихнуть кого– либо из авторитетов с пьедестала, чтобы самому занять его место.
С самонадеянностью недоучившегося выскочки Марат в своих опусах, более заслуживших название пасквилей, обливал грязью Вольтера, уличая его в невежестве, пытался критиковать Ньютона, ну а великого химика Лавуазье и вовсе называл шарлатаном.
Ньютон, умерший задолго до рождения Марата, досаждал ему больше прочих своей устойчивой, поистине всемирной известностью. Амбициозный Марат желал стяжать себе всю мировую славу, не оставив ни крохи как современникам, так и тем, кто жил раньше.
Марат-писатель с большой натугой родил один– единственный роман из польско-русской жизни, дочитать который до конца не удавалось, кажется, еще никому – от знакомства с картинно-благородными польскими графами и их необычайно чувствительными возлюбленными неудержимо клонит в сон. Старик Вольтер написал на роман Марата очень едкую разгромную рецензию, оттого-то Марат и пытался убедить всех в невежестве великого философа. Вольтеру повезло – он умер в 1778 году, задолго до революции, во время которой ему однозначно бы не поздоровилось. Подобно всем мелким и ограниченным душонкам, Марат не умел ни забывать, ни прощать. О, «Друг народа» непременно бы отыгрался на Вольтере, будь предоставлена ему такая возможность!
Лавуазье Марат возненавидел по другой причине – за то, что великий химик упорно не обращал никакого внимания ни на «научную» деятельность Марата, ни на его критические нападки, руководствуясь крайне разумным принципом «собака лает – ветер носит».
«Есть два Марата: Марат до революции и Марат во время революции, – писал Марк Алдамов. – Первый достаточно понятен. Это был несносный человек, человек с нестерпимым характером, каких каждый из нас не раз встречал в жизни. Добавлю, человек с немалыми достоинствами: большого трудолюбия, больших знаний, энергичный, честный и бескорыстный, быть может, даже и не очень злой. И со всем этим, повторяю, невыносимый. Его и тогда, кажется, все терпеть не могли. Чудовищная нервность у него сочеталась с манией величия, а мания величия дополнялась патологической завистливостью».
Насчет честности Адцанов явно польстил Марату, человеку весьма неразборчивому в вопросе добывания средств для существования и саморекламы. Все остальное же подмечено очень метко и точно.
С горя Марат даже пробовал снискать славу на юридическом поприще, приняв участие в конкурсе Бернского экономического общества на лучший проект реформы уголовного права. Его «План уголовного законодательства», опубликованный в 1782 году, современников, мягко выражаясь, не впечатлил.
Если бы не революция, он так бы и умер безвестным авантюристом, одним из тысяч пасынков славы, некрасивым одиноким неудачником. Не исключено, что извилистый жизненный путь мог привести его на виселицу или под топор палача – у Марата были для того предпосылки, первой из которых были его непомерные амбиции. Впрочем, на старости лет он мог бы остепениться и зажить тихой добропорядочной жизнью, хотя верится в это с трудом. Неугомонный Марат и спокойная размеренная жизнь – понятия взаимоисключающие.
Фортуна благосклонна к настойчивым, правда, не всегда она благоволит достойным. Марату повезло – ему была предоставлена прекрасная возможность проявить себя. И обеспечил эту возможность не кто иной, как король Франции Людовик XVI, при котором народ французский обнищал вконец, что называется, дошел до ручки.
Аристократы купались в роскоши, простолюдины умирали с голоду, а буржуазия была недовольна состоянием дел, и прежде всего – чудовищной инфляцией. В монетах, которые чеканил королевский двор, с каждым днем становилось все меньше золота и серебра и все больше примесей, вроде меди.
Отберите у людей веру в будущее – и они проявят себя с наихудшей стороны. Рост народного недовольства, искусно разжигаемый так называемой революционной печатью, вылился в кровавую вакханалию. Все началось с недовольства королем-вертопрахом и королевой-шлюхой, а закончилось черт-те чем.
Марат издавал самую революционную из газет – «Ami du peuple» («Друг народа»). Сам издавал, сам редактировал и сам в нее писал, будучи един в трех лицах.
Как журналист, Марат был неистов, кровожаден и бескомпромиссен, оставляя далеко позади всех прочих разжигателей революционного пожара. Он был главным прародителем смуты, и в то же время можно сказать, что он был и ее порождением – именно революция вознесла Марата ввысь, на пьедестал, сложенный из отрубленных по его подстрекательству голов. Очень высоким был тот пьедестал.
Потакая низменным инстинктам толпы, Марат получил власть над ней. Давно известно, что дурной пример заразителен. Жажда кровопролития, неустанно пропагандируемая маньяком Маратом, обуяла тех, кто еще вчера считался добрыми французами, совершенно не склонными к насилию.
Аппетит приходит во время еды. «Еще год назад пять или шесть сотен отрубленных голов сделали бы вас свободными и счастливыми, – писал Марат в июне 1790 года. – Сегодня придется обезглавить десять тысяч человек. Через несколько месяцев вы, может быть, прикончите сто тысяч человек. Вы совершите чудо – ведь в вашей душе не будет мира до тех пор, пока вы не убьете последнего ублюдка врагов Родины…»
Пока не будет убит последний француз…
Что плохого сделали Марату аристократы? Всего лишь осмелились жить лучше его – и были жестоко наказаны за это.
Чем досадили ему простые обыватели? Ничем, они попросту стали жертвой, которая была принесена для упрочения власти Марата.
«Перестаньте терять время, изобретая средства защиты. У вас осталось всего одно средство, о котором я вам много раз уже говорил: всеобщее восстание и народные казни. Нельзя колебаться ни секунды, даже если придется отрубить сто тысяч голов. Вешайте, вешайте, мои дорогие друзья, это единственное средство победить ваших коварных врагов. Если бы они были сильнее, то без всякой жалости перерезали бы вам горло, колите же их кинжалами без сострадания!» – призывал Марат своих сограждан.
Ярость его усиливалась неизлечимой кожной болезнью, сопровождавшейся нестерпимым зудом. Многие биографы ошибочно называют ее проказой, якобы подхваченной Маратом еще во время работы врачом в Англии, однако они ошибаются – при проказе не бывает зуда. Скорее всего, Марат страдал (или был наказан провидением за свою жестокость) экземой.
Болезнь вынуждала Марата целыми днями просиживать в ванне с теплой водой – только там зуд стихал. Сидя в ванне, он писал свои людоедские опусы, сидя в ванне, принимал посетителей, сидя в ванне, порой и засыпал. Кстати говоря, ванна в те времена была неслыханной роскошью.
Марк Алданов не без иронии советовал всем поклонникам Марата произвести простой опыт – прочесть одну за другой в старых комплектах «Ami du peuple» его последние статьи. В этих статьях Марат требовал уже двести шестьдесят тысяч голов контрреволюционеров!
В начале же революции «друг народа» был куда умереннее. Тогда он настаивал только на том, чтобы на восьми сотнях деревьях Тюильрийского сада было повешено восемь сотен депутатов с ненавистным Марату политиком – графом Мирабо – посредине. «Однако он лишь сходил с ума – не успел сойти совершенно, – писал о Марате Алданов, – сквозь бредовые кровавые статьи, от которых гибли сотни людей, все время сквозит совершенно ясная мысль, именно ясностью выделяющая его из толпы других участников французской революции. («Только индюки ходят стадами», – любезно говорил он членам Конвента.) Эта мысль: нужна диктатура, необходима кровавая диктатура, без диктатора мы не спасемся, вне диктатуры нет выхода!.. Он долбил ее упорно, без вывертов, с большой силой. Надо думать, в диктаторы он намечал самого себя. Вызванные им страшные сентябрьские убийства достаточно ясно показывают, чего можно было ждать от диктатуры Марата».
Кровожадный истерик Марат в конце концов надоел и своим соратникам – членам Национального собрания, тем более что те же Мирабо, Лафайет, Бриссо, Кондорсе были, что называется, профессиональными политиками, добрую половину жизни терпеливо шедшими к власти и совершенно не желавшими делить ее, а точнее говоря – отдавать ее какому-то безвестному проходимцу, скучному литератору, сомнительному ученому и никудышному врачу, преуспевшему разве что в лечении венерических заболеваний. Он вынырнул из мутного революционного потока, явился из небытия, и именно туда его следовало отправить.
Ненависть к Марату со стороны видных деятелей французской революции усиливалась гипертрофированным индивидуализмом Марата, его эгоизмом. Марат жаждал славы единственного спасителя Франции и ради этого готов был стать ее могильщиком.
Терпение иссякло в тот день, когда Марат написал в своей газете: «К оружию, граждане!.. И пусть ваш первый удар падет на голову бесчестного генерала (под бесчестным генералом подразумевался Лафайет. – А. Ш.), уничтожьте продажных членов Национального собрания во главе с подлым Рикетги (здесь речь шла об адвокате Мирабо, «мозге» революции. – А. Ш.), отрезайте мизинцы у всех бывших дворян, сворачивайте шею всем попам. Если вы останетесь глухи к моим призывам, горе вам!»
«Бред сумасшедшего!» – скажут читатели и нисколько не погрешат против правды – нормальный человек подобного не напишет. Но не надо забывать, что призывам этого сумасшедшего следовали десятки тысяч французов!
Генерал Лафайет, герой освободительной войны в Америке, незаслуженно обозванный «бесчестным», прочтя очередной пасквиль Марата, вознегодовал и немедленно отправил триста человек в типографию «Друга народа». Типография была разгромлена, а весь оставшийся нереализованным тираж газеты конфискован. Сам Марат сумел избежать ареста, словно крыса, забившись в дыру, – «Друг народа» спрятался в погребе, принадлежавшем одному из его сторонников, где и продолжал строчить свои кровавые опусы.
В них, давая волю обиде, он призывал убивать солдат национальной гвардии, поймать и оскопить генерала Лафайета, повесить «продажного» Мирабо.
Разумеется, его искала полиция, но Марат, сменявший одно убежище за другим, был неуловим – правда, все убежища оказывались, что называется, некомфортабельными – погреба, подвалы, чердаки. Устроиться со всеми удобствами предложил «другу народа» рабочий его типографии по фамилии Эврар. Эврар сообщил, что его невестка Симона, простая работница игольной фабрики, почтет за честь предоставить Марату крышу над головой. Марат с радостью согласился и поселился в доме № 243 по улице Сент– Оноре.
Симона Эврар, дочь корабельного плотника из Турнюса, оказалась хорошенькой сероглазой брюнеткой лет двадцати пяти. Она была горячей сторонницей Марата, зачитывавшейся его статьями, восхищавшейся им и сочувствующей ему. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, едва увидев воочию «друга народа», Симона тут же влюбилась в него и с первой же ночи начала делить с ним ложе. Это был маленький подвиг, с учетом того, что тело Марата было покрыто язвами, издававшими весьма ощутимое зловоние. Любовь поистине зла…
На дворе был декабрь 1790 года.
Симона оказалась сущей находкой, настоящим подарком судьбы. В ее маленькой квартире на улице Сент-Оноре Марат блаженствовал, окруженный любовью, нежностью и заботой. Симона не жила с ним, она служила ему, служила самоотверженно и беззаветно, как и подобало служить великому, по ее мнению, человеку.
Она боготворила Марата, и, надо сказать, ему это нравилось. Крыша над головой, вкусные обеды, ванна, взятая напрокат из какой-то лавки, удобный письменный стол, за которым так хорошо пишется, теплая и чистая постель, в которой лежит готовое к ласкам молодое тело… Это был рай, сущий рай на земле, рай, в существование которого Марат по-настоящему никогда не верил.
Прожив несколько дней у Симоны, Марат получил сообщение о том, что якобы его убежище раскрыто и посланцы генерала Лафайета буквально с минуты на минуту схватят его. Испуганный Марат поспешил покинуть квартирку Симоны и укрылся у знакомого католического священника в церковном приделе. Там было холодно, сыро и неуютно, поэтому вскоре Марат покинул это убежище, чтобы укрыться в доме некоего гравера по имени Маке.
Пользуясь гостеприимством гравера, Марат попутно соблазнил любовницу хозяина – хорошенькую двадцатипятилетнюю особу по имени Фуэс. Стоило доброму граверу на неделю-другую отлучиться из дому по делам, как Фуэс начала дарить своей благосклонностью Марата. Вернувшись домой, Маке вышвырнул на улицу обоих – и неверную Фуэс, и вероломного Марата.
Марат отправился к Симоне, трезво рассудив, что по прошествии времени там его искать уже не станут. Симона крайне обрадовалась его возвращению, и все вернулось на круги своя – Марат писал, а она служила ему.
В следующий раз Марат покинул Симону, уехав в Лондон, где он чувствовал себя в большей безопасности, чем в Париже, но безденежье принудило его быстро вернуться обратно. Поиски денег оказались безуспешными, и на выручку пришла верная Симона – руководимая любовью и патриотизмом, она отдала Марату все свои скромные сбережения.
В один из мартовских дней 1791 года, когда ярко светило солнце, Марат взял свою любовницу за руку и, упав рядом с ней на колени, воскликнул: «В великом храме Природы клянусь тебе в вечной верности и беру свидетелем слышащего нас Творца!» На этом церемония бракосочетания «по Марату» закончилась. Расчувствовавшись, Симона прослезилась и обняла любимого.
Поскольку даже во время революции ни французское законодательство, ни сами французы не признавали бракосочетаний, заключенных без свидетелей «в великом храме Природы», Симона Эвpap вплоть до смерти Марата предпочитала называть себя его сестрой. Лишь после убийства «Друга народа» их брак был признан законным, что дало безутешной Симоне право именоваться вдовой Марата.
Марк Алданов писал о Симоне Эврар: «Эта несчастная женщина по-настоящему любила Марата. Она была предана ему как собака, ухаживала за ним день и ночь, отдала на его журнал свои сбережения, которые копила всю жизнь. Он был старше ее на двадцать лет и страдал неизлечимой болезнью. Марат, безобразный от природы, был покрыт сыпью, причинявшей ему в последние годы его жизни страшные мучения. Влюбиться в него было трудно. Его писания едва ли могли быть понятны малограмотной женщине. Славу и власть «друга народа» она ценила, но любила его и просто по-человечески. Кроме Симоны Эврар, вероятно, никто из знавших его людей никогда не любил Марата».
Весьма вероятно. Кроме разве что англичанки Анны-Летиции, с которой у Марата были более-менее длительные отношения. Все остальные увлечения Марата были недолгими и весьма разнородными по социальному статусу – от маркиз до работниц типографии, в которой печатался «Друг народа». Связи свои Марат афишировать не любил – образ безгрешного праведника был составной частью его репутации.
О своей репутации Марат заботился неустанно, пестовал ее и лелеял. Он с огромным вниманием следил за тем, как хвалят других, и весьма старательно (причем не всегда удачно) рекламировал себя самого.
Редактор одного журнала, некий Бриссо, считавшийся приятелем Марата, получал от него для публикации готовые рецензии, в которых Марат превозносил Марата до небес. Превозносил безудержно, чрезмерно, неустанно, буквально по любому поводу.
Однажды, уже в период революции, у Марата вышел конфликт в Париже, на Новом мосту, с отрядом королевских войск. Да и не конфликт, а так – словесная баталия. Вернувшись домой, Марат тут же послал Бриссо заметку, в которой говорилось, что «…грозный облик Марата заставил побледнеть гусаров и драгунов, подобно тому, как его научный гений в свое время заставлял бледнеть Академию». Согласитесь – написано было очень скромно и достойно. Но вот Бриссо почему-то счел иначе и фразу эту из заметки вычеркнул. В 1793 году, еще при жизни Марата, Бриссо был казнен как враг революции. Делайте выводы…