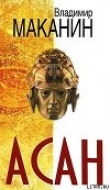Текст книги "Филофиоли"
Автор книги: Андрей Кучаев
Жанры:
Рассказ
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Но через муху он не мог туда переступить.
Не мог, и все.
Карола и Эрнест
Карола любила вещи, а вот Эрнест их до последнего времени недооценивал.
Карола обожала ходить по магазинам. Даже тогда, когда денег на покупки у них практически не было, только на самое необходимое. Но и тогда, чтобы сделать ей приятное, Эрнест покупал ей что-нибудь на последнее, проявлял мягкотелость. Зато она бывала несказанно довольна.
Вещи тоже любили ее. Они льнули к ней, ласкались, отвечая на ее ласки. Еще в общежитии, сразу после приезда, она ухитрилась из казенной комнаты, где стояла даже двухъярусная кровать, сделать уютное гнездышко. Детей у них не было, вернее, они остались там, потому что были достаточно большими, чтобы принимать самостоятельные решения. Двухъярусные кровати не понадобились, по ее приказанию Эрнест снял верхние сетки на рамах со спинками и убрал их в кладовку. Карола накинула на оставшиеся кровати пледы, лоскутные одеяла, на пол постелили польский палас, купленный по незнанию у поляка втридорога, и в комнате воцарился уют. Палас ласкался к ее ногам. Кровати только и дожидались, чтобы она прилегла. Диван, который они приперли на своем горбу с неимоверными трудностями, до того беспризорный и выброшенный кем-то, стал украшением комнаты, расцвел перламутровой окраской велюра, ласково скрипел что-то свое, когда она осчастливливала его своим «восседанием» – иначе не скажешь!
Скатерть из двух сшитых платков вологодского происхождения манила к столу и одновременно превращала его в алтарь домашнего капища, который отнюдь не напрасно ожидал жертвоприношений: они затевали чай за нарядным столом с обилием расточительно купленных сыров, колбас, паштетов, французских батонов и немецких «кухенов» – сладких пирогов. Каждый вечер к ним, на зов мира и уюта, шли знакомые. Вещи ликовали!
А как сидели на ней, гордясь своей хозяйкой, купленные случайно на распродажах совсем обычные пиджаки, жакетки, плащи и пальто всевозможных фасонов – от размахаев «полусолнцем» до узких, в пол, робронов! Купит, поносит, посмеется и подарит или продаст за бесценок, ибо с нее любую вещь с удовольствием приобретали подруги. Или она увозила их в Россию – родственникам, друзьям, что-то на продажу, оправдать дорогу. Вещи, казалось, обижались, но не сильно – она возвращала им дальнейшую жизнь, которая могла прерваться с концом распродажи или ввиду невостребованности в гебраухте – их тут отдавали в «Красный Крест», а там дело могло кончиться отъездом в далекое турецкое селение.
С ним, Эрнестом, обстояло иначе. Он не умел ценить вещей, они отвечали ему недоверием, в лучшем случае равнодушием, иной раз – враждебностью. Враждебность эта выражалась в тайной войне вещей с Эрнестом: они ухитрялись рваться, пачкаться, теряться, забываться в самых неожиданных местах. Не счесть потерянных им зонтов, сумок, ветровок, кепок и шляп. О перчатках мы не говорим!
Еще он замечал, что вещи помыкают им. Скажем, задумает какая-нибудь куртка прогуляться, так не отпустит его до тех пор, пока он не наденет именно ее. Перемеряет две-три, но остановится на той самой. И угрохает уйму времени, как какой-нибудь франт! А какое франтовство, если все куплено по уценке или в гебраухте или на блошином рынке? Стыдливо умолчим, что кое-какие обновки были у него и из того самого «Креста», который «Красный».
Конечно, мы преувеличиваем вместе с Эрнестом, наделяя вещи характером и властью, но преувеличиваем не на пустом месте!
Взгляните и вы на свое жилище: вы обнаружите в хороводе вещей вокруг вас некий ритм, мелодию и танец симпатий и антипатий!
Вот сгрудились вместе ваза, веер, кукла и стопка книг. Обратите внимание – все они одной тональности или гармонирующих оттенков! Медь тянется к керамике, зеленое к желтому, и оба цвета вместе – к ярко-красному удару кисти на вашем натюрморте.
Шкаф неожиданно приглашает на свою «крышу» до того казавшуюся ненужной безделушку, туда немедленно запрыгивает немыслимый фарфоровый гусь, и ко всему – часы, которые никак не хотели найти себе места.
В кресле водружается бессмысленная подушка, которая, как оказалось, просто родилась вместе с креслом, и плюшевая собака милостиво расположилась на этой узорной подушечке.
Карола решила, что им с Эрнестом следует жить «гетреннт» – раздельно. «Раз есть такая возможность в Германии, почему не воспользоваться?» – резонно рассудила она, и ей дали разрешение в социаламте и жилищном ведомстве. «Но ведь все равно мы будем ходить друг к другу каждый день!» – пробовал возразить он, предчувствуя массу сложностей. «Разве это плохо? Ходить друг к другу в гости?» – парировала она. Частенько последнее время ходить им в гости было лень. Отчасти же они оставались каждый у себя, озабоченные вроде бы делами на грядущее утро.
Эрнест ловил себя на мысли, что побыть одному – не так уж плохо.
Когда они разделили вещи, произошло нечто для Эрнеста трагическое: вещи, предназначенные для его жилища, не хотели ехать! Сервант, пожертвованный в свое время соседкой, размахался стеклянными створками так, что одна лопнула на тысячу осколков. От дивана отлетела ручка-подлокотник, которой упорно диван цеплялся за косяк, не желая переезжать. И уже дома вещи всячески демонстрировали свою неприязнь Эрнесту. Столик под мрамор постоянно заливался чем-нибудь липким, стряхивая с себя воду и варенье ему на колени. Этажерка падала, рассыпая книги по всему полу. Пол, памятуя о старых хозяевах, все время покрывался пылью и сором, который неизвестно откуда брался! Полотенца вечно грязнились, хотя он по десять раз мыл руки. Лампочки перегорали, торшер, упав, сделал короткое замыкание. И прочая, и прочая!
У Каролы же ее жилье сияло чистотой и уютом. Куклы, маски, эстампы и драпировки составляли интерьер какой-то сказки Шахерезады или изысканного ателье. Неудивительно, что Эрнест заставал вечерами у Каролы и изысканное общество. В общем, кораблики расплывались по жизни медленно, но верно.
Как-то Эрнест купил буквально за гроши (грош тут – десять пфеннигов) глобус-ночник. Внутрь глобуса вставлялась лампочка и подсвечивала нашу уютную планету изнутри. Эрнест долго искал подходящую лампочку, потому что старая, естественно, не горела. Долго он разбирал и собирал конструкцию, прежде чем все было готово, и лампа дала свет, как предусматривалось. Водрузив глобус на этажерку и включив его, Эрнест отошел на несколько шагов, чтобы полюбоваться. Глобус укоризненно качнул своей голубой головой и свалился на пол. Австралия вывалилась цельным куском.
Эрнест поставил глобус на полку с книгами, высоко, Австралией к стенке, а сам лег. Тоже к стенке лицом: «А, плевать!».
Похоже, рушился мир. Ведь, и впрямь, в глобусе было что-то «глобальное». Как и в наметившемся крушении его жизни.
Вообще-то Эрнест понимал, что преувеличение, о каком шла речь выше, сводившееся к наделению вещей своей жизнью, является скорее результатом перенесения собственных переживаний на неживые предметы. Но скажите нам, как и зачем происходит этот перенос?
«Если вдуматься, – рассуждал Эрнест, – мы набрасываем свои переживания на тела вещей, как карнавальные костюмы. Подлинная суть вещей таится под ними, как скрываются под карнавальными костюмами и масками самые разные люди, а мы, по правилам карнавалов, обязаны принимать их за вымышленных персонажей. И результатом является то, что скрытые под „домино“ и масками незнакомцы объединяются в одно общее понятие – „люди“, то есть является миру их однородность и, таким образом, кровное родство с нами!»
Он глянул в окно, огромное солнце закатывалось за гребенку черепичных крыш на горизонте. Вокруг плавилось марево уходящего перегретого дня, а с другой стороны, в противоположном конце неба, видного уже из окна спальни, темная холодная синева выкатила на отмель лодку луны.
«Луна, солнце, земля – тоже вещи! Как глобус, стол и стул. Как картины в раме: холст, рама, краски – карнавальное убранство чего-то, что существует в картине как в вещи, независимо от наших переживаний, от написанного на холсте. И это делает картину однородной со стулом и луной».
Эрнест посмотрел на картину, висевшую на стене, на ней была изображена Карола, написанная ее знакомой художницей из Петербурга. Сходство было и с Каролой и с той художницей, и в этом двоении чудилось Эрнесту подсказка: без отношения к вещи кого-то второго она как бы наполовину переставала существовать. Точно так же, как в вещах, окружавших его, присутствовала незримо Карола, а сами вещи, вероятно, присутствовали на краю ее сознания. Вместе они трудились над приданием вещам реальности, даже не догадываясь, каковы они сами по себе! «А они-то не так просты! – торжественно заключил Эрнест. – Они имеют отношение к таким явлениям и телам, как Луна, солнечные протуберанцы, космические спирали!»
Эрнест посмотрел на повернутый к стенке глобус. Провала на месте Австралии не было видно. Еще прыжок – и он станет настоящей планетой!
Но никакого прыжка не происходило. Между живым и неживым все еще лежала бездна.
«Разве живое – не усложнившееся бесконечно неживое?» – спрашивал себя Эрнест. И отвечал: «А почему не сказать себе так: именно неживое есть бесконечно упростившееся до стихий живое! Может, это и есть эволюция? Ведь говорят же ученые, что солнце погаснет, и во вселенной воцарится мир неодушевленных вещей!».
Между тем Карола совсем перестала приходить, ограничиваясь звонками, и он все реже и реже выходил на улицу. Вещи все более отдалялись от него. Они все стали как бы на одно лицо, особенно это ощущалось в сумерки – вещи были неотличимы от обоев. Как-то он вернулся с короткой прогулки и не узнал собственного жилища. Он стоял в передней и не понимал, куда идти, где кухня и где спальня? Налетел на вешалку-стойку с «рогами» и шарахнулся от нее в ужасе, как от дикого зверя.
В спальню с глобусом он больше не ходил, ночевал на двух сдвинутых креслах перед телевизором в большой комнате. Телевизор немного помогал. Наконец он совсем не смог улечься спать в своей квартире. Он поднялся на чердак, где у него была каморка-кладовка, их дом не имел «келлера», подвала, где обычно жильцы складывают барахло. В своей чердачной кладовке он держал легкую плетеную ротанговую мебель по просьбе Каролы, которая все мечтала расставить ее когда-нибудь, когда у них будет большой дом с солярием или верандой, на худой конец.
В крыше каморки было устроено окно-фрамуга, квадратный люк, как принято в Германии во многих домах, наклонно направленный прямо в небо.
Эрнест сел в кресло и стал смотреть через это окно в небесную даль. «Карола!» – позвал он. Пахло солнцем, черепицей, ротангом и пылью. В окно медленно вплыла луна. Круглая, объемная, она напоминала глобус с лампочкой внутри: отчетливо просматривались материки.
«Интересно, есть ли там на месте Австралия? Или тоже дыра?» – думал Эрнест.
Каролааа! – позвал он.
Кааа – рооо – лааа!
Неожиданно голос его как-то пресекся, а потом перешел в жалобный крик, что-то наподобие воя.
Ааа-оооо-уууу!
Звук этот, этот вой поднимался к небу, уплывал навстречу луне, слабел.
Эрнест прислушался. Издалека донесся ответный звук, точно такой же вой.
Только на октаву выше.
Филофиоли
Когда он поселился в этой квартире, первое время его будил звон колоколов католической кирхи, расположенной вплотную к его новому дому.
Если честно, это был так называемый сеньорин дом, то есть жилище, предназначенное для пожилых, что его слегка покоробило: он не выбирал сам, его поставил перед фактом чиновник из ведомства по социальному жилью. Выбирать не приходилось, да и прочел он про «сеньорин дом» только в договоре на аренду, когда было поздно. «Вот так и въезжают в старость!» – подумал он и невесело улыбнулся. Переселился он сюда после развода с женой. Она как бы заранее готовила его к одинокой старости.
К его удивлению, в доме было полно не только молодых, но и их детей. Последнее не очень радовало, потому что от детей был шум.
«Вот и приметы старости – становлюсь детоненавистником и брюзгой», – заключил он. Потом ему стали дарить цветы. Дарила соседка сверху, похоже, баптистка. Она же заманивала его на некие религиозные собрания, но он как мог сопротивлялся. А дарила она ему цветы вполне живые, в горшках, с собой он никаких цветов не привез, боясь брать ответственность хоть за какую живность. «Не полью, забуду – засохнут, – размышлял он. – А не полить и забыть теперь мне, „старику“, минутное дело. Да и поездки затруднительны, надо просить ту же соседку поливать. Не вполне удобно».
Всего образовалось пять горшков – герань в спальне, малюсенькой комнате, которая даже не считалась отдельной, два горшка в кухне с голубыми цветочками, которые он условно называл «крокусами», и еще два – в большой комнате, эти цветы были розовыми, и он называл их «желтофиолями», как бы намекая на известное стихотворение Бродского. Почему «желтофиолями» он назвал розовые цветы, он не размышлял. Он шел только от литературных ассоциаций, которых у него было множество.
Еще был маленький жестяной горшок-ведерко с искусственными цветами, их он привез с собой, благо не нужно ни поливать, ни удобрять или, чего доброго, менять им горшок и землю, а этого, он чувствовал, рано или поздно потребуют остальные, живые цветы.
Часто, поливая цветы, он по рассеянности лил и в этот жестяной горшок-ведерко, в котором упорно не вянули фиолетовые «глазки», которым он придумал тоже название: «филофиоли». Назло Бродскому, который, по его мнению, ввернул свои «желтофиоли» для красного словца в рифму. Он за что-то недолюбливал Бродского. Скорее всего за Нобелевскую премию. А может, потому, что сам тайком писал стихи. Правда, у него хватало ума их никому не показывать. «Филофиоли» были сделаны из шелка.
Дважды уезжал он надолго, дважды соседка несла вахту при его цветах, и всякий раз он, благодаря ее и вручая ей сувениры, испытывал неловкость. На третий раз он так спешил, что не оставил соседке ключей, не поручил цветов и не вынес их, как планировал, на улицу, чтобы их хоть изредка поливал дождь или соседи из сострадания. Все забыл, очень спешил…
Когда вернулся, цветы были в плачевном состоянии. Герань потеряла почти все листья, они частично попадали, частично стали желтыми и черными. О цветках нечего и говорить – соцветия лежали на подоконнике, превратившись в прах. «Желтофиоли» и «крокусы» осыпались, правда, листья у них не все пожухли, часть каким-то чудом зеленела. Соседка сразу спросила, что с цветами, и он соврал, что «аллес ин орднунг» – «все в порядке», потому якобы, что он отдавал их друзьям – «фройнден». Соседка удовлетворилась ответом, но, как он подозревал, не поверила до конца. Особенно после того, как он пообещал прийти на собрание в ее общество или кружок, но не пришел, конечно, как всегда. «Шаде, шаде», – бормотала соседка. «Жаль, жаль». «Мне тоже», – сказал он, хотя ему не было жалко ни цветов, ни пропущенного молитвенного бдения с баптистами.
Что его удивило, – поникли, как-то съежились искусственные цветы, «филофиоли». Ведь они не требовали поливки. На всякий случай он, отпаивая пострадавшие цветы, полил и «филофиоли».
Наутро началось возвращение цветов к жизни. Первой очнулась герань в спальне. Она даже выбросила хилые цветоножки. «Крокусы» хоть и не зацвели, но оставшаяся листва на них зазеленела, жухлую он оборвал, как сделал и с остальной листвой – оборвал и гераневые черно-коричневые лепешки, и бледно-желтые мелкие стрелы-листья «желтофиолей». С искусственных листиков «филофиолей» он смахнул пыль. Мало того, он обмел и цветы и листья «филофиолей» мокрым веничком для крошек, купленным вместе с совочком на «фломаркте». «Филофиоли» неохотно воспряли на третий день, когда на герани закраснели первые бутоны.
Теперь он регулярно поливал вместе с остальными и искусственные цветы. Он помнил, как их покупала жена, тоже на «блошином рынке», из-за приглянувшегося ей ведерка, в котором они стояли. Он подумал и насыпал в ведерко немного земли. Ему показалось, что «филофиоли» после этого окрепли, стали ярче.
Последний раз, уезжая, он нашел время препоручить цветы соседке, – они договорились, что он поставит цветы на лестничной площадке, чтобы ей всякий раз не отпирать квартиры, не возиться с замком. Она будет присматривать за цветами буквально «походя», спускаясь из своей квартиры по лестнице мимо его «крокусов», «желтофиолей» и герани без кавычек. Филофиоли он, естественно, не выставил.
Вернулся он на этот раз совсем зимой. Хотя какая тут зима? Просто в подъезде дома было холодно, потому что ноябрь, его конец, принес даже немного снега. Все его цветы на площадке тем не менее благоденствовали. Герань даже пышнее прежнего расцвела, словно давала понять, что с новой, хоть и временной хозяйкой им, цветам, несравненно легче.
Только «филофиоли» скукожились совсем. Все его попытки «выстирать» их ни к чему не привели. Лишь спустя две недели, благодаря непрерывной поливке и прочим ухищрениям, таким как обновление землицы, перестановка на солнечные места, даже прямому заискиванию вперемежку с извинениями, цветы из шелка соблаговолили просигнализировать, что готовы жить и дальше.
Стебли «филофиолей» окрепли и налились, листья стали отдавать глянцем, а цветочков стало как будто больше. Или ему только так казалось?
Теперь его занимает проблема: как уехать? Ведь поручить поливать «филофиоли» соседке будет на первый взгляд безумием – кто поливает искусственные цветы?
«А может быть, я действительно схожу с ума?» – думает он.
И счастливо улыбается.
Вспышка
Однажды ночью он проснулся от страха. От жуткого страха, что он обязательно умрет. Как залетела эта мысль ему в сознание? Во сне? Или он уже заснул с ней, и во сне она ему додумалась?
В этой мысли самым страшным словом было «обязательно». Потому что неизбежность смерти, заключенная в этом слове, была страшнее, чем сама, пока еще непонятная и загадочная, смерть. Получалось, что его жизнь, которая зачем-то все еще текла, как бы издевается над ним, словно палач, пробующий на прочность веревку. Кто-то невидимый словно тянул время, его время. Чем бы ни заполнилось это время, все сразу потеряет смысл, ибо слово «обязательно» нависает над серыми буднями тенью невидимых крыл. «Обязательно» значит «неизбежно». Как ни крути.
Испуг был так силен, что он встал, закурил и стал ходить по комнате, пытаясь как-то отвлечься. Ему пришел на память далекий знакомый, писатель, который покончил с собой, вызвав тогда у многих недоумение: «Ну, пил. Ну, бросила женщина. Но кончать жизнь самоубийством зачем?!».
Сейчас ему казалось, что он понимает того своего далекого знакомого. «Он всего-навсего разделался с тягомотиной! – заключил он. – Обманул хоть в чем-то смерть, которая подсовывала ему видимость жизни, сама готовясь к прыжку».
Он представился себе этаким петрушкой, паяцем, который ест, пьет, что-то делает, думает, что существует, а на самом деле кривляется перед ней, смертью.
Он вспомнил о последних днях Толстого, и ему стало немного стыдно за великого старца: он тоже «кривлялся»! «Жизнь – воплощение… Довольно воплощаться!» – что-то в этом роде шептал на смертном одре Лев Николаевич. «Думал вывернуться, – ухмыльнулся он. – Думал, некто ему в последний миг подскажет лазейку. Выход! Не захотел пустить к себе священника для исповеди, чтобы не было, как у всех – ведь все так и не избегли, хотя и исповедовались».
Страх возник, как вспышка, и, как вспышка, исчез. Погас. В эту минуту в нем умерла душа. Как-то ясно он это понял.
Если душа умерла – чему теперь умирать? Страх исчез. Смерть тела – это уже другое.
Тело его давно умирает, ибо верхняя точка жизненной траектории была уже пройдена. Теперь только вниз. Когда падают молочные зубы, это начало траектории, когда остаются последние – это конец.
Теперь к смерти он относился, как автомобиль к своему окончательному износу, если бы автомобиль мог думать. Какие-то части его еще можно починить, наладить, но когда поржавеет весь кузов, когда выйдет из строя окончательно двигатель, то прямая дорога на «шрот», как здесь зовут автомобильные свалки.
Жизнь без души стала какой-то странной. Понемногу отдалились знакомые, не находя в нем, вероятно, «душевного» отклика на свои чувства. Животные тоже как-то быстро теряли к нему интерес. Видно, душа его была нужна не только ему самому, но и окружающим. И людям, и вещам. Своим бездушием он пугал людей, отчуждал как бы даже вещи: фотоаппарат висел на вешалке невостребованный месяцами, пылесос стоял и сам пылился. От стиральной машины он отказался – стирал по необходимости прямо под душем. «Зомби», – подумал он. Нет, он был не зомби, а что-то другое. Ведь зомби – робот, а он каким-то чудом оставался человеком. Словно герой романа Шамиссо, который потерял свою тень. Экстрасенсы особенно шарахались от него – он путал им карты.
Он перестал бояться примет, хотя раньше жуть как их страшился. Но приметы призваны были пугать душу, которой у него не было: «автомобиль» же его безо всяких примет терял каждый день что-нибудь по мелочи. Он вспомнил, как ездил с неработающей фарой, залепив ее скотчем. Приметы для него были чем-то вроде приглашения на танцы безногому.
Он перестал ходить к врачу. Перестал звонить людям, которым раньше звонил, чтобы, как он теперь понял, подтвердить собственное существование. Для этого мы ходим и к врачам, между прочим.
Как-то он расплакался над документальными кадрами, когда по телевизору показывали российских беспризорных детей. Он понял, что плачет не от сопереживания их страданиям, а от собственного умиления сопереживанием этим страданиям. «Что же во мне плачет, если душа мертва?» – спрашивал он себя. И отвечал: «Память». Как у инвалидов фантомная боль в потерянной конечности. На месте, где была душа, остались оборванные нервные волокна-провода, как в той, вышедшей из строя после аварии фаре.
Теперь женщины. Он знал, чувствовал, что в нем еще оставалась мужская сила, но обратить ее к конкретному объекту не было никакого желания: женщины прежде всего требуют участия души в отношениях, а ее-то как раз ему недоставало! Опять же по старой памяти он оглядывался на красоток, на женщин с женскими достоинствами, но сделать хоть какое-то движение в сторону сближения казалось ему диким, потому что всем движениям предшествует движение души. А где она? Умерла!
Церкви он теперь обходил стороной, даже местные, католические и евангелические. Одна была совсем рядом, он никогда не шел в дом или из дома той дорогой, что пролегала мимо и была короче других. Раньше он не обращал на них внимания, равнодушно проходил мимо. Церкви, ритуал, все, что связано с религией, перешло опять же в область примет – приглашений к обеду для человека, которому удалили желудок. Ел он, надо сказать, тоже по привычке: готовил что-то, но чувства настоящего голода не испытывал. Ел по часам.
От прежней жизни осталась коллекция музыкальных записей. Он попробовал слушать, стряхнул пыль с кассет и компакт-дисков, поставил на запыленный портативный музыкальный центр. Ничто не отзывалось внутри. Он только автоматически вспоминал, когда и где он впервые услышал ту или иную музыку. Или припоминал, с чем связана та или другая песня, симфония или джазовая композиция. Банально связывал, как связывают люди «Чижика-пыжика» со своим первым неумелым тыканьем в случайный рояль.
Читая стихи, он равнодушно, но зорко замечал, что авторы их изо всех сил боролись с тоской одиночества, ужасом перед потерей любимых, – короче – боролись со страхом смерти. До тех пор, пока у них не умирала душа, как у него самого. Такие произведения он тоже теперь узнавал. Их было на удивление мало. Вероятно, потому, что он читал стихи только тех поэтов, которых раньше очень высоко ставил. Ему вспоминались преждевременно прерванные биографии: Есенин, Рембо, Маяковский, Вийон, – не обязательно прерванные самоубийством, иногда – другим способом, как еще у Рубцова, Лермонтова, Клюева…
Ему было стыдно перед оставшимися в России близкими, что он почти теперь не думает о них, но, с другой стороны, он находил справедливым их разлуку, ибо чем он мог помочь им? Как облегчить им жизнь, если вместо любви в нем оставалась лишь способность пестовать приятные чувства от сознания, что он их умильно любит, и неприятные – от тревоги за их судьбу?! Теперь эта тревога выражалась не в желании положить за них свою жизнь, а в желании, чтобы причины тревог исчезли и его собственная жизнь стала снова безоблачной. Ему недоступно было теперь испытать подлинное удовольствие самому, равно как и боль, но и чужого наслаждения или муки он не мог принять близко к сердцу. Так невозможно, наверное, «мысленно» пообедать за соседа или «в уме» позаниматься любовью за удачливого соперника.
Страх уничтожил душу.
«На чем же основан этот страх? – размышлял он. – Ведь это не страх за собственное свое существование, основанный на желании сохранить его и поддержать любой ценой. Нет! Потому что и существование свое человек ощущает только при мысленном сравнении с небытием, то есть возможной смертью, о которой не знает ничего, кроме разве ухода близких и далеких, всегда безвозвратного! Тут что-то более важное подмешано. Скажем, внутреннее согласие человека на любой ад (не говоря уже о рае) лишь бы существовать в любой форме! Это ведь лучше, чем бесконечное НИЧТО! Придумав Бога, человек придумал и спасение. А получив спасение, пустился во все тяжкие! „Если есть Бог, то все позволено!“ – вот о чем не догадался даже Федор Михайлович! Вот тут-то Бог и умер! Он не желал существовать лишь как оправдание человеческих бесчинств! Его-то, Бога, смерть и ощутили люди! Иначе как бы они поняли фразу Ницше о смерти Бога? Поняли и ужаснулись. Страх перед смертью теперь стал страхом перед Богоотсутствием! Теперь-то уж никто и ничто не спасет! Смерть настанет окончательно и бесповоротно! И такой страх убивает душу. Мужество Толстого как раз в том, что он не испугался! Не позвал священника. Принял все на себя. А я – испугался! Вот и вся разница с настоящим титаном! Настоящим человеком!»
Утром он отправился на улицу. Было воскресенье, вовсю звонили колокола. Он заставил себя пойти к кирхе, на старинный двор, превращенный нынче в автостоянку. Тут толпилась празднично одетая публика. Он стороной подошел к стене старой кладки, на которой красовалась доска с историей этого строения, изложенной вкратце, в датах. В частности, там было написано, что монастырь здешний упразднил Наполеон I, который превратил монастырские постройки в конюшни. «Любил монарх превращать храмы в стойла!» – мрачно усмехнулся он, вспоминая Москву и 12-й год. «Кстати, если наше неверие распространяется и на неживые предметы, как оно распространяется сначала на церковь, потом на церковные постройки, потом на сами камни, из которых сложены храмы, то выходит, оно, наше неверие, идет и в прошлое, его туда уводит история, постоянство и прочность камней, вечность». Доска упоминала об американских бомбардировках, после которых собор пришлось восстанавливать. «Символ веры сначала бомбили, потом восстанавливали. Хоть и разные, но все те же двуногие существа!»
Из собора доносилось пение под аккомпанемент органа. «Вероятно, какое-нибудь торжество. Может быть, крестят ребенка или венчаются».
Он поискал и нашел прерванную мысль. «Результат крушения веры, ее утраты – это конюшни вместо храмов, бомбардировки и попытки восстановить невосстановимое…» «Невосстановимое»? «А разве своим неверием не замахиваемся мы на верования других?…Даже тех, кто жил раньше и упокоился со словами веры на устах?» «А не слишком ли на многое мы замахиваемся?» «Разве могут они, для которых жив был Бог, по нашей прихоти лишиться его, как лишились монастыря?» «Если мы не в силах опрокинуть их верования в прошлом, то она, эта их вера, должна… спасти нас!» «Они имеют право на защиту». «Как?!» «Через живых!» «Зафилософствовался».
Он рассеяно шел среди празднично одетых людей. Лица их сияли улыбками. У многих были цветы. «Наверное, все-таки свадьба…»
Чего-то не хватало в его рассуждениях. Внутри было пусто и холодно. Он был тут, как обычно в последнее время, всем чужой.
Молчали камни. Молчало небо. Казалось, не хватало какого-то пустяка, мелочи. Кто-то ему говорил, что на «том» свете все обстоит точно так же, как и на этом, за исключением небольшого сдвига, этакого постоянно и повсюду присутствующего нарушения. «Чуть-чуть вбок!» – так он сформулировал для себя.
Из костела вышли люди, впереди всех пара, жених с невестой. Она была в белом платье, украшенном цветами. «Флер д’оранж!» – подумал он. Жених держал большой букет. Только теперь он заметил в руках невесты фотоаппарат. Она искала глазами кого-нибудь в толпе, кто бы их щелкнул, но окружающие как-то отстранялись, занятые своим, они как бы выводили девушку в белом на него. Она очутилась рядом. «Битте!» – она протянула ему камеру. Он взял аппарат, встал на то место, которое она ему указала. «Аллес фертиг!» – сказала она, давая понять, что камера настроена, только щелкнуть. Он поймал в объектив их изображение. Живо представил себе будущий снимок: парочка с улыбками и цветами, а над ними парящий ангел. «Браки заключаются на небесах. Так или не так?» – он нажал на спуск. На лицах окружающих мелькнул отблеск фотовспышки. А он поискал над головами новобрачных ангела. Машинально. Девушка поняла его ищущий взгляд по-своему. Она протянула руку и взяла у него аппарат, самого же его она слегка отодвинула, чтобы удобнее было сфотографировать. «Адрес вы напишете потом!» – сказала она, кажется.
Он покорно встал, попытался улыбнуться. Вокруг люди примолкли и воззрились на него. Он растянул рот, поискал, куда пристроить взгляд, чтобы не встречаться с чужими взглядами. Получилось, он смотрел туда, где раньше поместил ангела.
Раздался щелчок затвора, и последовала вспышка. Ослепительный свет шел как раз оттуда, где был ангельский лик.
Он упал.
Когда он очнулся и открыл глаза, все было по-прежнему.
Только «чуть-чуть вбок»…