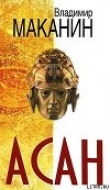Текст книги "Филофиоли"
Автор книги: Андрей Кучаев
Жанры:
Рассказ
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Annotation
Опубликовано в журнале «Знамя» 2002, № 4
Андрей Кучаев
Тайна розового сада
Мертвая природа оживает
Дохлая мышь
Муха
Карола и Эрнест
Филофиоли
Вспышка
Андрей Кучаев
Филофиоли [Семь рассказов]
Тайна розового сада
Недалеко от его дома, сразу за кирхой, начинался глухой забор. Что там за ним? Ему хотелось встать на камень или ящик и заглянуть. Но рядом не было ничего подходящего. Да и не принято тут было заглядывать за заборы, подглядывать за частной чужой жизнью. А очень хотелось.
Поверх забора зеленой каймой кустились верхушки каких-то дерев. Чуть дальше можно было разглядеть крышу дома, вероятно, стоящего в центре участка.
Своей длинной стороной забор смотрел на поле, которое начиналось не сразу от забора, а ниже – усадьба вместе с оградой была выше поля, как бывают выше речной глади хоромы на крутояре. И с этой стороны нельзя ничего было разглядеть. Вход в усадьбу был со стороны улочки, заставленной старыми белеными домами в перекрестиях мореных балок. Перед окнами почти везде стояли вплотную к переплетам ящики с геранями. Цветы свешивались до самого тротуара. Ворота всегда были закрыты. Иди узнай, что там за ними?
Гуляя, он постоянно возвращался к ограде то со стороны поля, то со стороны улицы. Или подходил к ней в проулке, круто падающем от улицы к полю внизу и отделяющем усадьбу от церковного двора.
Почему ему так важно было узнать, что внутри? Он и сам не знал. Знал только, что там нечто совершенно особенное, может быть, прекрасное, а может, наоборот. Во всяком случае, жизнь его отныне попала в зависимость от разгадки тайны усадьбы за оградой.
Тут следует сказать, что жизнь его неведомым образом подошла к некоему пределу, черте. А может быть, развилке. Требовалась подсказка, толчок или предостерегающий окрик. Такое бывает в судьбе каждого: цепочка событий позади – жизнь предыдущая не переливается в жизнь последующую, а жизнь насущная, которая и есть переход от прошлого к будущему, перестает быть жизнью. Человек оказывается в недо – недоуменной подвешенности, живет по инерции, слабеющей день ото дня. Еще немного, и жизнь вовсе может прекратиться, если не принять экстренных мер. Так что скажем откровенно: он просто придумал сам, что подсказка, толчок или окрик должны последовать из-за забора. Объяснение тем более выглядит верно, что ждать ему сигналов больше было неоткуда. Все попытки обойтись без помощи извне кончились крахом. Оборвались связи, отдалились люди. Дела отступили на второй план. Вся действительность вокруг, природа, вся вселенная потупились в неловкости за него, что он медлит круто повернуть руль.
Здесь как нельзя более уместно будет привести и пословицу и что за ней: «Ищите женщину!». Именно женщина, в его случае отсутствие ее, и привело к сложившемуся положению. Раньше именно женщины были всегда причиной изменений в его судьбе. Браки, разрывы, романы, увлечения кидали его, как волны судно, вверх-вниз, из стороны в сторону. Сейчас он попал в полный штиль, полосу безветрия. Паруса повисли, пора было включать двигатель.
Он решил действовать.
Он взял стремянку, которую соседи держали в подъезде, благо ночью никто ее не хватится, и, когда луна появилась в окне во всей красе, – а это бывало после часу ночи, – отправился в сторону скрытой забором усадьбы. Он решил проникнуть за забор со стороны узкого проулка, дабы случайный поздний прохожий не застал его за явно незаконными действиями, а проулком ночью кто пойдет?
Он приготовился к любой неожиданности: нападению сторожевых псов, выстрелу сторожа или пальбе из пистолета, пущенного в ход разъяренными хозяевами с балкона. Вою сирены тревоги, включению на полную мощность прожекторов охраны, срабатыванию самострела-арбалета от задетой им незамеченной проволоки. Громовое безмолвие встретило его по ту сторону ограды. Ни звука, ни огонька. Только лунный свет обливал серебром все вокруг.
Когда он немного успокоился и пригляделся, различили его глаза, как он и ожидал, дом с мезонином и балконом, с боковыми застекленными флигелями, ровную широкую лужайку перед домом и в центре – стеклянное сооружение, напоминающее теплицу или оранжерею.
Он пошел к ней, озираясь и стараясь скорей попасть в тень, отбрасываемую строениями. Никто не появился. Никто не засветил огня, не шелохнул занавеской.
Он вплотную подошел к оранжерее – это оказалась именно она, он понял, еще подходя, по аромату роз, – потянул стеклянную дверь, она отворилась. Одуряющий аромат навалился на него с порога.
Оранжерея была сплошным розовым садом. Здесь не было никаких растений, кроме роз.
Казалось, хозяин или хозяйка, неведомый садовник вышли за минуту до его прихода. На лепестках цветов дрожали капли воды от поливки. Садовые ножницы лежали рядом со скамеечкой, около которой еще покоились срезанные побеги в шипах и мерцало несколько лепестков.
Все розы при свете луны выглядели почти белыми, словно отлиты были из серебра.
Он понял, что в этом стеклянном параллелепипеде неведомо как воплощено его состояние, смоделирована его ожидающая душа. Значит, и ответ где-то должен быть поблизости. Ответ на вопрос, который мучил его последние дни: как жить и, главное, зачем?
Очарованный, он шел в самую гущу кустов, иногда отстраняя колючие ветви, словно пытавшиеся удержать его. Наконец он остановился перед особенно пышным растением. Огромные цветы все разом обернулись в его сторону, ему почудилась насмешка с примесью сострадания.
Самый крупный цветок оказался совсем близко, он наклонил к нему лицо вплотную и посмотрел напряженно в нежную белую мглу, которой полнился уходящий в глубь цветка тоннель.
Неизвестно, сколько прошло времени, молочный туман перед ним начал сгущаться, пока не изваялось из него лицо, наподобие тех, что украшают орнаменты барельефов, выполненных в манере югенд-стиля. Загадочное отрешенное лицо обитательницы иных миров, знающее что-то такое о своем мире, что недоступно для постижения в здешнем.
– Ты хочешь что-то узнать? – одними глазами спросила женщина.
– Да, – едва слышно прошептал или даже подумал он.
– Я поняла твой вопрос. Знай же, ты, как всякий смертный, боишься будущего, потому что в нем спрятана твоя смерть, как я в этом цветке. Что будет с тобой до того, не имеет никакого значения. Если же ты не хочешь умирать… – тут прекрасное лицо озарилось улыбкой, – тебе стоит только сказать об этом.
– Кому? – как-то униженно спросил он.
– Мне. Ведь я и есть твоя смерть. Если не хочешь меня, так и скажи!
– А если я скажу, что… хочу тебя?
– Ты и получишь меня!
– Надолго?
– А на сколько ты бы хотел?
– На тысячу лет!
– Почему не на тысячу двести? – женщина засмеялась и дивно пропала.
Утром он очнулся от глубокого обморока в розарии чужого участка. Сторож хотел сдать его полиции, но, учуяв запах вина, к тому же от чужестранца, отпустил его на все четыре.
Он умер через месяц от заражения крови в университетской больнице, в гематологическом отделении, в городке Ессен-Верден, которому как раз исполнилась одна тысяча двести лет. Он умирал под салюты и фейерверки по этому случаю. На небе была высвечена цифра 1200.
Причина заражения – укол шипа чайной розы.
Мертвая природа оживает
По-немецки французское слово «натюрморт» – «мертвая природа» – звучит несколько иначе, но близко по значению: «штилльлебен» – «тихая, или спокойная, жизнь». Ясно, что и немецкий язык предполагает нечто подозрительно спокойное – ту же омертвевшую в смерти жизнь, – но делается это по-немецки поэтично.
Натюрморт на стене моей комнаты в Германии изображал великолепные фрукты и стакан, стоящий на блюдце, с ложечкой, сломанной поверхностью светлого чая с лимоном. Скатерть иссиня-белая. Стул у окна – коричневая спинка на фоне переплета. Пейзаж за окном размыт.
Соломенное сиденье второго стула чуть вдвинуто в передний край картины. Намек на Ван Гога.
Конечно, это хорошая репродукция. Слишком высок класс живописца, сработавшего этот шедевр на границе гиперреализма и немецкого экспрессионизма, чтобы быть подлинником. Шерстюк блаженной памяти и той же памяти Макс Эрнст. Немного Мунк. Немного Матисс периода натюрмортов.
Такой подлинник не может украшать комнату бедного эмигранта. Я принес его со «шпермюля» – кратковременной свалки ненужных вещей, выставленных хозяевами и еще не убранных городской службой очистки.
Я завесил им дефект обоев, прикрывавших, в свою очередь, дефект стены по воле прежних обитателей моей квартиры. Обои лопнули, полость под ними обнаружилась, я повесил найденную картину – натюрморт, или штилльлебен. Наряду с другими картинами, часть из которых была написана друзьями-художниками, что не мешало этим, пока не бессмертным полотнам прикрывать другие дефекты моих стен. У меня чуть влажно и жарко, – стены «гуляют».
Просыпаясь, первое, что я вижу – стол и фрукты: яблоки и лимоны. И стакан, в котором покоятся светлый китайский чай, ложка и ломтик опять же лимона.
Обидно, конечно, иметь репродукцию, а не подлинник или хотя бы хорошую копию. Но не может оказаться вещь со шпермюля подлинником!
Расстояние между мною, яблоками, лимонами и стаканом с чаем было тем длиннее, чем больше стадий претерпела живопись.
От возникновения идеи письма до самого процесса письма, творчества, а потом и репродуцирования, размножения.
«Когда умерла „природа“? Успокоилась жизнь? – думаю я. – В тот ли момент, когда художник расположил все предметы на столе? Или когда нанес первый мазок на холст? Или когда последней поставил свою неразборчивую подпись прямо на скатерти? Или когда включился печатный станок?»
Репродукция была настолько хорошей, качественной, что ее не потребовалось прикрывать стеклом. Выбросили состоятельные люди или… невежды. Я подхожу близко, смотрю на поверхность картины: бумага или картон? Ведь гладкое письмо акрилом по картону под лак может быть неотличимо от репродукции, являясь на самом деле подлинником. Если же бумага – всякие сомнения отпадают, по бумаге не работают такие вещи в такой манере. По бумаге работают акварелью или гуашью с темперой. А тут ощутим мазок, некая лихость подлинной станковой живописи. И откуда у меня такая жажда обладать подлинником, не заплатив ни копейки?
Нет, все-таки репродукция, – материал похож на бумагу, наклеенную на картон. Хотя… «Прожектер!» – обругал я себя.
Впрочем, дело не в жажде дармовщины со свалки, мне важно знать, как далеко отстоит от меня безвестный творец картины. Одно дело, когда в доме присутствует вещь, которой касалась рука художника, и совсем другое дело, если на стене красуется типографский оттиск, один из десятков. Тут нет никакой мистики и оккультизма, тем более фетишизма, здесь есть только желание максимально приблизиться ко всякому предмету, вещи, хранящей память о творце. А что такое память, как не следы на магнитной пленке, фотобумаге, гипсе, мраморе?
«Стоп! – в этом месте я остановил свои защитительные эскапады. – Вот разница – гипсовая посмертная маска или копии с нее?!»
«Разве не кощунство – множить то, что является горестным свидетельством таинств, свершаемых в последние мгновения перед окончательным расставанием?»
«Такое же кощунство – массовое изготовление копий и репродукций! Все эти „Мадонны с младенцем“, существующие в тысячах ларьков в миллионах экземпляров! Рафаэль бы сошел с ума! Леонардо бы удавился! Эль Греко – утопился!»
«Так что же, долой пластинки? Записи на дисках? Музыка – в концертных залах, живопись – в музеях?! Только скульпторам повезло, вместе с архитекторами и авторами военных маршей!»
«А книги? Что же, только авторское исполнение? Или рукопись? Или инкунабула, на худой конец?»
«Чепуха! Носитель информации – экран, диск, типографский оттиск – все это второстепенно! Важен дух художника, его биоэнергетика. Почему же платят такие деньги за подлинники? Тех же авторских клавиров, нот, хотя их не поставить на воспроизводящее устройство? Потому что только подлинник и хранит упомянутую энергию!»
«Биоэнергетика – тоже чушь. Все дело во мне самом! Прав Платон. Все во мне. Но для того, чтобы во мне возникло чувство присутствия высокого искусства, сродни тому, что владело художником во время акта творения, зашифрованное сложнейшим образом на холсте или другом носителе, я должен хоть раз увидеть подлинник. Если же я его никогда не видел, я должен им обладать! В противном случае все – профанация! Я не видел ни разу подлинника моего натюрморта, не знаю даже автора, других его работ, значит, мой восторг – чистый снобизм. Я выдумал сначала „материю прекрасного“, а потом стал свою выдумку претворять в жизнь. Прав не я, а бывшие владельцы натюрморта, выкинувшие его вместе с продавленной тахтой (почему ты не взял ее – свой идеал?) и колченогими стульями».
«Тебя окружают воплощенные свидетельства твоего заблуждения. Твой труд – пустое самоутверждение, исходящее из ложных посылок! Тут и не пахнет подлинным искусством, раз ты не можешь отличить подлинника от дешевки! Больше того, – раз ты способен вдохновляться дешевкой!»
«Только творцы живут в общем пространстве, будучи подключены к какому-то общему источнику. Сколько ни смотри далекий от духа художественности человек, он ничего не увидит ни в Лувре, ни в мастерской художника, ни в альбоме».
«Восприятие – то же творчество, просто на другом уровне. Вот отчего важно, подлинник висит у меня на стене или репродукция! Потому что важно, насколько я одержим жаждой прекрасного, – как всякая жажда, сила ее и есть единственная гарантия грядущего удовлетворения! И грош мне цена, если я завожусь от шедевра с помойки! Если она не раскрывает мне глаз, эта жажда, не делает меня соучастником творчества!»
Рассуждая таким образом, я оказался рядом со «штилльлебеном», взгляд мой упал на прекрасно выписанный стакан с чаем, который я почему-то посчитал китайским. Я ощутил вполне конкретную человеческую жажду. Рука моя потянулась непроизвольно к стакану на картине. Поймав себя на этом жесте, я рассмеялся. «Дошел до точки, теоретик!» – съязвил я.
Что касается упомянутой мной «материи творчества», ее в моем жилище хватало. Стены были увешаны картинами моих знакомых художников. В папках лежали их рисунки вперемешку с моими собственными набросками. Полки были заставлены книгами, многие из которых имели дарственные надписи авторов. Мои рукописи загромождали столы и частично стулья, диваны, лежали даже на полу. Картину довершали компьютер и две пишущие машинки, с русским и латинским шрифтами.
И все это могло оказаться сплошной профанацией, чушью. Такие подозрения у меня были. Во всяком случае в отношении некоторых авторов картин и книг они были явно небезосновательны.
И то, что хозяин был не чужд сочинительству, бросало дополнительную тень на ситуацию.
На стене красовалась среди прочих и злополучная картина с подозрением на репродуцированность. Или на подлинность.
Ни больше, ни меньше, мне предстояло выяснить не только ее происхождение, но и справедливость приведенных выше рассуждений. Результатом должно стать вынесение приговора: не является ли вся эта возня вокруг «материи творчества», да и само творчество, всего лишь игрой больных честолюбий немногих снобов и огромного числа бездельников? Не занимаюсь ли я сам бессмысленным и даже вредным делом, отрывая себя и других от дел полезных?
«Что ни говори, а искусство было и остается драгоценной безделушкой, украшающей быт людей, имеющих досуг, то есть людей богатых и хорошо образованных. Считать его необходимым элементом жизни, как, скажем, необходимы инертные газы воздуху для полноценного дыхания, могут только фанатики-одиночки. Инертный газ и есть инертный. Не кислород. Не напоил же меня стакан чая с картины!»
«Один хороший хирург в деревне полезней десятка поэтов даже ранга Александра Блока. Привет Базарову».
Все это должен был я или опровергнуть, или сам оказаться поверженным как напридумавший кучу вздора, в том числе и придумавший собственную жизнь. «Трагедия!»
Для большинства же других не будет никаких трагедий!
«Я освобожу миллионы людей от необходимости спать на симфонических концертах, куда их загнал снобизм или погоня за престижем. Освобожу его величество профана от необходимости вздыхать перед полотнами, глядя на которые он чувствует себя идиотом, но должен охать и восхищаться на всех языках! Я и себя освобожу от необходимости заполнять бумагу паучками букв. Я смогу залечь на тахте перед телевизором до скончания дней вместе с миллионами освобожденных от повинности искусства страдальцев! Плюну, наконец, в душу совратителям, которые на разжигании нездоровой страсти „поспеть за всеми“ набивают карманы и насмехаются втихомолку над одураченными!»
То, что это оборачивалось трагедией для меня, я не принимал в расчет, защитившись гипотетическим «залечь на тахте».
Весь вопрос: как проверить? Подлинник на стене или дешевка? Подлинной жизнью я живу или… дешевой подделкой под жизнь? Так ли оправданно мое восхищение мастером, создавшим шедевр с чаем и лимоном, подкрепленное моим постоянным пребыванием в «зоне прекрасного», где и создается «материя искусства»? Не мусор ли на моих стенах и столах?
Весь измучившись этими мыслями, я заснул только под утро. Мне было не под силу встать и напиться воды, не говоря уже о возне с чаем.
Утром я проснулся от прозаического желания посетить клозет по самой что ни на есть малой нужде, словно я накануне надулся, как всегда, чаю.
Вернувшись в комнату и закурив первую сигарету, я по обыкновению уставился на картину. Бумага отслоилась от картона с угла, все из-за той же влажности и жары в моем жилище.
Итак, о подлинности натюрморта не могло быть и речи.
Однако стакан на прекрасно выписанной скатерти на картине был абсолютно пуст.
Дохлая мышь
Тот день был особенно хорош. Весь жемчужный, с серебряным небом, чуть подсвеченным из-за Рура пыльцой цветущего одуванчика.
На поле уже пала роса, оттого оно сочно зеленело молодой травой. Трава выросла буквально за две-три ночи под теплым дождем. Не так давно поле убрали, вымахали сорняки и самосев многолетних трав. Осыпавшееся зерно выклевывали стада диких гусей, прилетевших с реки. Их толстые коричневые шеи зарослями уродливого камыша торчали посередине широкой луговины.
Река незаметно и вольно лилась из-под плотин; рядом же с тропинкой она заливалась в старицу, вода была тут недвижной и почти стоячей. Место облюбовало семейство лебедей: родители и пять неуклюжих отпрысков, трогательных еще серо-коричневых лебедей-подростков.
Он частенько ходил здесь – один из его маршрутов. Кое-что вспоминалось именно тут, пейзаж был «с памятью». Когда-то он в этом месте потерял кольцо. Думал найти, когда забредал. Ну не чушь?! Иголку в стоге сена. Нет, если он что терял, то уж безвозвратно. Написано на роду.
Но каждый раз, оказавшись здесь, он делал несколько кругов по краю поля, пинал носком туфли дерн, кочки, пахоту – в зависимости от времени года и состояния поля. Ракитник тут образовывал естественный предел поиска, густой щеткой утыкав весь берег, его гибкие лозы купались в стоячей воде среди кувшинок.
Было уже прохладно, в траве сидели продрогшие слизни, ползали какие-то твари. Он старался не наступать. «Буддист!» – усмехнулся он.
Алый цвет выплеснулся на горизонт. Автомобили на той стороне Рура зажгли фары. Вечерело. У самой тропы, на обочине он наткнулся на раздавленную полевую мышь. То ли ее переехала какая-нибудь уборочная машина, то ли велосипед. Скорее первое: мышь была расплющена, – плоская, как из гербария, уже сухая, откуда и сходство с засушенным растением.
Может быть, ее вообще раздавили совсем давно, уж больно безжизненна она была, окостеневшая на вид.
«Вот самая дорогая на свете вещь! – улыбнулся он, вспоминая то место из бесконечного романа Дж. Д. Сэлинджера о семье Гласов, где монах-даос говорит, что самая ценная вещь на свете – дохлая кошка, потому что ей нет цены. – Я нашел еще более ценную, ибо дохлая мышь в иерархии ценностей должна стоять еще ниже, то есть „выше“ кошки!»
Мышь тем не менее выглядела очень похожей на настоящую, как чучело или муляж бывают похожи на живой свой прообраз, модель. У нее сохранились крохотные коготки, щетинки усов, поблескивала местами шерстка, розовели даже суставчики лапок.
«Как теперь считать ее, эту мышь, совсем мертвой, или конкретность образа привязывает ее к какой-то остаточной мышиной жизни?»
«Да какая там еще „жизнь“? Мертвей не бывает. Мертвая материя. Прах. Неодушевленное тело. Неодушевленное расплющенное мышиное тельце. Сор».
На небе голубиного, сизого цвета туманными султанами взвихрились перистые облака. Над темным стеклом реки лебедиными шеями стелились бесшумные стаи туманных испарений. Одинокая яркая голубая звезда зажглась над дальним концом поля.
«Сириус, – предположил он, потому что Полярная звезда должна была висеть выше. – Звезда. Неживая материя. Неодушевленная, хоть и раскаленная, в отличие от мыши. Но то и другое, мышь и звезда, по сути, одно и то же: бездушная мертвая плоть. Когда-то мышь была живой плотью, а звезда, возможно, еще будет живой через тысячи превращений и миллионы лет, но сейчас они обе только мертвый прах».
Он сел на корточки и стал рассматривать мышь внимательней, словно хотел обнаружить в ней признаки жизни, хотя надвигалась темнота и рассмотреть что-то становилось уже трудно.
«Однако прошлая жизнь мыши все-таки была жизнью. Какая-то мышиная душа гнездилась в ней и после смерти влилась опять в общее море, океан эфира, вселенскую мировую душу…»
Ему стало почему-то обидно, что мышь, чей жалкий конец был у него перед глазами, так вот бесследно исчезнет из этого мира. У нее была мордочка бывшей хлопотуньи, запасливой хозяйки и заботливой матери.
«Нет, и после смерти ее душа сохранит свою мышиную суть и перенесется в какую-то родственную сущность. Недаром те же буддисты верят в переселение душ».
Красивая румяная луна незаметно выкатилась на сразу посветлевшее небо, река вдали потянулась серебряными струнами, старица по соседству, наоборот, стала бездонной и заговорила тихим плеском. Громко крикнула ночная птица, ей ответила другая и, спустя мгновенье, словно на призыв, пролетела шумно, показывая яркое седое туловище и крылья с изнанки.
«Сова. Ночной хищник. Будь мышь живой, ей бы несдобровать».
Он опять улыбнулся. Все в мире почему-то сейчас радовало его. Мертвая мышь, залитая лунным светом, казалось, шевелилась. Ему почудилось, что у нее блеснули маленькие глазки. Он напрягся, всеми силами желая, чтобы она шевельнулась, ожила, как он порой, разыскивая кольцо – память о любимой, – напрягал всю силу воли, все неистовство желания, чтобы оно блеснуло в траве, нашлось. Тщетно, конечно. Как и сейчас. Потому что если бы кольцо нашлось, расстояние между ним и любимой сократилось бы, а оно, это расстояние, было ни больше ни меньше как дистанцией, разделяющей жизнь и смерть.
Вдруг он услыхал тоненький писк. Что-то шевелилось в белой от луны траве. «Ожила?» Мышонок, небольшой и шустрый, проворно пробежал, замер, глянул на него и исчез.
«Вот и ответ. Она не исчезла. Безо всякого переселения душ. Я видел продолжение ее жизни. Как просто. Все просто».
Мелкие звезды усыпали небо. Луна стала металлической и очень яркой, на ней хорошо были видны рельефы ее лунных материков.
Чудесно пахло водой, осокой и мокрой рыбой. А издалека тянул запах сухого и теплого сена, навоза и отработанных бензиновых паров.
Он представил, как выйдет сейчас от воды и полей на дорогу, где катятся машины, из которых будет доноситься музыка. Как за теплыми окнами домов силуэты людей будут склоняться к детям и телевизорам…
Он зашагал весело, бодро, улыбнулся встреченной уже у самого шоссе женщине:
– Гутен абенд!
– Абенд!
Легкий бисерный дождь дружески уколол щеки и веки. Гдето громко играла музыка, жаркое пламя заката вспыхнуло на распахнувшемся горизонте, словно открылись Царские Врата небесного алтаря. Алмазы огней города манили издалека, малиновое «М» «Макдоналдса» пахнуло дымком жаровни. Все было величественно и просто одновременно.
«Боже, как хороша жизнь!» – он вытер влагу со щек.
У него не было детей, и он прощался со всей этой красотой навсегда.
Муха
Он смотрел фильм по телевизору. Фильм, снятый довольно изощренно, а не «тяп-ляп», как часто бывает с фильмами последнее время. Каждый план был продуман, в кадре – ничего случайного: или оператор, или, что скорее всего, режиссер, или оба вместе понимали толк в живописи, всерьез разбирались в ней, держали в памяти, в подсознании образцы. В картине были немые цитаты из самых разных художников, общность которых не уловили бы дилетанты. Ван Эйк и Кранах, Мазаччо и Джотто, лейденский алтарь и Пизанелло. Веласкес и Матисс, Фра Анжелико и Макс Эрнст. Эль Греко и Коровин. Пейзажи были выдержаны в тонах Уистлера и Коро.
Он на время забыл о сюжете, любуясь, тем более что фильм шел по-немецки, он не удосужился сделать у себя доступными российские программы – ни тарелки, ни декодера. Конечно, он понимал далеко не все, но это, как сейчас, только помогало. Неожиданно в кадр вползла муха.
В интерьере в духе Ван Гога красовался кованый сундук, небрежно накрытый домотканым ковром. По ковру бесцеремонно ползла муха.
От таких искушенных фильммейкеров он вправе был ожидать большей корректности: материал можно было после просмотра вырезать – муха не была предусмотрена, совершенно очевидно. Правда, она была на самом краю экрана, в углу композиции, создатели фильма могли рассчитывать, что зритель будет поглощен натюрмортом в центре, в духе голландцев или Энгра: красиво и рассчетливо-эффектно разложены на голом неструганом столе хлеб, сыр, ветчина и бокал зеленого стекла, наполовину полный рубинового вина. Однако он увидел. Увидел вторгшуюся нахально муху. Она проползла немного, остановилась, еще проползла и, заключив, что дело сделано, исчезла. Они решили (режиссер и оператор) – и так сойдет! Может быть, спешили. Может быть, не было возможности переснять. Ушел свет. График. Актер не мог остаться на дубль. Неизвестно.
Вся действительность фильма была выстроена. Причем с таким расчетом, чтобы он принял ее безусловно, безоговорочно, прожил в ней все «игровое» время и проникся ею. Создатели фильма, как настоящие художники, были озабочены сопряжением его зрительской реальности с их реальностью, которую они усилием воли, фантазии и при помощи профессионального мастерства вплели в его сознание, завладев им. И добились своего. Была их реальность. Была его реальность. Было нечто общее – некое пространство, где существовали две эти реальности, не вписывалась только муха. Она прилетела самовольно из скучного, не подвергшегося художественной обработке мира в этот тщательно выпестованный мир, где на протяжении фильма существовали художники и воспринимающая их душа. А муха?
Какой из трех миров был реальным? Ведь он воспринимал действительность фильма на экране. Муха была тоже на экране. Вне экрана были режиссер и оператор и он сам. И тем не менее лишней оказывалась именно муха: из обыденного мира, где, вне фильма и его созерцания, существовали и создатели картины и он, их зритель. И все же муха выпирала из гармоничного мира вымысла и построенной на вымысле напряженной внутренней жизни воспринимающего сознания.
Мира мухи не должно быть! Попустительство съемочной компании, авторов картины, оказалось преступным перед чем-то очень существенным, важным. Даже паук, мокрица, пиявка и последний слизняк не выпадают из контекста Божьего замысла Творения, как эта муха выпала из реальности, в которой два с лишнем часа жил он сам и жили, надо полагать, гораздо дольше те, кто трудился над картиной. Более того – и для них, художников, и для него, чувствительного сердца, возможность соединения в искусстве была обеспечена тем, что они всегда жили в готовности: одни – творить, другие (он) – воспринимать и принимать.
Значит, мир мухи, скучный и серый, не преображенный, подвергнутый произволу безобразных законов (а точнее – беззакония!), отлученный от духа, приверженный будничности, плотской и низменной – и именно он, этот «мушиный мир», не имеет права на существование и, следовательно, не существует!
Получалось, что художники, заранее предугадавшие встречу с ним, зрителем, и он сам, зритель, существуют в одном общем и действительно реальном пространстве, что зафиксировано экраном, а того, другого, «мушиного мира» нет! Хотя именно их самих как раз на экране и не было! А муха была.
Значит, присутствие некоего объекта, в данном случае мухи, и на экране и в некоей заэкранной жизни не гарантирует ей реального существования!
«В сущности, экран, съемочная площадка, все эти осветительные приборы, сам телевизор, камеры, передающая аппаратура – это все тоже из „мушиного мира“, который лишь видимость, некий хлам, подспорье, как бумага книг и материалы картин и скульптур, а тот мир, откуда пришли к художникам, писателям и скульпторам фантазии, – единственно реален», – он заходил по комнате, пытаясь ухватить бесконечно важную мысль.
«И этот единственно реальный мир сродни миру снов и, быть может, миру смерти…» Он выключил телевизор, и комната стала как бы меньше в объеме.
«И если я не заблуждаюсь, не играю во что-то недостойное, не жеманюсь, не манерничаю перед невидимой камерой невидимого оператора, за которым стоит тоже невидимый режиссер, то мне ничего не остается сделать, как порвать с мушиным миром, который уже изрядно измучил меня своей назойливой требовательностью: он требовал поступков, направленных на простое поддержание жизни в мушином понимании, в ущерб существованию подлинному, где мухам места нет!»
Ему захотелось выключить еще какой-то выключатель, сродни телевизионному, чтобы мир свернулся еще более (мир вещей и вещной скуки), а развернулся другой, который смотрел бы на него изнутри него самого, подобно воронке, повернутой ко взору раструбом.
Двадцать пятый этаж, на котором находилась его комната, позволял необъятному простору за сплошной стеной стекла-окна навалиться на него, подобно толще океана, наваливающейся на тело глубоководной рыбы, которой некуда больше вжиматься – она и так вдавлена в песок дна.
Он нажал рукоятку, отпирающую шпингалет на всю высоту окна, рама, вопреки ожиданию, легко отворилась от пола до потолка. «Вот он, выключатель!» Он шагнул на карниз.
Стоя на карнизе, он смотрел вниз, медленно клонясь и отделяясь от вертикали. Серая невзрачная муха, невесть откуда взявшаяся на такой высоте, села на носок его ботинка, коротко переползла на самый рант, потом – на стальную раму.
Очень далеко светилась сказочно красивая даль: полоса заката, отверзтые небеса. Золото бескрайней вечности.