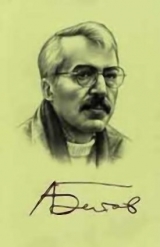
Текст книги "Человек в пейзаже"
Автор книги: Андрей Битов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Что же все-таки Сезанн? – вдруг отчетливо сказал я, удивившись металлическому своему голосу.
– А что Сезанн? Ничего себе Сезанн. Никогда нормальным человеком и не был. Вы все равно ничего не можете понять в живописи. Так что и не будем. Возьмем художника слова… Кто был наиболее близок к живописи в слове?
– Гоголь. – Тут я не сомневался.
– Правильно. А в живописи ничего не понимал… Ну и что с ним дальше-то было? Ясно? То же самое. Он истощил слой реальности, отпущенный ему господом для отображения, двинулся поперек слоя и вышел за пределы изображения. Там начинается другое – там вера. Да какая же вера у кроманьонца, когда он поклонялся тому, что видел? Там, где вера, там уже нет художника. Художник не может этого понять, потому что он еще и наркоман, потому что искусство не только образ, но и способ жизни… Нам, не гениям, в-се что-то мешает стать гениями: лень, косность, общество, грехи… – и мы никак не можем допустить, что это инстинкт, страх гибели я жажда жизни нам мешают. Мы подсознательно боимся вывалиться из слоя реальности, мы хотим остаться живы. Но мы этого не поймем, потому что никогда не согласимся с тем, что мы не гении. Нам помешали, и только. Кризис художника – это не обстоятельства. Они всегда тут как тут, чтобы свернуть с дороги. Кризис в том, что ты подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в видимые цвета. И ничьи советы и рецепты не помогут, никакая схема, никакой подвиг: все легче, чем продолжать писать жизнь, только что казавшуюся живой и изобразимой, да и бывшую живой, а для кого-то так и оставшуюся навсегда живой, потому что он и не претендовал. Легче не пить, не курить, воздержаться от баб, легче все то, от чего не в силах отказаться другие люди, чем написать следующее за тем, что уже изображено. Он нам нарисовал пейзаж и нас нарисовал в нем, но не нам понять, как он это сумел сделать. Гений движется с космической скоростью в своем постижении и прорывает изображение. Искренность его недоумения и отчаяния равняется лишь постигнувшей его слепоте или немоте. Догадка об устройстве мира если не сведет с ума, то лишит дара любой речи. Судьба гения – это космическая катастрофа не в том смысле, что нам его в таких масштабах жаль или что это на нас космически же отразится, не в том смысле, что бы он нам еще преподнес хорошего, кабы не сгорел в более плотных слоях, а в том, что у них общая с космосом природа. Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик. Человечество приблизилось к того же масштаба катастрофе, какую пережил каждый гений. Только художник вываливался сквозь холст, а эти за саму раму, люди истощают пейзаж по самой поверхности слоя. Нам было сделано все, чтобы мы жили и прожили. Ни более и ни далее. Далее смерть. Сначала смерть того, что мы прожили, потом и нас самих. Всего было столько, сколько надо. Значит, не больше, чем надо. Не так много. Столько. Запаса обольщения в том числе. Господи, когда же они поймут, что кончилось – это кончилось? Нету больше. Не-ту! Откуда я вам возьму, когда нету! кричал на меня Павел Петрович. – Богом сосчитано до одного. Дальше ревизор. К нам едет ревизор! А ревизор-то – дьявол.
Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо сказать, что и бутылку мы прикончили.
– В дьявола я не верю, – вдруг воспротивился я.
– То есть как?! – воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом.
– То есть в творца, в Христа… – залепетал я, зажатый двумя мудрецами. – Верю как в реальность, что они были… есть… а что дьявол так же есть, как они, – нет.
– Он не верит… – испуганно прошептал Семион Павлу Петровичу. – Во что же он тогда верит?!
– Слушай его, слушай, – сказал Павел Петрович.
– Да ведь весь воздух кишит?.. – И Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство. Я отшатнулся, Павел Петрович предательски согласно кивал.
– Чем кишит? – разозлился я.
– Невидимыми существами! – И он заозирался будто в страхе.
– И в тот свет – не верю! – уперся я.
– То есть как?! – Семион, казалось, лишился дара речи.
Павел Петрович не без интереса на. нас поглядывал.
– А так, – сказал я зло.
– Так ведь раз есть свет этот, – сказал Семион голосом вдруг мягким и вкрадчивым, – так есть и тот…
– Слушай его, слушай, – с удовольствием поддержал Павел Петрович.
– Как магнит не разрубишь пополам, – сказал Семион.
– Как свет и тьма! – воскликнул Павел Петрович.
– Как жизнь и смерть! – заиграл желваками Семион.
Будто они меня приговорили и сейчас пришла пора моего заклания… Я плохо соображал, мне показалось, что они заговорили на каком-то умершем, пещерном языке. Слова их все висели в воздухе всей речью, как невидимый, прозрачный лист, как такое стекло между ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрачный, тягучий и волокнистый… То лицо Семиона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по нему катились эти плачущие струи, как по стеклу, то лик его вдруг становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке, проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла… Тогда тусклеющие его глазки особенно наливались умом, как безумием, и Се-миона снова как не бывало…
– Ты кто? – спрашивал я Павла Петровича. Кто он?..
– Ни одного более носорога! Почему с появлением человека не появилось ни одного более вида? И если дрожь омерзения пробирает нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас переживет, то какими глазами сама природа смотрит на нас, какая дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд? На нас?
Я восхищался его умом, я был им переполнен и подавлен, хотя и водка плескалась во мне через край. И вот почему я еще стоял на ногах… Сколько бы он ни возносился, сколько бы он еще ни говорил, ни он, ни я не могли изменить нашего исходного положения: он выступал, а я слушал, и как бы я ни молчал, хотя бы потому, что ничего вровень ему и сказать-то не мог, я тоже выступал и не мог отступить от роли, как от верховности положения: я выступал оценщиком, конечной инстанцией, ОТК. его идей, браковщиком его истин, – так или иначе, я был тем, ради кого он говорил… Что-то с ним когда-то случилось непоправимое, чего-то он не скушал, не переварил, не простил чему-то такому, чему принадлежал, без остатка и любил без памяти, ревность пылала во всем… Что это было, чего он не снес? Культура, искусство, сама жизнь? Или сам бог?
– В творении не предусмотрены наши блага, блага – это дело наших рукГ – голос Павла Петровича звучал отчаянно, словно он уже не догонял мысль, а убегал от нее и она его нагоняла. – Было предусмотрено столько, чтобы мы успели выполнить назначение, – любовь, смерть. Это конец программы. А мы-то полагаем, что наше познание только начинается, когда мы покидаем свою программу… Но ни жадности, ни аппетита, ни чувственности, ни тщеславия не хватит познающему, потому что знания, как и бога, неизмеримо больше, чем нас. Ни Екклесиасту, ни Фаусту…
Сквозь эти имена проступил Павел Петрович, будто ливень кончился или растворил в себе стекло. Я вдруг увидел, где мы. Тусклый свет, осклизлые, серые стены, помойный цементный пол; в бочке плавал последний огромный огурец, не помещавшийся в чане, высовывающийся любопытствующим тупым концом наподобие крокодильчика. Одно мне стало окончательно ясно: что там мы и находились, где стояли, и речь его не представлялась мне больше никаким преувеличением. С той стороны слоя мы и были, о которой он говорил. С сомнением, что это было когда-то, мог я припомнить пейзаж нашего знакомства. Правда была здесь, а не там; правда, то есть реальность, был вот этот огурец. Безумие – это не то, что мы можем себе вообразить и испугаться, безумие – это когда уже там, а не здесь. Мы были по ту сторону, и нам улыбался Семион, потому что то, что исказило его лицо, было улыбкой. Он протягивал мне кованый ключ от храма.
– Опять забудете, – говорил он ласково. Потому что мы, оказывается, собирались.
– Ну ты нашабился! – восхищенно сказал Павел Петрович трезвейшему, на мой взгляд, Семиону. – Дал бы дернуть…
С той же устрашающей и подкупающей маской любезности Семион вынул из-за уха непомерно длинную папиросу и протянул Павлу Петровичу.
Я направился к двери, в которую мы вошли, представляя себе то же карабкание в стене и там долгожданный глоток воздуха и неба… оказалось, не туда я пошел. Мы вышли совсем через другую дверь, и никуда не надо было карабкаться – очутились прямо на улице по ту сторону кремля.
– Мы сейчас пойдем в одно место, – сказал Павел Петрович.
– Куда уж… ведь ночь… – Это не я – моя плоть боялась: я весь состоял из водки, она прозрачно дрожала во мне.
– Там нас очень ждут. – Павел Петрович был безапелляционен, однако находился как бы в некотором раздумье, куда идти, направо или налево, и что-то про себя взвешивал и решал.
Мы стояли под единственным фонарем, дорога, изогнувшись вокруг фонаря, уходила вниз, зарываясь в сомкнутые деревья. В раздумье же Павел Петрович достал, теперь из-за своего уха, Семионову папиросу, покрутил и понюхал. Он понюхал – я ощутил, до чего же сладко здесь настоялась ночь: общий запах асфальта, листвы, и травы и тумана, остывая., излучал тепло. Воровато курнув себе в рукав, Павел Петрович передал папиросу мне. Я затянулся, и мы пошли.
То есть это мне так показалось, что мы пошли. Потому что и фонарь почему-то пошел с нами, и дорога повлеклась, как эскалатор… Павел Петрович, конечно, говорил, но я уже не улавливал, то и дело выпадая из его речи в соседнюю темноту улицы, он меня бережно поддерживал под локоток, снова вводя в русло, освещенное все тем же фонарем…
Речь его струилась по этому руслу, как поток, как стихи… Но это и были стихи!
О вечность, вечность! Что найдем мы там
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа, где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам,
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь природы,
Который, верно, создан всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей,
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)
Ужасно сам похож на обезьяну.
Я был восхищен и подавлен.
– Прекрасные стихи…
Он испепелил меня взглядом и заиграл желваками. Будто я Сезанна помянул…
О суета! И вот ваш полубог
Ваш человек: искусством завладевший,
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить…
Павел Петрович осекся и снова ожег меня взглядом, будто это я и был само воплощение…
– Эт-то в-ваши?… – робко догадался я. Великая скорбь залила его чело. Он замотал головой от невыносимого страдания.
– Он и обезьяна, и питекантроп, и каменный, и бронзовый, и золотой, соседствует с первым, а первый с двадцатым, он в галстуке и набедренной повязке, с пращой и автоматом, рабовладелец, смерд, буржуа и пролетарий, грек, монгол и русский – все это одновременно, все это сейчас, не говоря уж о том, что он и женщина и мужчина… Мы судим по верхнему этажу, который он надстроил уже в наше время, но мы не знаем, какой из этажей реально заселен в нашем соседе: может, это монгольский сотник пятнадцатого века в «Жигулях», а может, слушатель платоновской академии в джинсах… Мы все из кожи вон уподобляемся друг другу, настаивая как раз на несущественных отличиях как на индивидуальности… и никто нам не подскажет, кто мы. Что ты скажешь про возраст дерева?.. Нет, не надо его пилить, чтобы считать кольца! – перебил он меня. – Что за варварство! Каждая клеточка дерева – разного возраста. Не старше ли нижняя ветвь верхней? А не моложе ли свежий лист нижней ветви старого листа верхней?..
Я не знал. Я стоял в замешательстве перед бурным потоком, внезапно преградившим путь. Павел Петрович заботливо помог мне перешагнуть его, ибо это была лишь жалкая струйка из протекавшей в муфте водопроводной трубы. Он развивал теперь передо мной в противовес теории слоя, в которую я уже веровал, некую теорию фрагментарности жизни и был крайне сердит на создателя.
– Подумаешь, понастроил! Без плана и контроля, как получалось и из того, что под руку попадалось… Это мы населяем, мученики, все логикой и стройностью, которая нам не дается, за что себя же и виним. А это самый обыкновенный курятник, только очень вычурный, с пристройками, лесенками и надстройками, выданный нам за совершенное здание, благо мы другого не видели. По кусочкам – ив кучу! А все – отдельно, все отдельно! – вскричал он. – Не завершено, недомалевано, сшито на живую… Стоп! – ликовал он. Вот что живо, вот что грандиозно, вот что велико и божественно – нитка! Нитка-то – живая! Она-то и есть присутствие бога в творении! Как я раньше не подумал! – Павел Петрович плакал, по-детски растирая слезы по лицу.
– Ты что? Ты что?.. – умолял его я. – Что с тобой? – спрашивал я, еле сам сдерживая слезы.
– Бога жаль! – сказал он и, круто, по-мужски смахнув предательскую слезу, заиграл желваками, как Семион.
– Ну уж, – опешил я, – чем мы можем ему помочь?
– Именно мы и должны! – убежденно сказал Павел Петрович. – Он же верит в нас! Это не мы в него, а он в нас верит. Ты думаешь, ему легко? Взгляни на нас!.. Вот что тут… – И он опять заплакал. – Нет, ты не знаешь! Ты не знаешь! – причитал он. – Ведь он– сирота!
– Семион?..
– Бог – сирота, болван! Он – отец единственного сына, и того отдал нам на растерзание. Каково ему, от вечности лишенному родительской заботы, той же участи подвергнуть дитя свое единокровное!
Чего не ожидал, того не ожидал! Хмель вылетел у меня из головы. Во всяком случае, фонарь наконец отцепился от меня и отстал. Тьма вокруг густела.
– Разъясняю, – доносился Павел Петрович из темноты. – Сначала тебе вопрос. Адам был создан по образу и подобию… Можно ли считать его сыном бога? Шея как-то свободно болталась у меня в воротничке, почему-то показалось, что мне ее сейчас с легкостью свернут в темноте невидимой громадной рукою, тянущейся с неба.
– А вот нельзя! – ликовал Павел Петрович. – Потому что он сотворен, а не рожден! А Иисус – рожден! Иисус – сын. Я об этом еретическую книжку одну читал, не помню автора… Творением мы можем быть удовлетворены, даже горды, но это чувство еще любовью не назовешь, любить собственное творение может лишь дилетант, а не истинный творец. Творение любить нельзя, а сына нельзя не любить. Творение может не удовлетворять, но вряд ли в нем можно что-то исправить: сотворенное, оно не принадлежит создателю. Ты перечитываешь свои книги, ты можешь поправить хотя бы опечатку во всех экземплярах? Я любуюсь своими пейзажами?.. Такова реальная возможность любить свое создание и поправлять в нем. Творец не может войти в контакт с творением, когда оно закончено, как бы оно ни огорчало его. Он может его лишь уничтожить. Но оно ведь живое! Единственный способ находит господь отделить себя от себя, послать другого себя, сына своего… Он отдает нам единственное и самое дорогое, чтобы тот доделал то, чего не мог он сделать сам. Учти еще и то, что не только Иисус – человек, но и создатель, не нисходя к нам, становится человеком, ибо он отец человека Иисуса и этим он приносит еще одну жертву, обожествив творение, усыновив его. И тогда мы, бывшие лишь созданием, подобным ему и сыну его, становимся и детьми его, ибо его сын – наш брат по матери и по крови. Но, став братьями Иисуса, не старше ли мы Иисуса? Адам старше Иисуса во времени, и, как дети его – Каин старше Авеля и Каин убивает Авеля, – не Каином ли стало Адамово человечество, распяв божьего сына, а своего брата?
Мы вышли на свет следующего фонаря, я еще покрутил шеей, и тут нас разглядело возмездие. И не надо было крутить шеей – оно последовало не сверху, хотя, возможно, и свыше.
Из оставшейся за спиной темноты нас нагнал и круто тормознул «воронок». Два милиционера проворно выскочили из кабины, и один уже крепко сжимал мне руку повыше локтя, а второй, проскочив мимо, грузно шуршал в кустах, как лось.
Я оглянулся – милиционер смело заломил мне руку за спину; я ойкнул.
– Полегче, – сказал милиционер.
– Это вы полегче, – сказал я.
– Ты у меня! – сказал он.
– Я у тебя не убегаю и не сопротивляюсь, – сказал я.
– Это точно, – сказал он, – куда – ты… денешься.
И он улыбнулся открытой, детской улыбкой. Был он сам мелковат, а зубы были замечательные и крупные. «А ведь я мог бы с ним справиться», – подумал я, сжимая в свободной руке ключ от храма. Бог меня спас, я мог бы и убить таким ключом…
– Ключик-то отдай мне, – сказал он тогда.
Я отдал.
– Ну и ключик! – восхитился он. – Откуда такой?
– От квартиры, – не удержался я.
Милиционер, к счастью, не обиделся, а засмеялся, довольный.
– Скажешь… – сказал он утвердительно и удовлетворенно.
– Да отпусти ты руку, не убегу, – сказал я.
– Прописан? – спросил он.
– Прописан, – сказал я.
– В Москве?
– В Москве.
– Где?
Я назвал.
– Далеко же ты забрался. Как добираться-то будешь?
– На такси.
– У тебя что, и деньги есть? – искренне удивился он. – Не все разве пропил?
– На такси осталось.
– Покажи прописку.
– Да не ношу я с собой паспорт! – Это меня всегда бесило.
– И зря, – сказал он, но руку отпустил. Этот милиционер был ничего. Другой был хуже.
Он вылез, запыхавшийся, из противоположных кустов: как он перепорхнул?
– Ушел, гад! – сказал он.
Что Павел Петрович сбежал, вызывало во мне смешанное чувство: с одной стороны, я был, конечно, за него рад; с другой – он меня этим очень удивил, такой своей способностью; с третьей… «Адам, Каин, Авель…» – думал я и усмехнулся не без горечи.
– Взгляни, – сказал мой, протягивая ключ коллеге.
– М-да, – протянул тот. – Откуда такой?
– Не говорит, – доложил мой, – и паспорта нет.
– Так ясно, – сказал тот, – без прописки, значит. Я было вскипел, но мой поддержал:
– Говорит, что прописан в Аптекарском переулке.
– Где это?
– У трех вокзалов, – сказал я.
– Ну, у трех вокзалов вы все прописаны… – засмеялись они вдвоем. А друг твой что, тоже там прописан?
– Да не друг он мне…
– Что, впервые видишь?
– Впервые вижу.
– Чего же в обнимку шли?
– По дороге было.
– На три вокзала?
– Да нет, до трассы. Я тут заблудился, а он сказал, что покажет.
– А ведь не простачок, а? – поощрительно кивнул тот моему.
– Это да, – согласился мой.
– Заблудился, видишь ли. А где ты заблудился-то, хоть знаешь?
Вот это был вопрос! Это он меня взял. Этого я совершенно не знал, где я.
– Откуда хоть идешь, скажи, – подсказал мне мой, словно и впрямь был на моей стороне.
– Из монастыря.
– Из монастыря?! А что ты там делал?
– Причащался.
– Все ясно, – сказал тот. – Что мы стоим? Поехали.
…Можете мне не поверить, но меня в конце концов отпустили. Не ожидал я от них, но еще меньше ожидал от себя.
Проснулся я, сидя на обычном канцелярском стуле, в помещении, до странности не напоминавшем камеру. Это был такой загончик, в котором содержат некрупных животных, вроде кроликов или в крайнем случае лисиц… Сквозь проволочную стенку, отделявшую меня от дежурки, видел я мирного милиционера, дремавшего на посту. А вот обок со мной помещался на таком же стуле человек, которого никак нельзя было бы здесь ожидать: солидняк. Он был в драгоценном на вид пальто с бобровым, как мне показалось, воротником; в каракулевом пирожке, оттенявшем благороднейший бобрик седых волос; в тонких золотых очках, свирепо посверкивающих… и он спал, оперев выбритейший массивный подбородок на набалдашник (слоновой кости!) столь же массивной трости.
– Проснулся? – услышал я добрый голос милиционера. – Выходи.
И он отпер сетчатую дверь в нашей клетке.
– Выходи, не бойся, мы ничего против тебя не имеем… (В жизни со мной так не разговаривали!) Как раз майор пришел, сейчас тебя отпустим… Сиди, сиди. Тебя не касается! – грозно прикрикнул он на шевельнувшегося за мной сановного соседа, – Ты у меня еще посидишь! – Два «и» в последнем слове прозвучали у него тоненько, как у комарика.
Образцовый и показательный, выпорхнул я из камеры, как птичка, осуждающе посмотрев на моего, теперь уже бывшего, коллегу… Протрезвел я, конечно, сам удивляюсь как. Правда, разило от меня!.. Майор, чисто выбритый, образцовый, со спортивным румянцем на подтянутых скулах и университетским ромбиком в петлице, брезгливо попросил меня не подходить к нему и говорить на расстоянии. Все-то я ему сумел объяснить… За что я люблю кино – так это за то, чтобы в милиции сказать, что я в нем работаю. Тут, конечно, начинаются вопросы, на которые я могу ответить, то есть вопросы, переходящие в разговор, переходящий в беседу. Не то чтобы майор видел хоть одну из снятых по моим сценариям картин, но удостоверение-то, хоть и не паспорт, у меня было. И адрес мой подтвердился и ФИО. И не дрался я, не пел, не матерился, не оказал сопротивления. И в монастыре, как оказалось, был я в гостях у друзей-художников, а художники, известное дело, сами понимаете… И запах у меня такой, просто несчастье мое – пищеварение такое или печень: выпьешь на грош – разишь на рубль.
– Что ж вы здоровье-то не бережете, раз так? – напутствует майор.
– Да не могу сказать, чтобы часто злоупотреблял-то, – сокрушаюсь я на голубом глазу.
– Что ж они вас не проводили-то?
– Да. набрались как поросята, – осуждающе; говорю я, – я-то не вровень с ними пил.
Ключ же, оказалось, я нашел в. деревне (отдельно разговор о деревне где, в ка-кой области, оказались почти земляки…), ржавый-ржавый; вот ребята мне его а отреставрировали, я его на стенку повешу.
– Вот ключик-то у нас и оставьте… А Голсуорси, что обещали попробовать достать (уж больно жена; им увлекается), когда достанете, зайдете к нам, я вам и верну…
И телефончик даже записал, выдернув листок, из прошедших, дней календаря.
И я настолько воспрял, что. даже спросил, что натворил мой вельможный сокамерник.
– И не спрашивайте! – презрительно отмахнулся майор.
А было уже утро, и не самое даже раннее. Солнце грело. Небо синее. Господи! Какое же это счастье! Выйти из КПЗ, выйти сухим, выйти на воздух, на свободу, да еще и погода! Чувствовал себя даже молодо и свежо, будто не зашел вчера за литр, а возвращаюсь себе с утреннего бассейна или корта. Не то что вспоминать – подумать во вчерашнюю сторону омерзительно и страшно. Чем я жив, отчего единственно все еще считаю себя неконченым, так это ханжеством. Я ведь как их сумел убедить? Да только сам во все поверив. И вышел я оттуда с полным ощущением, что справедливость торжествует, и, что особенно характерно, что именно в моем случае. И тот, с тростью, убедительно подтвердил это…
И только отделение скрылось из виду, только я окончательно полной грудью вдохнул воздух, убежденный в том, что вчерашнего фантастического ужаса просто не было, что все это воспаленный бред, который я, к счастью, преодолел, победил и забыл, как меня решительно потянули за рукав… Продрогший и осунувшийся, бессонный, стоял передо мною Павел Петрович.
– Неужто выпустили? – озираясь и шепотом сказал. – Вот уж был уверен, что пятнадцать суток – твои.
– А ты как узнал; что я здесь? – опешил я.
– А куда тебя еще могли повезти?..
– И ты меня все время, ждал?
– После одиннадцати, не ждал бы. К одиннадцати приезжает судья…
– А сейчас сколько?
– А сейчас ровно столько, что откроют магазин[1]. Пошли!
Так я был наказан, и опять свыше, за ханжество, только что столь меня преобразившее! И выходили мы уже из магазина с двумя бутылками, на этот раз точно портвейна «Кавказ». Причем угощал опять он, вот что удивительно. Ибо целы у него оказались мои пятерки, и вовсе не покупал он водку у Семиона, а тот был ему ее должен… И вот, щурясь на белый свет, и ощущая взгляды на своей испитой коже и внезапной щетине, и прижимая к пузу петарды с «Кавказом», будто под танк с ними бросаясь, а вернее под КрАЗы и МАЗы, стоим мы посреди улицы, задыхаемся, и никак нам этот поток не перейти, и уж я-то точно не знаю, куда дальше, а уже больше совсем не хочу туда, «где нас очень ждут», да и ПП будто сник после ночи… Ни тебе садика, ни скверика кромешный район: новостройка, которая уже не новостройка, а застройка пятидесятых. Слоновые строения с глухими крепостными подъездами и особыми, выросшими за эти четверть века старухами на лавочках у подъездов… И даже всюду вхожий Павел Петрович будто наконец растерялся. Но вы не знаете Павла Петровича! И я тогда еще не все про него знал… Буквально в двух шагах было дело, на них-то он и прищуривался, не от растерянности, а для рывка… Напротив магазина шел ремонт, а вернее, перестройка первого этажа под что-то такое, под другой, скорее всего, магазин. Рассыпающаяся звезда сварки и был наш ориентир… Работяга, накинув забрало, варил некую конструкцию в чернеющем дверном проеме. К нему-то и направился уверенно Павел Петрович, а я безвольно, уже опять подпав, за ним. Павел Петрович подошел к сварщику и даже не сказал ему ничего, хотя точно на этот раз это был не Семион, а, как и мне, совершенно незнакомый ему человек, – не сказав ему ничего, лишь сказал: «Дай пройти». И тот, совершенно не матерясь, а тут же входя в положение, притушил свою сварку, приподнял забрало, открыв свое хорошее рабочее лицо, готовно отошел в сторонку, освободив нам проход и тоже ничего не сказав, только сказал: «Только вы отойдите туда поглубже…» – мысленно и моментально продолжал фразу; «…чтобы вас не увидели», – но опять был не прав, потому что окончание фразы было другое: «…чтобы я вас не слепил». «Отойдите в сторонку, чтобы я вас не слепил» – не меньшим счастьем, чем утро, встретившее меня за порогом милиции, одарила меня эта фраза! Мы прошли, и он, впрямь не провожая нас взглядом, ничем нас более не напутствуя, продолжил прерванную работу.
В глубине пустого темного зала, наверно будущего магазина, стояли строительные козлы; на них-то Павел Петрович и расположил – и опять уютнейше! – наше достояние. Рабочий (не хочется называть этого благородного человека работягой) сверкал в единственном светлом на все помещение проеме, и мы молча выпили по первому стакану и молча подождали довольно быстро пришедшего обновления наших организмов, и стало хорошо, опять хорошо и снова хорошо, и мне показалось, что рабочий защищает нас, отстреливаясь, от нехорошего, недоброжелательного к нам мира…
– Хочешь, совсем честно тебе скажу, – сказал Павел Петрович и посмотрел на меня так грустно, что я не понял.
Но я был настолько снисходителен к нему ввиду такого благородства нашего рабочего, нашего защитника, нашего пулеметчика… что уже как бы не помнил (хотя на самом деле помнил) его ночного предательства, я был снисходителен и не хотел слышать его оправданий, унижающего его лганья, и я сказал, любуясь моим рабочим:
– Что ж ты ему-то не предложил, а?
– Он не будет, – ясно ответил Павел Петрович.
– Почему же не будет?
– Потому что в обеденный перерыв будет.
– Ты с ним знаком?
– Откуда?.. В первый раз вижу. Так хочешь, я тебе скажу?
– Ну? – спросил я недовольно, все еще не пережив своего героического поведения в милиции.
– Честно говоря, я ужасно струхнул, поэтому тебя и бросил.
Нет, я еще не знал этого человека! Он никак не мог смириться с мыслью, что предал меня. Нет, он не предал. У него как бы не было выбора. По целому ряду обстоятельств, о которых он мне когда-нибудь расскажет, он не имел права рисковать, С другой стороны, я должен был понять, что я у него на всю жизнь и должен положиться на него как на себя. Но если бы я знал все, если бы имел хоть какое-нибудь представление о том, что ему пришлось за жизнь пережить…
Что же это за власть он захватил, хотя бы и над одним мною?.. Вряд ли я один… Опять я поплелся за ним, как зять Мижуев.
Вот это было то, что мне никак не удавалось уловить и на что я бесспорно попадался: пауза и доза. То есть я не мог уловить закона и ритма, по которым он это варьировал: то полстакана, то стакан, то треть, то через пять минут, то через час… За точность времени я, конечно, не мог ручаться, потому что вряд ли хоть какое-то чувство времени во мне сохранилось. Но было что-то от власти над собой и над процессом в его неумолимом, самоубийственном пьянстве, и уж совсем непонятно было, как я-то выдерживал это с ним равенство, но всякий раз, как он находил нужным добавить или повторить, я оказывался вполне способным, а иногда даже готовым это вынести. И рассказ его, и бурные барашки мыслей, предвещавшие штурм очередной системы мира, были каким-то образом подчинены и организованы кажущейся бессистемностью тостов. Ибо он держал руку на этом аритмичном пульсе! Трудно было в это поверить, а тем более оформить как мысль, но он пил как бы не сам, а – мною, и не я подчинялся его желаниям продолжить, а он руководствовался моими сначала способностями, а потом и возможностями. Страшные истории своей вызывающей сочувствие и ужас жизни помещал он между этими неравными в пространстве и во времени стаканами… Фашисты подожгли дом; мычали овцы; трепетал флаг над сельсоветом; трактор раздавил пьяного в колее; ночью под фары «студебеккера» вышел кабан; их нашли лишь через неделю в погребе оголодавших и забывших слово «мама»; брат бежал из колонии, но оказался «коровой»: его съели товарищи по побегу в пятидесяти километрах от Улан-Удэ; в пирожке в станционном буфете нашли детский пальчик; отец изнасиловал сестренку в борозде… Это был многосерийный телевизионный рассказ, в котором им оказались сыгранными все роли. Но я не сомневался. Иногда мой слабый разум пытался высчитать возраст героя и сбивался, как и от попытки высчитать количество выпитого. Мой собутыльник и современник прожил несколько жизней, достигая иногда и семидесятилетнего и семилетнего возраста одновременно; события, которых он был участником, а иногда лишь свидетелем, бывали историческими, но тогда роль и ракурс становились фантастическими и, ровно наоборот, убедительность и реальность фактов личной его жизни окрашивала факт исторический в самые фантасмагорические цвета. Но каждое из этих биографических колен имело все один и тот же подсмысл: предательство. Всякий раз он был несправедливо, незаконно, случайно, умышленно, не по своей воле и т. д. изгнан, отторгнут, выселен, посажен, казнен, унижен, растоптан – в университете, в армии, в оркестре, в бригаде, в детском саду, в Академии художеств – упиралась и обрывалась его столбовая дорога, светлый путь, призвание, назначение. Всякий раз его предавали. И каким бы я ни был ему безукоризненным слушателем и сколь бы плохо я ни соображал, от меня не могла вполне ускользнуть связь этой бесконечной цепи предательств с тем, что этой ночью он смылся, а меня – забрали. Мое сочувствие его злоключениям и вера в истинность происшествий потому и не устраивали его, что чем больше он говорил, тем больше и оправдывался, и чем больше я с ним соглашался, тем туже он эту собственную петельку и, затягивал. Моего умысла в этом не было, и то, что я преисполнялся в его глазах и все возвышался, по-видимому, изводило его…








