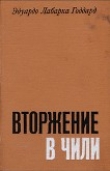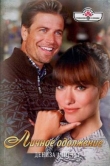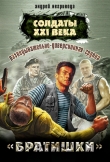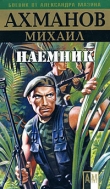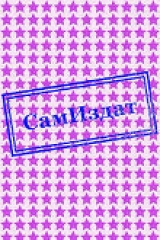
Текст книги "Русские в Иностранном Легионе (СИ)"
Автор книги: Андрей Львов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Annotation
Забавные приключения русских в Иностранном Легионе...
Львов Андрей Борисович
Львов Андрей Борисович
Русские в Иностранном Легионе
Вместо предисловия.
Русские в Иностранном Легионе (очерк).
Когда речь заходит о России, то любой француз охотно расскажет о том, что там была диктатура Сталина, а ныне – Путина, и чтобы согреться или забыться, люди там пьют водку вёдрами, не забывая разбить при этом об пол все фужеры. Самые просветлённые из них могут вспомнить, что русские служили в Иностранном Легионе, так как про этот факт иногда и очень скупо сообщается в местной прессе. Всего же за годы существования Иностранного Легиона с1831 года и по наши дни, через него прошло более 600 тысяч граждан со всего белого света, из которых 35 тысяч значатся в Книге Памяти, как погибшие во славу Легиона. Сколько всего русских побывало в его рядах трудно сказать, так попав в него человек получая свой порядковый номер ('Матрикюль') теряет порою на всю оставшуюся жизнь свою идентичность. Известно, что в истории Иностранного Легиона было всего три волны 'русского нашествия' – отрезки времени, когда после социально – политических потрясений в России, нашего брата россиянина в Легионе было более чем предостаточно и про это пойдёт речь в моём очерке.
Сегодня затрагивая тему 'Русские в Иностранном Легионе', я хочу донести до русских читателей то, что известно французам о легионерах русской национальности французского Иностранного Легиона, волею судеб, оказавшихся за границей и почти совсем не известно об этом в России.
'Первая волна'
В 1914 году война пришла во Францию и знаменитые иностранцы, жившие во Франции, призвали выходцев из других стран поддержать французскую армию. Этот призыв получил название 'призыв Канудо', по имени итальянского писателя. В ряды Иностранного легиона вступили 42 883 добровольца, 52 национальностей. Легионеры приняли участия во всех важных сражениях этой войны. Более шести тысяч легионеров погибли, защищая Францию. История оставила в памяти это время, как первую большую волну легионеров, выходцев из бывшей Российской империи. Вот имена только немногих из них: графы Николай Васильевич Румянцев, де Витте, Александр Александрович Воронцов-Дашков, грузинские князья Вачнадзе и Амилаквари, Родион Малиновский, Зиновий Свердлов (Пешков) и многие другие. Первое официальное упоминание о русских легионерах весьма трагично. В военных архивах французской армии и по сей день хранится 'Донесение из батальона 'Ф' 2-го полка Иностранного Легиона от 22 июня 1915 года: О расстреле девяти легионеров российской национальности'. Из депеши для российского военного правительства от российского военного атташе в Париже, полковника Игнатьева от 23 февраля 1915 года: 'Русские добровольцы страдают и жалуются на то, что вынуждены жить и сражаться вместе с иностранцами различных национальностей с сомнительной моралью и африканскими кадрами, с разными привычками'.
Депеша французскому военному правительству от командующего 5-й армией (shd -19N840): 'Имею честь сообщить, что вчера 20 июня 1915 года, несколько человек 2-го Иностранного полка, отказались следовать за полком по направлению в Пруилли. Эти мужчины, 27 человек, в основном русские подданные заявляют, что недавний закон даёт им право покинуть службу в армии и требуют своего перевода во французские воинские части. Командир батальона пытался их заставить повиноваться, но без успеха. Всего 287 мужчин, виновные в отказе подчиняться, были разоружены и переданы военному трибуналу'.
Из депеши генерала Гильямата (shd – 19N840): 'В отношении всех виновных повстанцев, считаю, что необходимо примерное наказание и я приказал приговорить 9 человек к смертной казни, которая должна состояться сегодня днём около города Певи, где сейчас и находятся виновные лица'
На заседании военного совета 21 июня 1915 года по приказу ?4759 были осуждены 27 легионеров Иностранного Легиона, виновные в восстании и в отказе Послушания, из которых были приговорены:
1. На пять лет общественных работ: Каск Станислав, Кирьеф Поль, Жоффэ Бенцион, Гульбенкран Гарабед, Гульбенкран Гарабед, Портнер Мордько, Лабрано Бернар.
2. На десять лет: Коронов Владимир, Колодин Михаил, Рембеджиан Гемайяк, Сарайдериан Агор и Лившиц Грегорий,
3. К расстрелу: Пало Жан (Эстония), Дикман (Россия), Брюдек Иван (Польша), Эльфанд Альберт (Одесса – Украина), Артомач Григорий (Россия), Николаев Николай (Россия), Петров Иван (Россия), Шапиро Симон (Россия) и Тимаксян Тигран (Турция) Приговор приведён в исполнение в 15:00 22 июня 1915 в Певи (Марна).
Мы нижеподписавшиеся: сержанты Дринк и Деффо прочитали осужденным приказ перед строем личного состава и после чего они были по очереди расстреляны. Врач – майор констатировал смерть. После чего был составлен протокол согласно статье 151 Кодекса военной юстиции от постановления 1909 года. Исполнено в Певи. Подпись: Сержант Клерк.
Из пометки должностного лица французской армии: 'Стоит отметить плохой моральный настрой среди осужденных русских добровольцев, которые не отказывались идти в наступление, ибо знали, что имеют право покинуть Иностранный Легион в ближайшее время. Решение Сената от 3 июня 1915 года, позволяло российским Легионерам покинуть Иностранный Легион, о чём им и сообщил 19 июня того же года военный атташе Российского посольства, полковник Оснобизын, на встрече в расположении полка Иностранного Легиона с русскими субъектами, желающими служить в российской армии. Тогда как 4 июля 1915 года, через несколько дней после казни, российские легионеры, сделав запрос в письменной форме, могли присоединиться к своей национальной армии и 12 июля 334 российских легионеров были отправлены в Орлеан и 14 июля ещё 375 россиян'. Невольно напрашивается вопрос: Зачем французы расстреляли именно русских легионеров и одного турка? Думаю, что в этом преступлении был заложен какой-то особый смысл, так как казнь была проведена тайно от других русских легионеров и послужила примером для своих французских солдат.
В это же время один известный французский генерал, искренне сочувствуя гибели своих соотечественников на фронтах Первой Мировой войны, многие из которых были классными шоферами, механиками и вообще специалистами своего дела, высказал своё мнении, что за жизнь одного француза не жаль отдать жизни десяти русских лапотников. Скорее всего, он и предложил обмен своих французских пушек на пушечное мясо из России. В результате чего, царь – батюшка Николай Второй дал своё благословение на отправку русских солдат во Францию и в первых числах января 1916 года почти 9000 тысяч русских солдат в составе 1-й пехотной бригады специального назначения, состоящей из двух полков (по три батальона в каждом), под командованием генерал-майора Лохвицкого. Люди взошли на борт французских кораблей и проделав долгий путь из китайского порта Далян до французского города Марселя, куда они прибыли 16 апреля 1916 года, где были восторженно встречены французскими дамочками.
Стоит отметить, что русский экспедиционный корпус неплохо зарекомендовал себя на французском театре боевых действий и своей грудью защитил Париж, но после февральской революций 1917 года в его рядах началось брожение, которое в сентябре 1917 года вылилось в бунт, жестоко подавленный французской армией. Из-за ухудшения своего положения и под влиянием известий о революции в России, солдаты 1-й русской бригады отказались подчиняться французским властям и потребовали возвращения домой. Туда в качестве представителя Временного правительства был направлен генерал Занкевич, у которого офицером по особым поручениям был поэт Николай Гумилёв, в то время прапорщик. Мятеж был подавлен силами французских частей при участии французской жандармерии с применением артиллерии, по некоторым данным, в результате расстрела из артиллерийских орудий девять солдат были убиты, восемьдесят зачинщиков отданы под суд, а основная группа из 8000 бойцов попала в концлагерь Ла – Куртин (регион Лимузен). В последующем, более лояльным солдатам было предложена работа на лесозаготовках, тогда как революционно настроенных граждан Российской Империи депортировали в Алжир. И лишь несколько сотен солдат, как правило, из казаков продолжив службу во французской армии в рядах французского Иностранного Легиона, участвовали в боевых действиях на французском фронте до ноября 1918 года. После подавления восстания, русские части были расформированы.
Малиновский Родион Яковлевич (11(23).11.1898, Одесса, – 31.3.1967, Москва)
16 апреля 1917 года, в первый же день наступления русских частей в районе форта Бримон, был серьезно ранен в руку солдат Родион Малиновский (в последующем Маршал Советского Союза и Министр Обороны СССР (1957-1967 г.). Он попал в военный госпиталь в г. Реймсе, где с трудом удалось уговорить хирурга не ампутировать ему кисть. Врач отправил его в английский госпиталь в г. Эперне, где английский хирург сделал ему сложнейшую по тем временам операцию, которая позволила сохранить руку. В восстании Родион не участвовал, так как в сентябре 1917 года находился в госпитале в г. Сен-Серван, из-за открывшегося незадолго до восстания кровотечения из старой раны на руке. Родион после лечения в госпитале записался в Иностранный Легион.
В его составе служил до августа 1919 года нижним чином в легендарном 'Русском легионе Чести', входившем в состав 1-й Марокканской дивизии. За героизм при прорыве германской линии обороны (линии Гинденбурга) в сентябре 1918 года, французы отметили Малиновского Военным крестом с серебряной звездочкой, а колчаковский генерал Дмитрий Щербачёв, желая поощрить русских бойцов, представил его к награждению Георгиевским крестом III степени. Таким образом, он был награждён двумя георгиевскими крестами.
В то же время в Иностранном Легионе в качестве переводчика служил, без каких-либо привилегий, известный художник Александр Зиновьев (1889, Москва – 1977, Париж), отразивший в своих рисунках сложную внутреннюю жизнь солдат на поле боя, а также их суровые условия жизни. Он создал цикл фронтовых зарисовок. Станковые работы 1910-х репродуцировались в петроградской газете 'Живое слово' и журнале 'Нива'.
Рассказывая о русских легионерах, нельзя не вспомнить имя легендарного Зиновия Пешкова (1884– 1966), служившего верой и правдой Франции и дослужившийся до чина генерала Иностранного Легиона. Он – кавалер пятидесяти правительственных наград, владел семью иностранными языками, в том числе арабским, китайским и японским. Зиновий Пешков, (настоящее имя – Ешуа Соломон Мовшев-Свердлов) – приёмный сын Максима Горького и родной старший брат верного ленинца Якова Свердлова. С началом Первой мировой войны поступил в Иностранный легион. Был награждён Военным крестом с пальмовой ветвью. В 1916 году после лечения и реабилитации был восстановлен на военной службе и переведён в офицеры, в качестве переводчика был направлен в США, где находился до 1917 года. В 1921 году служил секретарём Международной комиссии помощи по сбору гуманитарных средств для РСФСР. С 1921 по 1926 год был офицером Иностранного легиона в Марокко, где участвовал в военных действиях. С 1926 по 1930 год служил в МИД Франции. С 1930 по 1937 год – при Верховном комиссаре в Леванте. С 1937 по 1940 год служил офицером в Иностранном легионе в Марокко.
Будущий французский легионер и друг Шарля де Голля, Зиновий Пешков родился 16 октября 1884 году в семье еврейского ремесленника в Нижнем Новгороде (на Волге). Старший брат Якова Свердлова, впоследствии председателя ВЦИК. В начале 1900-х годов Ешуа Соломон Мовшев-Свердлов вместе со своим младшим братом Яковом Свердловым и участие в подпольной революционной работе, за что он лично был трижды арестован (1901-1902 гг.). 30 сентября 1903 г., он наконец-то встав на праведный путь, крестился и взял фамилию крестного отца и земляка – М.А. Пешкова (Максима Горького) за что был проклят своей семьёй. Максим Горький знал семью Свердлов и особенно любил Зиновия, за его страсть к авантюрам и к приключениям. У Зиновия был большой художественный талант и он учился в студии Московского художественного театра (МХТ) имел прекрасный голос и абсолютный слух настолько, что он хотел работать в Императорской Филармонии, но судьба решает иначе и в 1904 году в возрасте двадцати лет он уезжает из России в поисках приключений и интересной работы. В эмиграции он работает грузчиком на кирпичном заводе, рабочим на звероферме и в типографии. Он пытался торговать, но быстро обанкротившись, находит себе работу в российском издательстве в США. Позже попав во Францию, он узнаёт о начале 1-й мировой войны, но вопреки своему увлечению революцией в свою бытность в России, не желая поражения ни царской монархии, ни ее союзникам, записывается добровольцем в Иностранный легион. В мае 1915 года, под Верденом, он был серьезно ранен в правую руку и санитар, считая его умирающим, решил бросить его на поле битвы. К счастью, эвакуацией раненных солдат руководил лейтенант Шарль де Голль и Зиновий Пешков был отправлен в военный госпиталь под Парижем, где врачи вынуждены были ампутировать ему руку. Маршал Йоффре наградил российского легионера Военным Крестом и спустя некоторое время он станет другом своего спасителя Шарля де Голля, с которым позже будет участвовать во 2-й Мировой Войне. В молодые годы Зиновий и его брат Яков были увлечены революционными идеями, но в последующем, они оказываются по разные стороны баррикад: Зиновий являлся французским представителем при генерале Колчаке, а его брат Яков стал инициатором 'Красного террора', репрессий против казаков и который сыграл ключевую роль в расстреле царской семьи. В начале 1919 года, Зиновий отправляет телеграмму своему брату Якову Свердлову: 'Яшка, когда мы захватим Москву, то повесим первым Ленина, а потом и тебя, за то, что вы сделали с Россией!'.
Крайний слева Зиновий Свердлов, Крайний справа Яков Свердлов.
Благодаря своей проницательности и умению легко устанавливать необходимые контакты, Зиновий Пешков начинает дипломатическую карьеру, которая быстро идёт наверх. Несмотря на антибольшевистскую позицию Зиновия Пешкова, французские органы безопасности следили за ним, так как его брат был другом Ленина, а его приемный отец Максим Горький был весьма обласкан советской властью. В 1940 году Зиновий Пешков не признал власть нацистских оккупантов и отказался продолжать службу под командованием немцев, за что был арестован и приговорён к смертной казни. Он умудряется обменять золотые часы – подарок Максима Горького, на гранату и захватив одного важного чина в заложники, бежит из тюрьмы. А в последующем умудряется пробраться в стан своего друга – генерала Шарля де Голля, по заданию которого ему удаётся в Африке убедить местные власти поддержать союзников и затем он возглавляет французскую миссию в Китае и Японии. Во время Второй мировой войны, Зиновий Пешков был неоднократно награждён высшими наградами Франции, в том числе Большой Крест Почетного легиона, и становится генералом французской армии. Единственный иностранец бригадный генерал французской армии, друг и соратник генерала Шарля Де Голля, брат Якова Свердлова, литератор друживший с Луи Арагоном, который назвал его жизнь 'одной из самых странных биографий этого бессмысленного мира'. Однорукий и небольшого роста – 162 см., он имел успех у женщин, а Саломея Андроникова – красивейшая женщина и Муза Серебряного века, которую он спас от расстрела в харьковской тюрьме и вывез во Францию, была его гражданской женой.
В 1950 году он ушел на пенсию и жил в Париже. Умер 7 ноября 1966 года в возрасте 82 лет. Его тело покоится на Русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже, где согласно его завещанию, на могиле имеется надпись: 'Зиновий Пешков – Легионер'. У него была единственная дочь от раннего брака с Лидией Бураго – Елизавета, которая жила с матерью на Капри, потом вышла замуж за советского дипломата Ивана Маркова, с которым вернулась в СССР, где в 1937 году её муж был расстрелян. Елизавета прошла лагеря ГУЛАГа и после освобождения работала преподавателем итальянского языка в Военном институте иностранных языков, но в 1948 году из-за угрозы нового ареста уехала на Кубань, работала дворником на пляже. Умерла в Сочи в 1990 году.
1 Кавалерийский полк Иностранного Легиона.
Становление 1-го Кавалерийского полка Иностранного Легиона (1-ere REG). Выживших русских легионеров перевели в Тунис – так сказать 'От Греха подальше' французская империя после Большой продолжила свой рост, и нуждалась в солдатах в подавлении восстаний на новых обширных территориях от Сирии до Марокко и от Индокитая до Мозамбика. Но настоящая история русских в Иностранном легионе началась в 1920 году в Константинополе, куда прибыло более 150 тысяч русских беженцев, среди которых были остатки Белой армии, должностные лица, интеллектуалы и члены их семей. Гражданская война подошла к концу, и белогвардейцы бежали из Крыма, захваченного красной армией. Французы и англичане (бывшие союзники России и Белого движения) поместили своих бывших союзников в лагеря беженцев 'Галлиполи' и 'Лемнос', которые больше походили на концентрационные. В этих лагерях появились вербовщики из Иностранного Легиона. Для бывших российских военнослужащих от солдата до генералов нужно было выбирать между унижением и профессией простого наемника. В свою очередь, вербовщики обещали жалование 100 франков в месяц и 500 франков сразу на руки. Так, в одном из приказов по Донскому корпусу объявлялось, что в результате соглашения генерала Врангеля и командира французского корпуса производится запись казаков на службу во французский Иностранный легион. В нем указывалось, что 'умеющие ездить верхом могут быть отправлены во французскую армию в Леванте (на Ближнем Востоке), ведущую операции в Киликии'. Записалось до 3 тыс. казаков, с которыми в Марселе был заключен контракт на 5 лет. По сведениям Е. Недзельского, в 1924 году было зарегистрировано 3200 русских, прошедших базовый пункт Иностранного легиона в Сиди-Бель-Аббесе в Алжире, причем из них 70% составляли бывшие офицеры, юнкера и солдаты. Всего же за период с 1920 по 1940 год в Иностранном Легионе прошли службу более 10000 русских легионеров. Так 1-й кавалерийский полк стал фактически первым русским полков Иностранного Легиона, основанным в 1921 году в Суссе (Тунис) и по началу состоял он из 128 русскоязычных солдат, казаков и даже генералов начавших свою новую карьеру военного буквально с нуля. По легенде, французский полковник спросил русского легионера: В каком звании Вы были до службы?' получил ответ: 'Я был генералом, мой полковник!' Известно, что в Легионе совершенно не важна прошлая жизнь легионера, но важно, что он из себя он представляет на данный момент и после подписания контракта независимо от званий и титулов добровольцы в то время направлялись в сборный лагерь примерно на месяц, а затем распределялись по частям. Так, из 400 человек 350 были отправлены в Сирию, а остальные в Алжир. Из сирийской группы позже были направлены 90 человек в Бейрут в 18-й ремонтный эскадрон 5-го конно-егерского африканского полка (командир – капитан Е. де Аварис), а 210 – в Горную роту, формируемую в Дамаске исключительно из русских волонтеров (командир – капитан Дюваль). Из воспоминаний легионера Гиацинтова: 'Прибыв на место, легионеры вступали в свои обязанности, и начиналась жизнь томительная своим однообразием и бессодержательностью. Для легионеров 18-го ремонтного эскадрона она сводилась к службе по следующему распорядку: подъем в 6.30 (зимой) или в 5.00 (летом). Утренний кофе и затем сигнал 'строиться', где после переклички обязательная раздача таблеток хины, которые каждый должен был принять на глазах начальства. После этого шло распределение личного состава: кто болен – для визита к врачу; плотники, кузнецы, садовники, писари и т. п. – по своим рабочим местам. Из оставшихся назначались отдельные партии для производства различных работ. После работы и приведения себя в порядок обед, который заканчивался в начале первого. Качество обеда оставляло желать лучшего. Большей частью нам давали чечевицу, которая сменялась фасолью или рисом, изредка давали картофель, а вместо мяса нам выдавали конину, приготовленную при этом в таком виде, что даже очень голодный человек вряд ли отважился бы съесть ее. Поварами были арабы-сирийцы, необыкновенно ленивый и неопрятный народ. После обеда до трех часов дня полагался отдых, затем вновь сбор с чтением нарядов на следующий день, приказов, взысканий и т. п. После сбора различные работы, оканчивающиеся уборкой лошадей и водопоем. В 18.30 ужин, ничем не отличающийся от обеда, свободное время и в 21.00 – отбой. Несмотря на однообразие службы, унижения, оскорбления, типичные для легиона, и нередко рукоприкладство со стороны младшего командного состава (в основном – арабов), и фактически рабское существование, русские волонтеры стремились добросовестно выполнять свои обязанности и жить, по возможности, полной духовной жизнью. Это было замечено высшим начальством и администрацией районов, где размещались легионерские части. Русским, как ответственным исполнителям, стали отдавать предпочтение в различных работах и, спустя два года, в Бейруте, где базировался 18-й ремонтный эскадрон, не было ни одной должности, на которой не состоял бы русский. Большой популярностью в Бейруте пользовалась и гарнизонная музыкальная команда, состоявшая в основном из русских легионеров. Русские песни звучали в домах местной знати, на различных торжественных мероприятиях, вызывая понимание и сочувствие к людям, потерявшим свою родину. Впоследствии хористы команды были откомандированы в распоряжение городского капельмейстера и стали гордостью и достопримечательностью Бейрута. В Бель-Аббесе после прибытия первой партии легионеров из Константинополя стала образовываться русская библиотека. Через полтора года она насчитывала уже несколько тысяч томов классики, новейшей и учебной литературы, сотни газет и журналов. Однако этими 'благами' могли пользоваться очень немногие; большинство русских находилось за пределами 'культурных' центров. Многие спились, тем более что пьянство здесь поощряется. Испытание на 'прочность' и 'человечность' большинством русских было выдержано. По признанию иностранцев, 'духовный лик' с пополнением состава легиона русскими 'волонтерами' изменился. Места авантюристов и жизненных неудачников заняли настоящие воины, искавшие только чести, хотя бы и под чужими знаменами, ставшие 'дисциплинированной и боеспособной и наиболее ценимой частью' Иностранного легиона. Но заслуга русских легионеров была не только в возвышении понятия воинской чести. Благодаря их начинаниям стало формироваться и благоприятное отношение местного населения к Иностранному легиону в целом. Последнее, как ни парадоксально, вызывало у многих французов – представителей 'цивилизованной нации', презрение и даже ненависть. Из воспоминаний легионера Николая Матлина (в прошлом русского офицера) в Легион с декабря 1920 г. и прослужившего в 1 -м кавалерийском полку в Алжире, Тунисе и Сирии более шести лет: 'Недостаток воды и пищи – явление в легионе обыкновенное, но в моей голове не вмещалось, как французы – такие культурные люди, – могут так нагло обманывать, тем более нас, русских, все-таки много сделавших для Франции. Слово 'легионер' в переводе на местный – бандит. Не так давно, всего два-три года до приезда в легион русских (1920 г.), взгляд на легионера был таков: после занятий трубач выходил и сигналил особенным образом, извещая жителей, что легионеры идут 'гулять', и все магазины закрывались. По приезду же русских отношение жителей резко изменилось к лучшему, и даже многие из нас стали бывать в частных семейных домах. Не знаю, с какой целью, но французы всячески старались воспрепятствовать нашему сближению с жителями. Бывали случаи, когда французский офицер, завидев кого-либо из легионеров, гуляющего с цивильными, начинал на него кричать на всю улицу, и придравшись к чему-либо, и нередко приказывал вернуться обратно в казарму. Результат возвращения – 'призон (гауптвахта)'. Особенно тяжелой была служба в легионерских частях, находившихся в Африке или участвовавших в вооруженных конфликтах. Со слов легионера Е. Недзельского: 'Поход совершается при жаре в 40 и 60RС, причем каждый легионер 'все свое несет с собою', а это далеко не так легко: на спине – сак, где находится все имущество солдата, а кроме того, палатка и одеяло, затем – кирка или лопата, двухлитровый бидон обязательно с водой, 2 вещевых сумки по бокам, амуниция и 120 патронов, плюс винтовка. С этой же нагрузкой ведется бой и наступает момент, когда кажется, что уже больше нет сил терпеть и просить Бога о смерти, но отдыхаешь именно, когда вся сила и энергия – исчерпана и когда, почти задохнувшись от большой перебежки под визжащими пулями, свалишься за камнем и вздохнешь полной грудью. Обычно поход начинается до рассвета, весь день, иногда с боем, к вечеру намечается место остановки, часть начинает ставить палатки, другая идет за топливом и водой для кухни, а остальные возводят из камней траншею в 1 м 20 см высотою. С наступлением темноты все огни должны быть потушены, чтобы не привлечь внимания противника. Спят обычно не в палатках, а в траншеях, чтобы каждую минуту быть готовым к встрече самого неожиданного противника. Спят в амуниции с винтовкой, привязанной ремнем к руке, т. к. потеря ее обрекает легионера на новый контракт. Как стойкий анекдот, передающийся из поколения в поколение легионеров, ходит правило, что если легионера желают оставить в полку, ночью у него подрезывается ремень и вынимается из рук винтовка. При условии нечеловеческой усталости это нетрудно. Большинство ночей проходит тревожно, с перестрелками, а иногда и с боем. Особенностью марокканцев является их глаз: он видит в темноте и меток при выстреле. Поход кончается там, где удобно и сообразно расположить пост, т. е. вернее создать его. Помимо стратегических планов, местом его является возвышенность и близость воды. Здесь неделю-две легионер несет двойную работу: днем – как чернорабочий, ночью – как солдат. Днем он каменщик, плотник, работает в 'карьерах' по добыванию камня, выжигает известь, рубит дрова и т. п. И вот, со временем, на пригорке вырастает белокаменный пост с бойницами для винтовок и пулеметов. Кругом он обносится колючей проволокой. Наконец, над постом взвивается французский флаг. 'Колонна' продолжает движение вперед, создает новые посты, и так в течение нескольких месяцев. В течение всей 'колонны' легионер спит не раздеваясь, в пыли, иногда под дождем, мучается от паразитов, а иногда не может в достаточной мере утолить жажду, не говоря уже об умывании. После такого путешествия все части уходят на отдых, а легионеры распределяются по отдельным постам, продолжая отчасти постройку, а главным образом для дозора, причем никакой связи с окружающим миром нет. Как выражается один из моих корреспондентов – 'постовики без цепей прикованы к своему детищу', защита жизни связана с защитой поста, отступать некуда и сдаваться нельзя во имя жизни. Время сидения на посту русские назвали – 'великим постом' в том смысле, что эта 'животная жизнь' продолжается от 3 до 5 и 6 месяцев. Опасность заключается, с одной стороны, в атаках, а с другой, специально арабской, – в снимании часовых ночью метким выстрелом. Каждый, испытавший фронт, знает, что разница между солдатом и начальником на боевой позиции значительно стирается, гнет дисциплины переходит в чувство инстинктивной солидарности. Скверное отношение начальства, старающегося окончательно убить в легионере еще остающиеся в нем признаки человека и самолюбия, доводит солдата до того положения, когда он действительно становится похожим на животное. Сержант – бич легионера!
Легионер Архипов (в прошлом капитан), в одном из писем отмечает: 'Отношение настолько хамское, что едва хватает сил удержаться... кормят настолько скверно, что даже вспоминаю Галлиполи. В последних боях погибло очень много русских'
С момента своего рождения 1-й кавалерийский полк разросшийся до 3500 русских легионеров участвовал в подавлении народных восстаний в Сирии и Марокко и вскоре поток русских солдат заполнил и другие полки Иностранного Легиона и только в третьем иностранном полку в Марокко было более 500 выходцев из России. В середине 1920-х годов, русские легионеры составляли 75% от общей численности всего Иностранного Легиона. По составу 5% русских солдат были бывшими заключенными немецких концлагерей, 10% бывшими солдатами Российской экспедиционной силы, 25% остатками южнорусской армии Деникина и 60% армии барона Врангеля. Так или иначе, русские легионеры в боях заслужили уважение французского командования в боях в Марокко, где в частности участвовал 1-й кавалерийский полк. Потом они также появились в пустынях Алжира и Туниса, в джунглях Индокитая и в ливанских горах сражаясь против мятежников, которые выступали против французской колониальной империи. Так, полковник российской армии Козлов служил в легионе в чине простого сержанта. Ему предлагали офицерское звание и должность, но он отказывался, объясняя, что в Великую войну был несколько раз ранен и контужен в голову. Частые кровоизлияния в мозг могут помешать ему на посту командира. Но немногих офицеров в легионе так слушались и так уважали, как сержанта Козлова. За ним шли без всяких сомнений. В последнем бою русский полковник был трижды ранен, но строй не оставил. Четвертое ранение оказалось смертельным. Он навсегда остался в песках Северной Африки в жаркую зиму 1923 года. Наличие бывших российских офицеров и солдат увеличило общий культурный уровень полков 'ИЛ' так среди русских было только 2% неграмотных. Уровень преступности среди русских солдат были относительно низким и арабы, которые исторически боялись французских легионеров, с прибытием русских легионеров постепенно проникнувшись к ним доверием, перестали закрывать свои магазины и кафе, завидев издалека белые кепки легионеров.
Российские легионеры. 1925
В 1-м кавалерийском полку была открыта русскоязычная библиотека и в последующем она стала самой большой библиотекой в Легионе и 1925 году т.к.открылся её филиал в 3-м полку расквартированным в Марокко. На войне как на войне и у каждой медали есть обратная сторона. И со слов Николай Матина (в прошлом офицера), сторожевая служба, которую пришлось нести в Африке на границе с Триполитанией в условиях жаркого климата, вызывала среди завербованных в легион казаков массовое дезертирство.