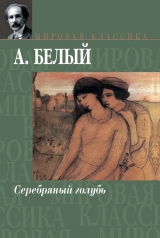
Текст книги "Серебряный голубь"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Генерал Чижиков
В наших местах уже пять с половиною лет появился генерал Чижиков; появился он с треском, с барабанным боем, со сплетней; и победоносный скандал шествовал за ним по пятам; но в течение пяти лет генерал Чижиков, с позволения сказать, перепёр через все скандалы, окруженный деньгами, вином, женщинами и славой.
Генерал Чижиков, говорят, проживал по подложному паспорту; несомненно же было одно: генерал Чижиков был, разумеется, генерал и притом в самых в важных чинах; он же был Чижиков. Что приятная сия персона состояла в почтенном генеральском звании и имела красную ленту, в том удостоверяли те, кои имели обычай проживать в столичном граде Санкт-Петербурге; у особ великосветских, особ сановных встречали они Чижикова, а кто же помимо господ генералов, да княжеских сынков бонтонные [45]45
Бонтонный – изысканный, светский (от ф p. bon ton – хороший тон, светская учтивость).
[Закрыть] такие посещает места, где и господа генералы-то в струнку вытягиваются без всякой шикозности, и где пошучивает фамильярно разве что его высокопревосходительство, министр? Там-то, бывало, имел генерал Чижиков круг своего вращения, но потом перестал бывать: разрадикальничался донельзя и чуть ли не понес в провинцию проповедь красного террора; говорят, будто сыскное отделение тогда горевало ужасно; как бы то ни было, генерал Чижиков появился в наших местах, круговращаясь по уезду: от помещика к купцу, от купца к попу, от попа к врачу, от врача к студенту, от студента к городовому – и так далее, и так далее.
А что подлинный он Чижиков – в этом не сомневайтесь: уж в участке разберут, кто подлинный и кто подложный! Не ради чего иного – скромности ради под плебейскою сею фамилией родовитейший граф, знатнейшая некая ото всех фамилия приутаивалась до сроку – да, да: это был граф Гуди-Гудай-Затрубинский! И Гуди-Гудай-Затрубинский на всякий фасон, можно сказать, из генерала выглядывал – эдакая шельма! Приедет: Чижиковым с вами не посидит получаса; а потом как попрет, как попрет на вас аристократ, так даже душно станет от аристократизма: белую кость всяким манером свою вам покажет – вынет платок, а от платка в нос вам кёр-де-жанет, убиган или даже сами парижские флёр-ки-мёр! Преканальскую выкажет «сан-фасон», черт подери, гостинного тона, хотя бы уже одной своей картавней (генерал не выговаривал ни «р», ни «л»); и широкая проявится во всем барскость, шарманство с барыньками; всякие «мерси, мадам» так и виснут в воздухе – и, я вам доложу, кончики пальцев расцелуете-с: не генерал, а душка, крем-ваниль-с (не смотрите, что лет ему будет за пятьдесят, что зубков генерал лишился, а что бачки у него не совсем приятного цвета – плевательного). С графом он граф, с писарем – писарь: в трактире напьется и еще селедочный хвостик обсосет; ничего не следует и из того, что битых пять лет генерал бил баклуши, проповедовал красный террор, проживая на хлебах у лиховских богатеев. Ну, что же из этого следует? Да ровно ничего! «Инкогнито» – ха, ха! Надо же что-нибудь делать; вот и комиссионерствует генерал для купцов в отплату за выпитый полк белоголовых бутылок! Уже вы и поморщились! Ну, так знайте: к белой, Гуди-Гудай-Затрубинской кости грязь все равно не пристанет.
Всякое, всякое за генералом водилось: вольное довольно с деньгой обращение, неприятные ситуации с жадно амурничающими барыньками, с гимназистками вертоплясы, с мордашечкой горничной неприличный анекдотик – и прощали, потому что кто же не без греха; знали все, что и мот, и амурник; а словам генерала вот уж не удивлялись! Трижды уже генерал собирался предать наш уезд огню и мечу; да пока еще все щадил. Что говорить! Мужики, – и те генерала знавали! Недаром, видно, пустили в народ, будто белый генерал, Михайле Дмитрич, не умирал никогда, а тайно у нас проживает в уезде под видом разбойника Чуркина. Лишь одни железнодорожные служащие болтали болду, что сыскное отделение способствует весьма бравой деятельности штатского генерала, городя о нем небылицу на небылице; что будто ни Скобелев он, ни разбойник Чуркин [46]46
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843 – 1882) – генерал от инфантерии, известный русский полководец, герой русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Его имя соединяется здесь с именем популярного персонажа из лубочных повестей и драм – разбойника Чуркина.
[Закрыть], ни даже граф Гуди-Гудай-Затрубинский, а просто – Матвей Чижов, агент третьего отделения.
Гости
– Всюдю в акгестности агьяйные беспогядки: бьягопоючно ги у вас? – осведомлялся генерал Чижиков, целуя полную баронессину ручку и рас-простроняя от бак благовоние туберозы, которой только что в тройке опрыскал баки… – А мы с Укой Сиычем к вам, багонесса, по деу, – продолжал чаровник, плутовски указывая красной, дворянской фуражкой по направлению к тройке; с достоинством молча оттуда поднялся высокий, сухой, исхудалый мужчина с небольшою седою бородкой, приподымая скромный картуз над остриженной в скобку сединой; это и был миллионер Еропегин; тут поняла баронесса, что тройка, лошадь, кучер, да и вся упряжь – не чижиковская (Чижиков ничего такого при себе не имел), а еропегинская.
Взором, Бог весть отчего, в купца впилась баронесса, и, Бог весть, был вопрос почему в ее взгляде невольный; невольные по лицу пробегали досада и страх; будто даже со злобой она подумала; «Исхудал-то как, исхудал: одни живые мощи остались…» Еропегин же застенчиво на нее поглядел чрез очки и глаза его не выразили ничего ровно; одно степенное в них отразилось достоинство; все же чувствовалось, что степенное это достоинство всегда и везде сознает свою силу, да, да, да – пришло то желанное времечко, когда в три погибели должна согнуться белая, благородная, баронская кость пред его, еропегинским, упорством: «согнись-ка, согнись-ка, – думал он, – да еще в ноги мне поклонись: захочу – потоплю; захочу – половина баронских угодий останется при тебе». Но эти мысли не отразились никак, когда он прикладывал свои мертвые губы к пухлой ручке старухи; как смерть белая, с белым от притираний и пудры лицом, с белыми от времени волосами, в меховой белой тальме [47]47
Тальма – женская длинная накидка без рукавов.
[Закрыть] она ему напомнила призрак.
Грянула где-то там рыдающая гамма звуков: это в доме Катя села за рояль; звуки кидались менуэтом в мгновеньях, что неслись за мгновеньями; и время наполнилось звуком; и казалось, что и нет ничего, что не звук; и встали тут аккордами старухины прожитые годы, ручьи золотые, молочные реки и свора жадных, гадких, до ласк падких мужчин; и среди них – этот вот купчик гулящий; но его отстранили тогда от нее гусарские шпоры.
И вот он опять перед ней с глубоко затаенной своей думой: «За все теперь пришел час моей мести: и за то, что мои ты некогда взволновала мечты, когда я, молодой купчик, твою полюбил уже дряхлеющую красу; а ты?… Ты из Парижей да Лондонов сюда надо мной наезжала глумиться, мою мучить младость».
Эти мысли пронеслись мгновенье, окрыленные туками; он еще поклонился; она приглашала его жестом, полным величия, в дом.
А уже легендарный генерал давно провольтижировал в переднюю и там пренебрежительно швырнул в руки Евсеичу – ей, ей, – потрепанную крылатку, из-под которой так и обдала своим благовонием тубероза-лубэн; оказавшись в клетчатой, яичного цвета визитке и сохраняя на левой руке еще более яичного цвета перчатку, генерал, гордо выпятив грудь, ступил в залу, и тотчас же принялся за поиски плевательницы; наконец, нашел и плюнул. Так ознаменовалось первое предприятие в доме этой великолепной особы. Генерала встретил Дарьяльский.
– Действительный статский советник Чижиков.
Обменялись рукопожатием.
– А-а-а, могодой чеовек! Да вы кто, есь-ей, есь-дек? Пгедгагаю вам гешить агьяйный вопгос – тьфу (это он сплюнул в угол); мы, несущие кьясный тегог, понимаем пгекгасно, что пгавительству сьедует ввести пгогьесивный наог, чтобы остаться у вьясти, но докажите-ка агьяиям, что такое мегопгиятие… – увидя в зал входящую баронессу, родовитое инкогнито присмирело, оборвало свои кровавого цвета речи и замурлыкало себе под нос, подмаргивая Дарьяльскому: – Та-га-га… Та-га-га… А у меня есть для вас пгек-гасные ньюфандьенды, щенята: собаку моего дгуга судили, и пгекгасные ньюфандьенды! – разорвался, как бомба, генерал, – уай-уай… годиись… уай-уай… в окгужном суде… (генерал испускал звуки восторга, что-то среднее между «у» и «а»).
– Благодарю вас, генерал, – сухо, но вежливо процедила старуха, но в глазах у нее закипали смутное недоверие и боязнь; вежливо указала она генералу на кресло; и генерал тотчас сел и принялся за шипучку из смородинного листа, которую, по давно заведенным обычаям летнего времени, разносил всем гостям Евсеич, хотя лил дождь и – жары не было.
Еропегин, которого, будто забыв, не пригласила сесть баронесса, переминался в довольно неловкой позе, и его сухие, цепкие пальцы суетливо забегали по длинной поле черного сюртука; наконец, не дожидаясь приглашения, он сам придвинул себе кресло и спокойно уселся, не произнося ни слова.
Все замолчали; грянула где-то там волна изры-давшихся звуков: точно кто-то быстро перебежал снизу вверх; это время чью-то перебежало жизнь; и мукомол вздрогнул: полна жизнь еропегинская, – вот в его кулаке весь уезд; сожми он кулак, закряхтят баре: таковы дни его жизни. А ночи? Ночи летят – и в ночах седеет иконописная его голова… вино, фрукты, женские всякого сорта тела – все летит, как и звуки летят: а куда все слетит? Пролетит и он, Еропегин, в свою пустоту со своей полнотой жизни, а у певичек его, как вот у этой старухи, зубы выпадут и заморщится кожа.
Так сидели они и смотрели друг на друга – старик смотрел на старуху; сожженными казались оба трупами собственных жизней; одна проваливалась уже в мрак; перед другим теперь многих лет мечта исполнялась; но души обоих равно были от жизни далеки.
«Пора начинать», – Еропегин подумал и молча подал старухе запечатанный конверт, наслаждаясь, как ее трясущаяся рука судорожно разрывала обертку; старуха, надевши очки, простучала палкой к письменному столу. И пока из пакета на стол рассыпались бумаги, Лука Силыч, пощипывая бородку, холодно безделушки разглядывал из фарфора, расставленные на полочке Катиной бережною рукою; две танагрские статуэтки [48]48
Танагрские статуэтки – терракотовые статуэтки из древнегреческого города Танагра (IV в. до н.э.).
[Закрыть], видимо, привлекали его внимание; мысленно он прикидывал им цену.
Тою порой генерал Чижиков, не усидевший на месте, уже прижимал Дарьяльского к противоположному углу комнаты; надувши губу, он на животе теребил свой тяжелый брелок и продолжал разрываться словами:
– А стганная, стганная, могодой чеовек, в наших местах появиась секта… Гоуби появиись, гоу-би, – наставительно поднял он палец и высокоприподнятые брови генерала выразили снисходительный комизм. – Секта гоубей: испгавник мне говоий, будто секта эта мистическая и вместе с тем гевойюционная – гоуби! Па-па-па, что вы об этом скажете, батенька?
– Что же это за секта? – минуту спустя переспросил Дарьяльский, мысли которого были в другом: он равнодушно смотрел через плечо генерала, как показался в дверях Евсеич с подносом в руках; но увидевши, что никто, кроме генерала, не коснулся шипучки, Евсеич скрылся.
– А вот-с, по секгету, – генерал вынул бумагу, на которой был отпечатан крест: – Позьвогьте пгачесть пьякьямацию… – и генерал зачитал: – «Бгатия, испойниось сьово Писания, ибо вгемена бьизки: звегство Антихвистово наожио печать на земью Божью; осени себя кгестом, нагод пгава-сьявный, ибо вгемена бьизки: подними меч на сьюг вейзевуовых; от них же двогяне пегвые суть: огнем попаяющим пгойди по земье гусской; газу-мей и могись: гождается Дух Свят: жги усадьбы отчадия бесовского, ибо земья твоя, как и Дух твой…»
– Читать дайше? – торжествующе поглядел генерал Чижиков, но Дарьяльский молчал; он смотрел в противоположный конец комнаты, где стоял Еропегин над баронессой, как седой, сухой труп; за письменным столом дрожала, пыхтела и таращила в ужасе черные очи свои из-под темных, опухлых мешков баронесса, перебирая пальцами горсти бумаг, квитанций, расписок; а то она растерянно туловищем прикрывала бумаги, и горбатая, набок свернутая спина, белая, как и она вся, беспокойно ёрзала над ее опененной кружевом головой; старуха как бы собралась лечь своей грудью на жалкие эти остатки когда-то ценных, процентных бумаг, а между тем как стрелы ее еще прочных, но тьмой упоенных и каких-то детских глаз записали дуги по шкапчикам, коврикам, занавескам, минуя Луку Силыча.
И наоборот: тихо, степенно, скромно застыл перед ней иконописный, будто с иконы сошедший, старец, свое партикулярное одергивая платье; сухими перстами взял, и сухими перстами перебирал какую-то книгу; только стекла его очков леденили жестоким старуху блеском, – совершенно разыгранным они жгли безразличием; вот он положил книгу, ласково взялся за свой картуз, оправил длинную полу черного своего сюртука и зажевал губами:
– Ндас, баронесса: по счету к первому июлю, стало быть, вы мне уплатите двадцать пять тыщ, и по скупленным мной векселям протчие полтораста – к августу. Ну, а с миллионами, очень даже мне это жалко, а придется вам распроститься… Акции Метелкинской ветви, сами видите, как упали-с, – потому война; акции Вараксинских рудников, после того как банк лопнул, тоже ломаного гроша не стоят-с… Забастовки и все протчее-с… Очень мне это даже обидно за вас и жалко, а… Ну, так как же-с? Я пришлю, стало Оыть, своего управлющего за двадцатью за пятью: пообдержался, деньги, сами знаете, нужны: и потом – економический кризис нашей страны… Все это он проговорил тихо, едва слышно; и тихо, степенно, скромно сел в кресло; а под старухой скрипело, ходило сафьянное, крепкое, красное кресло; только едва видная усмешечка сухих, мертвых, иконописных Луки Силычиных губ да дрожанье бородки выдавало очевидное удовольствие при виде самой баронессы Тодрабе-Граабеной, которая, пальцами ухватясь за ручки кресел, привстала; блеснул ее изумруд, треснула набалдашником на пол упавшая палка; и уродливая тень на стене выметнулась из угла.
– Да вы с ума сошли, батюшка? Ведь у меня эдаких денег наличными нет…
– Ну, а коли наличными нет, значит, худо, очень даже худо для вас, – так же все ласково продолжал Еропегин… – Двадцать пять тыщ мне нужны сейчас, а за протчими…
Молчание.
– Лука Силыч, пощадите вы меня! – вырвалось у старухи.
Молчание.
– Так как же-с? Значит, к первому я пришлю…
Он не казался исполненным величья; но все же упился теперь своим мертвым достоинством.
– Так, значит?… Молчание.
Он думал: «Ежели бы поклонилась мне в ноги, все бы так я и простил». – Но старуха не кланялась; и ласковый Лука Силыч оставался неумолим.
В противоположном углу комнаты генерал Чижиков продолжал заливаться, что твой заправский соловей:
– А, каково? Я всегда говоий, что ггубое сек-танство не совместимо с гевоюцией; я вообще стою за пготестантизм: а то вот что погождает пгавосьявная Цегковь: говоят, что будто мы пьем кьёвь Бога и едим Его пготь: газве мы едим того, кого юбим? И потому… уай, уай, ггаф Тайстой… Та-га-га… Та-га-га, гоуби, а – гоуби?!. – и сплюнул в плевальницу.
«Вот оно, – думал Дарьяльский, – разложение началось…» – Он себе на свою отвечал мысль: только что в его душе угомонился бушевавший вчера хаос, и в нем совершилась победа над гибельным, с пути его сбивающим чувством, – и бесы из его вышли души, – как уже вновь они зароились вокруг него и приняли нелепые, но вполне реальные образы: уж подлинно – не из туманной ли мрази, упавшей на окрестность, зародилась эта тройка, да и сам генерал: просто осела тройка в тумане и чья-то ее бросила на усадьбу мстительная рука. Бог весть из каких мест людей этих принесла тройка; не для того ли, чтоб вожделений тайное безобразие снова обстало его окружающей стаей?
Как бы отвечая на его мысль, чьи-то с террасы раздавались шаги; Петр поглядел в окно; и там, в окне, стояло теперь нелепое существо в серой фетровой шляпе – и качало маленькой своей, будто сверху приплюснутой на непомерно длинном и тощем туловище головкой; «этого только недоставало», – едва успел подумать Дарьяльский, как нелепое существо, в окне его увидав, радостно бросилось по ступенькам террасы, а с непромокаемого плаща потекла на ступеньки дорожка воды; нелепое существо улыбалось; оно оказалось молодым человеком с совиным носиком и в подвернутых штанишках; вот оно споткнулось о ступеньки террасы, точно подпрыгнуло на своих комариных ногах; вот и еще преткнулись его ноги и покатился в сторону серенький узелок; что-то было до крайности жалкое и смешное во всей фигуре новоприбывшего, и генерал Чижиков, приложив свой лорнет, удивленно его разглядывал; но, преодолев все препятствия, а их было немало, молодой нелепый человек, приятно краснея, как робкая девушка, с очевидным восторгом заключил Петра в свои сырые объятья, отчего фигура нелепого человека изобразила явный вопросительный знак и дрябло сломились ноги; но каково же было изумление генерала, когда нелепое существо запищало тоненькой фистулой:
– Высокоуважаемый Петр Петрович… Я, то ись, не я… и по очень простой причине, что… наведался, так сказать, полюбоваться на ваше, сверх ожидания, счастливое и приятное положение, вызванное неуклонным желаньем сочетаться законным браком с ангелоподобным существом…
Петр, освобождаясь от объятий и подавив досаду, старался изменить бестактный ход мыслей нелепого существа:
– Добро пожаловать, Семен… я рад тебя видеть… Ты, собственно, откуда и куда?
– Идучи пехтурой в Дондюков, где у меня проживает родительница, – и наоборот: задумал я на пути навестить однокашника, друга… и поэта, а, кстати, поздравить этого друга с высокоторжественным фактом отыскания спутницы жизни… и в столь уютной обстановке! – тут молодой человек, выпятив плечо и закручивая усик, вдруг расхрабрился и подлетел к баронессе, чтобы прилично отшаркаться. Но Дарьяльский опять отвлек его.
Баронесса и Еропегин, занятые друг другом, не обратили, казалось, никакого вниманья на новоприбывшего; но генерал Чижиков так почему-то и запылал интересом, почуя скандальчик; порывисто он пожелал быть представленным, в знак чего протянул два свои пальца нелепому существу.
– Чухолка, Семен Андронович, студент Императорского Казанского университета.
– Ничего, ничего, – процедил снисходительно генерал Чижиков, – маядежи свойственно увлекаться: есь-ей, есь-дек? – вопросительно поглядел он на Чухолку.
– Вовсе нет, – запищало нелепое существо, – ни эс-эр, ни эс-дек, а мистический анархист и по очень простой причине, что…
Сон наяву
Дарьяльский и Чухолка стояли во флигельке; и окне бился праздный комар. На Петра взглянет Чухолка [49]49
Чухолка… мистический анархист… – Пародийное переосмысление фамилии Чулкова Георгия Ивановича (1879 – 1939), выступившего в 1906 г. с теорией так называемого мистического анархизма, которая вызвала серию язвительных фельетонов Белого.
[Закрыть] – Петр богатырь: стоит, напрягает мускулы.
– Ну что, брат Семен?
– Да так оно все, то есть, никак, собственно; и наоборот, а, впрочем: читаю Дю-Преля [50]50
Дю Прель Карл (1839 – 1899) – немецкий философ-метафизик, который пытался соединить оккультизм с дарвинизмом, объявляя оккультизм «новым естествознанием».
[Закрыть], пишу кандидатское сочинение об ортокислотах бензойного ряда.
– Эге!
– Материальные нужды одолевают, так сказать, а коловратная судьба препятствует правильному развитию ментальной моей скорлупы [51]51
Согласно оккультным воззрениям, каждый человек «потенциально» состоит из трех «тел»: физического, астрального и ментального. Конечная цель теософа – выявить в себе ментальное (то есть духовное) тело и достичь «сверхсознания».
[Закрыть]…
– Ну, да ты брось теософию… Денег надо?
– Да, то есть, – нет, нет, – запетушился, заерошился Чухолка. – Я, собственно говоря, – хм: позволишь на «ты»? Да; так вот; я, собственно, ни зачем – так: навестить однокашника и поэта в месте поэтических увлечений – что я! в месте амурных его похождений – совсем не то! – вовсе запутался Чухолка, наткнувшись на стол, – в месте злачном, и в круге наблюдений над русским народом в момент, так сказать, напряжения его духовных сил в борьбе за право, и по очень простой причине, что…
– Эге! – отмолчался Дарьяльский, чтобы остановить вовремя этот бессвязный поток, могущий в любую минуту превратиться в совершеннейший океан слов, в которых имена мировых открытий перемешаны с именами всех мировых светил; теософия [52]52
Теософия – религиозно-мистическое учение Е. П. Блаватской (1831 – 1891) и ее последователей, сложившееся под влиянием индийской философии, оккультизма и мистических доктрин Древнего Востока.
[Закрыть] тут мешалась с юриспруденцией, революция с химией; в довершение безобразия химия переходила в кабаллистику [53]53
. Кабаллистика, или каббалистика – «практическая наука» о возможности воздействия человека (с помощью определенных ритуалов и молитв) на божественный космический процесс. В основе своей имеет Каббалу – мистическое учение, созданное в недрах средневекового иудаизма, в котором вера в Библию как в мир символов соединялась с идеями неоплатоников и гностиков.
[Закрыть], Лавуазье, Менделеев и Крукс [54]54
Крукс Уильям (1832 – 1919) – английский физик и химик.
[Закрыть] объяснялись при помощи Маймонида [55]55
Маймонид (1135 – 1204) – крупнейший вероучитель иудаизма, давший в книге «Мишне-Тора» свод всего еврейского законодательства.
[Закрыть], а вывод был неизменно один: русский народ отстоит свое право; это право вменялось Чухолкой в такой модернической форме, что по отдельным отрывкам его речи можно было подумать, что имеешь дело с декадентом, каких и не видывал сам Маллармэ [56]56
Маллармэ Стефан (1842 – 1898) – французский поэт, один из лидеров символизма.
[Закрыть]; на самом же деле Чухолка был студент-химик, правда – химик, занимавшийся оккультизмом, бесповоротно расстроившим бедные его нервы; и вот казанский студент являлся бессильным проводником всяких астральных нечистот; и отчего это, будучи добрым и честным малым, неглупым и трудолюбивым весьма, Чухолка пропускал сквозь себя всякую гадость, которая лезла из него на собеседника? Всякая путаница вырастала в его присутствии, как растут из щепотки порошка фараоновы змеи [57]57
Имеется в виду эффектный химический фокус, основанный на том, что при горении цианокислого серебра из сухого порошка возникает быстрорастущая «змееподобная» масса.
[Закрыть]; низкое же происхожденье, тонкая фистула голоса, расплющенная головка и совиный нос – довершали остальное; Чухолкой тяготились, Чухолку гнали из всех мест, где имел он несчастие появиться: всюду своим приходом вносил он вибрион [58]58
Вибрион – разновидность бактерий.
[Закрыть] безобразий.
Вводя в свой флигелек студента, Дарьяльский не мог не поморщиться: этот день он хотел провести с одной только Катей; должен же он был, наконец, объяснить ей свой вчерашний уход? Но еще более Дарьяльский морщился оттого, что появление Чухолки на его горизонте бывало всегда для него недобрым предвестием – насмешкой, что ли, невидимых врагов: так, однажды, поймав Дарьяльского, Чухолка его поставил на сквозняк; и простудил; другой раз он заставил Дарьяльского перепутать все сроки; в третий раз появился в день смерти матери; с той поры Чухолка пропадал; и вот он опять появился. У Дарьяльского было особое даже желудочное ощущение (тошнота и тоска под ложечкой) после бесед с казанским студентом. «Черт его знает, – подумал наш герой, – опять пришел этот Чухолка: опять на меня из него всякая попрет гадость».
А бедный Чухолка уже в комнате его свой раскладывал узелок, и Дарьяльский дивился, как все там было в порядке уложено, перевернуто: пакетики в белой бумаге перевязаны розовой ленточкой, несколько новеньких книжек в новеньких переплетах; зубочистки, гребенки, щетки в исправной чистоте; была одна всего смена белья, две ситцевых рубахи и один поясок; но зато имелась склянка с одеколоном, пудра, бритва и даже пресловутый парикмахерский камень всегда таинственного происхождения; но всего более удивил Дарьяльского свежий кулек, из которого торчала большая испанская луковица.
– А это что у тебя?
– А это я матушке: проживая в деревне за неимением избытков материальной жизни – да: матушка лишена удобств, и вот я везу ей в дар испанскую луковицу и по очень простой причине, что… Ежели б та аристократическая старушка пленилась луком, я бы ее улучил – совсем наоборот: поднес ей этот скромный дар.
– Оставь…
Дарьяльский вышел из флигелька: Чухолка его положительно раздражал; больше ни минуты не мог он оставаться наедине с этим бредом.
Дождь прекратился: опять на минуту блеснуло солнце; Гуголево предстало пред ним, развернулось, в цветущие свои оно его заключило объятья – и вот оно глядит на него, Гуголево: озером светлоструйным своим теперь оно глядит, Гуголево; но баюкает еще своим голубым поющее серебром озеро; и все еще бегущее озеро к берегам, к берегам оно струей своей тянется – не дотянется до берегов: и шепчется с осокой, – и там, в озере, Гуголево; будто все как есть оно встало из-за дерев, с улыбкой потом загляделось на воду – и убежало в воду; и уже в воде оно – там, там.
Глядите вы – обращенный, легко в глубине танцующий теперь дом заструился легко; и белыми теперь змеями странно пляшут колонны, проницая светлость вод, а под ними – там, там: опрокинутый странно купол, и странно там пляшет проницающий глубину светлый шпиц, а на шпице – лапами вверх опрокинулась птица; как все теперь вверх опрокинулось для него! И он смотрит на птицу; теперь лапами она оторвалась, и вся как есть для него она в глубину уходит.
– Куда ушла от меня, ты, моя глубина?
А там-то, там-то! О, Господи, – плещется она вся, звенящая быстрина: вот что такое теперь в душе у Дарьяльского.
«Там, душа моя, – глубоко: там – студено, студено; и все у меня там мне неведомое. Неужели же не со мной, а как птица, что снялась в глубине с танцующего шпица и улетела, неужели же так снялась с тела и улетела моя душа? там, заронясь в воду, текут облака – и подводная то неизмеримость, но то – вод поверхность; так почему же поверхность эта мне показала свою глубину, как и годы мои, что протекали на поверхности – так и годы мои не здесь протекали, а там, в зеркальном отражении… Слушай струй лепет: гляди в светло зыблемое отраженье, более прекрасное еще, чем жизнь: зовут струи – туда зовут, и там, там стрижи вьются, кружатся, стригут крыльями воздух подводный; и моя душа – расстригающий глубину стриж. Куда она летит, моя душа – куда? Она летит на зов; как не лететь ей, когда бездна ее призывает?»
«Эге! А куда же, в самом деле, моя девалась душа?» – подумал Дарьяльский; сладкая сладость и легкость в теле во всем его разливалась пением нежным и далеким зовом души.
И он понял, что давно где-то затеряна его душа, и что нет ее в Гуголеве, как нет никакого Гуголева в глубине отливающих блеском вод; там вон и дом, и цветы, и птицы, а кинься: болотная слизь тебя обсосет и в грудь твою черная вопьется пиявка. Где же она, его душа, коли вовсе нет ее в бренном теле? Как пернатый орел, ниспавший на птицу, цепко в лапах своих ее держит, и кружится с ней в небе, где нет ничего, кроме воздуха токов, и в небе, в воздуха токах, страшное происходит сраженье, и летит пух, и брызжет кровь, – так давно еще кто-то на душу его напал, в воздуха токах, и летели дни, и брызгали молнии его кем-то внушенных мыслей – кто-то на душу его напал в то роковое мгновенье, когда она, душа, совершала полет свой вдали от земного своего образа; давно уж кругом с опасеньем взирал земной его образ, оглядывался на людей, на пустые углы, на цветы, на кусты – что мог он заметить в кустах, кроме птичьего щебета? А борьба шла: так мать похищенного орлом дитяти, в воздух свои заломившая руки, в воздух глядит – и уже нет никого в воздухе: ни орла, ни ребенка; и уже далеко-далеко и орел, и навеки для нее утраченное дитя.
Вот и он: Гуголево уставилось на него из воды, – ну, скажите: разве то Гуголево? Легкая по воде пробежала рябь, и там уже нет ничего: только белые пузырьки, будто кто-то по воде прошелся стеклярусом, да старушечий шепот осоки, да, пожалуй, еще кто-то: вон тянется из воды его рука, могуче простертая, старческая.
Дарьяльский проснулся с тяжестью в голове, тщетно силясь припомнить, что такое ему во сне померещилось: и ничего не помнил. Гуголево снова предстало пред ним, развернулось, в цветущие свои оно его заключило объятья; озером светло-струйным своим теперь оно глядит, Гуголево. И какая-то сладкая песня подымается в его душе. Тихо над ним из осоки наклоняется розовый детский лик, и дитя улыбается, и склоняется, поднимает руку с розовым цветиком, – ах: из-за его спины на поверхность пруда упал иван-чай. Петр обернулся.
Катя стояла перед ним: она наклонила бледное свое личико в розовых иван-чаях; искоса она глядела на него; будто она невзначай здесь, у воды, накрыла Петра; и она молчала.








