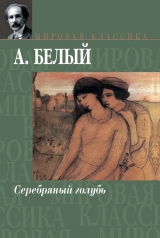
Текст книги "Серебряный голубь"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Невозвратное время
Солнце стояло уже высоко; и уже склонялось солнце; и был зной, и злой был день; и днем тускло вспотело тусклое солнце, а все же светило, но казалось, что душит, что кружит голову, в нос забирается гарью, простертою не то от изб, не то от земли, перегорелой, сухой: был день, и злой; и был зной, когда судорожно сжимается сухая гортань: пьешь воду в невыразимом волнении, во всем ища толк, а томная, тусклая пелена томно и тускло топит окрестность, а окрестность – вот эта овца и вон та глупая баба – без всякого толка воссядут в душе, и, дикий, уже не ищешь смысла, но ворочаешь глазами, вздыхаешь. А злые мухи? Вздохом глотаешь злую муху: звенят в нос, в уши, в глаза злые мухи! Убьешь одну, воздух бросит их сотнями; в мушиных роях томно тускнет сама тоска…
Солнце стояло уже высоко, и уже оно клонилось, и свет нагло влетал сквозь кисейные занавески поповского домика, так что каждая обозначилась пылинка и обозначилась каждая зазуб-ринка на белом, дощатом полу, и каждое пятнышко обозначилось на обоях, испещренных букетиками аляповатых роз вперемежку с васильками, а неприбранный стол с пятнами вина, с крошками капусты да растрепанной головой Александра Николаевича, дьячка, павшего на скатерть и нахлеставшегося рябиновки, черной ратью облепили мухи; они собирались многоногими стаями вокруг винных пятен и многоногими ползали стаями по лицу хмельного дьячка, а поп (он только что пред иконою Царицы Небесной дал зарок вовсе не напиваться и потому был еще трезв), с обтекавшим от жару и от все же пропущенных рюмок лицом, взлетом костлявой руки давил в кулаке черные, ползающие стаи и бросал их с остервенением в обжигающий кипяток. «Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь», – потоплял он мух, и в кипятке мухи барахтались лапками, но к винному пятну переползали, слетались новые стаи и поп опять их ловил, потоплял и душил; и слетались новые стаи, и казалось, была вся набита комната роем черным, гудящим; и казалось, густо в ней становилось от многих колючих жал, от многих звенящих голосов, а там, за тонкой перегородкой, была небольшая комната об одно окно с двумя убогими креслами в чехлах, и с таким же диваном, посреди которого торчала сломанная пружина, так что неопытный гость мог вонзиться в нее; пол в этой комнате был выкрашен – краской и вымыт квасом и нога прилипала к полу, отчего попадья в этой комнате здесь и там протянула узенький холст; комнату украшали: желтого цвета ломберный столик с вязаной скатертью и только для вида приставленной четвертой ножкой, плетеная корзинка с остатками когда-то пышной пальмы в виде сохнущего листа, покрытого травяной вошью, приложение к «Ниве» в виде цыганки с бубном, повешенное на стене, да портрет Скобелева, засиженный мухами и проткнутый палкой; но всего более украшало комнату старенькое пьянино. Здесь было царство попадьи; здесь сиживала она в кои веки одна у окна с вязаньем; здесь в кои веки забывала она и попа, и попят; здесь вспыхивали в ней остатки какого-то чувства, еще не вовсе убитого ссорами с кухаркой, сплетнями и утираньем носов и еще кое-чего у золотушных ребят; здесь иногда садилась она за инструмент, либо за гитару и наигрывала любимый свой вальс «Невозвратное время», не замечая, что половина клавишей жалко дребезжала или не издавала звуков. Вот и сейчас: хило, будто в последней степени чахотки, жалко задребезжал вальс «Невозвратное время», и потекли звуки, и всплакнул спьяна Александр Николаевич, дьячок, и пятерня попа, полная мухами, замерла в воздухе, упала, разжалась, когда жалко задребезжало невозвратное время из-за тонкой перегородки; невозвратное свое время вспомнил и поп, как езживал он семинаристом весной в Воронье, где среди розовых вишен цветущих розовело личико поповны, еще не дебелой бранчливой и непристойной бабы, а нежной девушки; и как порванная струна дребезжало оно, невозвратное время, в душе дьячковской, когда дьячок на хилые звуки свою подымал голову, вовсе невпопад пытаясь подтянуть и запевая: «Даа-гаа-раай ма-я лу-чина… Даа-гаа-рюю с тобоою я»… И тотчас в нем догорала лучина прошлого, и голова дьячка опять валилась в ползающие рои мух. Задумался и Дарьяльский; тут же, в сторонке, – он еще все у попа сидел и курил, в то время, как быть бы ему в Гуголеве, где уж хватились, небось, его, где простыл уж обед и Катя, из зеленых акаций сада, где смотрела на пыльную и тусклую дорогу, язвительно улыбавшуюся ей из зеленой ржи и убегающую к Целебееву; и где, опираясь на костыль, тряслась в цветнике кружевная бабинька, в черном вся шелку и в белом тюлевом чепце с лиловыми лентами; тряслась и поварчивала в настурциях. Почему же и Дарьяльского охватило невозвратное время, почему же и он вспомнил свою жизнь? Мало прожито, много пережито, – и пережито столько, что хватило бы на добрый десяток жизней; помнит Дарьяльский своего отца, чиновника казенной палаты, человека простого и честного; бился тот, бился, как рыба об лед, чтобы дать сыну надлежащее образование; его отдали в учебное заведенье, и ходить бы ему в учебное заведенье, ан нет: он ходил в библиотеки и музеи, да над книгами днями просиживал он, а потом, после месячной отлучки из гимназии, как вымаливал он у матери, чтобы та, тайно от отца, писала ему извещения начальству о будто бы им перенесенной болезни; как уже с детства он объявил отцу, что и в Бога не верит, в доказательство чего вынес из своей каморки образ и шваркнул в угол; как печалились и отец, и мать, а он, юный нехристь, молился красным он зорям и невесть чему, снисходящему в душу с зарей; писал стихи, читал Конта и поклонялся он, юный нехристь, красному знамени, перенося на сей вещественный знак тайную свою, дорогую, никем не узнанную тайну о том, что будущее будет. Невозвратное время!
И умер отец, и умерла мать; он – студент: он – первый среди товарищей – в их кружках, спорах с начальством, увлекающий, не увлеченный: погруженный в толстые фолианты, изучающий Беме, Экхарта, Сведенборга так же, как изучал он Маркса, Лассаля и Конта [18]18
Сопоставляются две группы философов – представителей полярных мировоззрений: мистико-идеалистического и материалистического (диалектического и позитивистского). Бёме Якоб (1575 – 1624) – немецкий натурфилософ и мистик, оказавший большое влияние на романтиков. Мейстер Экхарт (Экхарт Иоганн; около 1260 – 1327) – немецкий средневековый мистик-пантеист. Сведенборг Эмануэль (1688 – 1772) – шведский философ, создавший теософское учение о потусторонней жизни и поведении духов. Интерес к учениям Беме, Экхарта и Сведенборга значительно возрос на рубеже XIX – ХХ вв., особенно в среде символистов. Лассаль Фердинанд (1825 – 1864) – немецкий социалист, популярный в то время в среде русской интеллигенции. Конт Огюст (1798 – 1857) – французский философ и социолог, основоположник позитивизма.
[Закрыть], ища тайну своей зари и не находя ее нигде, нигде; и вот уже он одичал, и уже не увлекал никого; вот он странник, один средь полей со странными своими, не приведенными к единству мыслями, но всегда с зарей, с алыми ее переливами, с жаркими, жадными ее поцелуями; и заря сулит какую-то ему близость, какое-то к нему приближение тайны; и уже он – вот в храме; он уже во святых местах, в Дивееве, в Оптине [19]19
Дивеево – женский монастырь в Нижегородской губернии. Оптина пустынь – мужской монастырь в Калужской губернии.
[Закрыть] и одновременно в языческой старине с Тибуллом и Флакком [20]20
Тибулл Альбин (ок. 50 – 19 гг. до н. э.) – римский поэт, в своих любовных элегиях воспевающий идиллическую жизнь в деревне. Флакк Авл Персий (34 – 62) – римский поэт-сатирик.
[Закрыть]; и слов-то уж более нет к выраженью мыслей; и сам-то он на взгляд одичал, опростел, огрубел, – а чувства все жарче, и все тоньше думы, все больше их, больше, и от полноты разрывается душа; просит ласки она и любви; и – подошла милая Катя, ясная – полюбила: подошла, любит. Но почему же вздохнул Дарьяльский? «Невозвратное время»… Ведь время это – не более как вчерашний день; еще он думал вчера – тайна его раскрывается в Кате, в ее любви и ее поцелуях: новый она его путь и столб нерушимый истинной жизни. Но почему же и это вчера – время уже невозвратное: оттого ли, что тайный взгляд рябой бабы исполнил неистовством его душу? Рябая баба: не любовь в ее взоре, а жадность какая-то; полно: и не жадность, и не любовь, не любовь только: не только любви и надо ему; чего же надо ему, если в любви – путь, если в ней утверждение истины?… О, мухи, жадные, злые, не жужжите, не жальте, не забирайтесь в рот!… О, плаксивые звуки: жалкие, не дребезжите вы больше!… Прочь, поп, и ты: сам утопай в мушиных роях!…
Простился с попом и вышел; и тусклое тускнело солнце и гремело светом, и тысячами насекомых с луга; уже оно склонялось, а вслед Дарьяльскому неслись дребезжащие звуки; они разбивали пруд на тысячи блестков: блестки-всплестки, будто серебряные голуби – в воде ли, в небе ли – пропорхнули, когда ветерок пруд тронул рябью, прошумел аер [21]21
Аер – правильно: аир – болотное растение, обладающее острым запахом.
[Закрыть] зеленый. Впереди из пологого лога потянуло дымком: там промелкнула красная баска, там промелькнул платок с белыми яблоками; промелькнули, – скрылись в пологом логе, у избы Митрия Мироновича, столяра. Вздрогнул Дарьяльский.
Пошел он от церкви прочь, и не помнит, как принесли его ноги к голому камню, торчащему над прудом; чудно его укачали студеные всплески воды: усыплен, и уже в струях слышится ему нянино «баю-бай», и все уже обернулось на него странно и смутно здесь, среди бела дня; и взорами ищет прохожего сельчанина, и не проходит здесь сельчанин; провевается ветер и качает кустами; качает мысль – и уже усыплен.
Слушай – струй лепет и ток стрижей: смутно стрижи зовут над колокольней, что золотым своим резным крестом поднялась над селом; вьются стрижи над ней. Черные стрижи над крестом день, утро, вечер в волне воздушной купаются, юлят, шныряют здесь и там, взвиваются, падают, режут небо: и режут, жгут они воздух, скребут, сверлят жгучим визгом воздух, навек выжигая душу неутомным желаньем; и только к ночи угомонятся; и не вовсе: и ночью, в час смиренного упокоения, когда вдали гамкают псы да перекликается петух, под колокольней что-то взвизгнет: хорошо знают во всей округе целебеевских стрижей. Но стрижей, друг, не слушай и на них за засматривайся: разорвут тебе сердце, и точно в грудь воткнут раскаленное сверло – захочется тебе бегать, росянистые отрясать кусты, в росянистые падать травы, прижимая к груди эти травы. Пропадешь за медный грош: иссохнешь.
Ишь, как юлят, стригут крыльями воздух – облепили крест.
Смотрит Дарьяльский на крест, на колокольню: за колокольней – кусточки, овражек; за овражком – кусточки: дальше, больше: смотришь, а уж шепотный лес проливает свою дрему, а в лесу курлыкает глупая птица; жалобно так курлыкает.
Чего ей надо?
Так он весь день проваландался по селу, бродя вдоль луга и в пологий заглядывая лог (где изба Кудеярова столяра).
И уже прошли к пруду сельские девки с песнями хоровыми; поскидали алые свои они юбки, да баски, и белыми телами дружно кинулись в пруд; то-то было фырканья! Долго по берегу гонялись они друг за другом, – и как есть без рубашек, полные, белые. И уже прошли прочь от пруда сельские девки с песнями хоровыми. Также приходили мужики, скидывали портки да рубахи, и загорелыми телами дружно кидались в пруд; и еще больше было криков, еще больше фырканья. Как без песен пришли, так и ушли без песен. И никого на пруде; только в аере свежем чернеется рыболов.
И уже прошла на мостки баба рябая с песней тихой, с песней жалобной; не скидавала алые она свои одежды: посиживала на мостках, полощась спущенными в воде ногами; рыжие свои косы расчесывала над водой. И когда мимо нее прошел Дарьяльский, только дрогнули ее губы да загадочно как-то сверкнули глаза – у, как они загорелись! Обернулся; обернулась и она: у, как ее опять уставились на него глаза! Подошел, но уже пошла прочь от пруда баба рябая с тихой песней, с песней жалобной. И затеплилась первая звездочка, и робкая из пологого лога выглядывала хата двумя в сырости желтыми огнями.
Вился, и веял над селом, и отрадно целовал кустики, травку, обувь чистый ветер летними слезинками, когда дневное, не голубое вовсе, и не серое небо затвердело синевой в то время, когда запад разъял свою пасть и туда утекал дневной пламень и дым; оттуда бросил воздух красные свои, будто ковровые, платы зари и покрыл ими косяки и бревна изб, ангелочки резные, кусточки, унизал крест колокольный огромной цены рубинами, а жестяной петушок, казалось, был вырезан в вечер задорным, малиновым крылом; кусок красного коврового воздуха ударил в поповский смородинник, как раз угодив в отца Вукола; сидел на березовом пне в своем белом подряснике поп и в соломенной шляпе; краснел, покуривал пеньковую трубочку, и казался таким маленьким на заре.
Ковровый воздух перерезал дорогу красным полотнищем, убегая туда, где толпились избенки помельче да поплоше, и зачем-то орались там песни, и зачем-то в клочки рвала воздух заправская гармоника в клубах пыли, и почему-то подтенькивал ей откуда-то взявшийся треугольник [22]22
Треугольник – музыкальный ударный инструмент соответствующей формы из согнутого металлического прута.
[Закрыть], в то время, как восток темный источал ток, и туда – в темного тока теченье – уводила дорога; в синюю муть синей ночи кто-то оттуда надвигался на деревню, темненькая все шла фигурка, но, казалось, что она далеко, далеко, и никогда ей не достигнуть нашего села.
В чайной
– Да ты сообрази, дубовое твое рыло, – сообрази ты: кто над землей трудится? Мужик – я, чай! Мужику и земля, то ись в полное апчествен-ное обладание. Акрамя земли никакой такой сла-боды нам не надать; одно стеснительство, слабода ета. На што слабода нам?…
– Забастовщики вы бердичевские!… – кочевряжился паршивого вида мужичонка.
– Чего буркулы на меня, харя, выпятил? В борьбе обретешь ты право свое! – харкнул на пол рабочий с Прохоровской мануфактуры, молодой парень с проваливающимся носом.
В стороне раздавался громкий гнусавый тенорок:
– Бысть ветер буйный, и занесе меня в кобак; и рекл ми целовальник: «человече, чего хощеши?» И отвещах ему: «зелья водошнаго». И сложил той своя пять персты воедину; и бия меня по зубам. И, биен, издох…
– А вы видели ль, робята, ефту самую еху лесную? – обращался лупоглазый, распаренный от жару, целебеевский парень к двум ротозеям, тянувшим чай с блюдечка.
Но все покрывала скрипом огромная гармоника, на которой играл парень в шелковой синей сорочке, в набок надетом картузе, с вызывающей харей, застывшей; а пьяные голоса развалившихся вокруг него парней тихонько подпевали: «Трааа-нсвааль, Тра-а-н-свааль, страа-наа маа-яя… Тыы всяя-аа ваа-гнее-ее гаа-риишь»…
Чайная была наполнена гостями из окрестных деревень; пар валил столбом; в чайниках, здесь и там, разносили водку; некоторые лопали вонючие сосиски руками прямо с блюдечка.
В одном углу рабочий с подгнившим носом и хриплым голосом уже защищался от налезавшего на него паршивого мужичонки; рядом за столиком проезжий лиховский обыватель, выгнанный из семинарии семинарист, пощипывал козлиную бороденку и распевал на манер дьячка, а в другом углу говорили парни про «еху лесную». – Ну, ну, чего лезешь! уже и драться сейчас: за вас же чертовых детей, на огонь лезем; никакого понятия не имеет: ей, братцы, он мне голову едак проломит!
– И шед, возопих: «извощиче, извощиче: кую мзду возмеши довести мя до храмины?» И отвещах: «Денарий, еже есть глаголемый «двугривенный», и восседох на колеснице, и возбрыкахся кобыла; и понесе…
– Ходили, паря, чрез Кобылью Лужу, да и вызвали иетту «еху»: «Черт», а она нам: «Черт». – «Выходи!», а она из кустиков, значит, в белом вся, а мы врассыпную. – А гармоника хрипела, и голоса гудели: «Маальчишка наа-аа-паа-зии-цию пе-шкоо-оом паа-трон прии-неес».
Говорили о том, что японец мутит народ, что близ Лихова проживают шпионы; говорили и то, что железнодорожные рабочие прошлись по полотну с красным «флакам», и что вел их генерал Скобелев, доселе таившийся от всех, а ныне объявившийся народу; что ведьма из деревни Кобылья Лужа отдала черту душу, а перед смертью силушку свою искала кому передать: не нашла, так в тростинку изошла ее сила; по рукам ходили писульки весьма лукавого сорта, чтобы не вставал народ на работу помещикам; читали, качали головами: соблазнительное содержание; но улыбались…
В стороне, молча, сидел нищий Абрам и оловянный голубь мутно тускнел у него на палке; временами лиховский обыватель подходил к нему и, о чем-то пошептавшись, возвращался к месту, продолжая нараспев выкрикивать свой вздор: – И возопих гласом велием: «извозщиче, извозщиче! Укроти клячу сию!» И бысть велий глас: «Тпру, чертова дочь!» И остановишася кони, яко вкопан-ни»… Ей, ты, слобода! – бросил он вдруг только что побитому рабочему, уже совершенно пьяному: – Такого оно так: хорошо это у вас писано, только есть ли у вас свой сицилистический бог?…
– Пррре-доставим небо ворробьям… и водрру-зим… кррасное знамя… – бормотал тот, совершенно пьяный, – пррролитарри-ата…
– Ой-ли, а не красный ли гроб? – вдруг возвысил голос лиховский обыватель так, что смолкла гармоника, перестали ребята дивиться «ехе лесной», и все головы обратились в одну сторону; но как же сверкали глаза лиховского мещанина: «Слушайте, православные, царство Зверя приходит [23]23
Показательное для Белого (а также и некоторых символистов) отождествление социально-политического кризиса с религиозно-мистической идеей конца света. Образ Зверя – посланника Антихриста, который должен будет продолжительное время править на земле перед наступлением Страшного суда, взят из «Откровения святого Иоанна Богослова», 13.
[Закрыть], и только огнем Духовым попалим Зверь сей; братия, будет ходить меж нами красная смерть, и одно спасение, – огонь Духов, царство голубиное преуготовляющий нам»… Долго еще говорил лиховский обыватель, и скрылся.
Дивились сельчане дивным речам; и уже одни расходились, другие давно разошлись, а иные, нализавшись казенки прямо из чайника, лежали под лавками, и между ними рабочий с подгнившим носом.
Ясная, чистая, тихая, свежая ночь. Вдали гам-кает пес, да заливается стукушка; вдали парни заливаются песней, возвращаясь домой: «За праа-вдуу Боо-оог паа-мии-лует… За крии-ии-вдуу аа-аа-суу-диит…»
Тарарыкает тележка; лиховский обыватель куда-то везет Абрама, нищего: «Ну что, человечка нашли?»… – «Наметили»… – «Кто да кто?»… – «Так, лодырь из господ, только все же из наших»… – «Клюет?» – «Клюнет»… Ясная, чистая, тихая, свежая ночь…
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГОРОД ЛИХОВ
Дорога
Пересекала дорога лесочки, кустики, кочки; пересекала пологие склоны равнин и с разбега на вас нападающий ветер; пересекала зеленый овес, едва изливающий шепот; и ручьи, и овражки – пересекала дорога, убегая – туда: дымная оттуда протянулась власяница и запахнула все, как есть, небо; и оттуда сеялся дождь на лесочки, на кочки, на пологие склоны равнин; и в небо оттуда протягивал храм свой серебряный шпиц, из тумана, хотя и казалось, что верст на десять нет никакого села; а дорога издали огибала храм, и таилось село промеж двух пологих горбов, покрытых по ржи пробегающей рябью. Если бы взлесть на придорожную иву, уцелевшую Бог весть как (в стародавние времена дороги у нас были обсажены большущими ивами), можно бы разглядеть и село, потому что рукой до села подать, коли встать подле ивы; в день же, дождливый и серый, бедные, серые избы так сиротливо припали к бедной и серой земле, что было сквозь дождь различить их никак невозможно. Горб земляной обрывался над верхом: верх тут как раз перерезал равнину; верх тут как раз на две разорвал стороны село, и оно слетело огородами к подовражному ключу: ключ назывался – Серебряный Ключ, а верх – в старину называли сельчане Мертвым Верхом; не менее, как на версту, протянулся тот верх, переходя в верх песчаный, пересекая иные многие верхи, обрываясь иными оврагами; все полз да полз верх, по весне съедая много десятков саженей пашни; тут вот и пошаливали в старину, посередь дороги от Целебеева к Лихову; а село, что под верхом, называлось – Грачиха; бедное село: не то, что Целебеево; и не железом домишки здесь крыли, – соломой; своя тут жизнь, иная, не целебеевская, и мужики, и бабы здесь иные, и однодворцев [24]24
Однодворцы – сословие, образовавшееся из числа служилых людей, обладавших небольшим собственным поместьем и впоследствии фактически приравненных к крестьянам.
[Закрыть] здесь нет, а мещане так перевелись все: село занимали два только рода – Фокины да Алехины; столько их расплодилось в Грачихе, что прочие взяли да и перемерли, – вывелись, можно сказать; Фокины были, что называется, дылды: дылда к дылде – да и на руку Фокины были нечисты, и попивали тоже; Алехины не Фокины: пили меньше, и на руку были хотя и не вовсе чисты, но все же чище Фокиных; да вот только, почитай, дурная болезнь промеж них завелась; а, впрочем, жили Алехины, как люди живут; и попик был свой тут, и все тут свое было, особое.
Многое можно бы рассказать про село, да так, оно, как-то – зря рассказывать, потому что дорога на Лихов шла, минуя село: не скажи проезжему, что, дескать, село тут поблизости – село: проезжий минует верх, так-таки ничего не заметив – усом не поведет проезжий: никакого ему дела до Алехиных нет, ни до попика. Только серебряный шпиц протянется над равниной в тумане промеж двух пологих горбов; протянется, – и нет его; как протянулся, так и пропал: в тумане.
Где обрывалась дорога к Мертвому Верху глыбами желтого лесса [25]25
Лёсс – известковая порода на водоразделах и склонах.
[Закрыть], и где из тумана уже едва-едва мутнел темный шпиц, по дождем размытой дороге спускался столяр Кудеяров; он шел в заново сшитом зипуне, но на босу ногу; прилипчивая грязь и хлюпала, и чмокала у него между пальцев, будто гороховый кисель, замешанный на настое из овса, или как свиное месиво; сапоги же столяр снял, да повесил на палке, перекинутой через плечо (новые сапоги были); там еще болтался дорожный его узелок. Долго столяр пробирался меж кусточков; шел меж кочек, лесочков; задумывался у полян; он тащился к Лихову городу; изморось дышала на него своей пылью: вокруг изморось крутилась – все пространство от Лихова до Целебеева, казалось, плясало в слезливом ветре; кустики всхлипывали, плясали; докучные стебли плясали тоже; плясала рожь; а шустрая, легкая рябь суетливо ёрзала на поверхности холодных, спокойных, коричневых луж. И тащился столяр через лужи, кусты, сквозь усатую рожь, а его хворое, жалобное лицо хворо и жалобно свесилось над дорогой, как у дятла, носом; картуз же закрыл глаза, отчего слепое стало лицо: видел, не видел ли он, что творилось окрест? А окрест – мразь да грязь: плясал дождик, на лужах лопались пузыри – ничего себе: столяр месил грязь. Смотрит столяр, – а уж в Мертвом в Верхе его поджидает Абрам; рыжий перекинул ранец за плечи, в дождик поганку над кудластой своей головой заломил нищий сидит-посидит на камне, посвистит в ветер: столяра поджидает; нищему дождь нипочем: день Духов – на сердце спокойно; а там – сейся дождь, окрестность – росой обливайся, и вы, туманы, клубитесь – клокочите, дождями, вы! Где-где сердце обрящет упокоение, коли упокоения ему не будет и в Духов день? Густо гудит в ветер Абрам, ударяя по луже палкой: «Девицы-красавицы, светел теремок; гостя ждите, пейте пиво да медок. Путничек желанный не далек»… Вода стекает со оловянного голубинина клюва… Кругом раскричались мокрые грачи…
Смотрит нищий, Абрам, – показался столяр и спускается с верха; нос поднял Митрий, – под верхом поджидает его подорожный: вместе идти им в Лихов – одна дорога, одна забота, одно дело, одна жизнь – и вечная бесконечная жизнь; улыбнулись друг другу; как повстречались, так и пошли; вверх пошли; а и крут Мертвый Верх, и склизок: упадешь – перемажешься грязью: ничего – Божье все: небо, земля, звезды далекие, тучи, люди – и грязь; и она – Божья. Не как иные какие, чей норов открыт всем, чьи поступки ничем незапятнаны, просто и открыто совершают свои дела: но, как черные воры, как волки, пробираются оба по окольным тропам вот уж сколько дней, недель, месяцев; чтобы никто не видел, как соединили пути свои они, вот и нынче тайком вышли оба из-под крова людского: из Грачихи оврагом шел нищий; и целый крюк дал столяр, чтобы злое, соседское око не рассмотрело, по какой дороге в путь он пустился.
– Што, друг, измок, сидючи! Долго ждал – заждался?
– Ничего, Митрий Мироныч, ента не значит; небось, и табе приключилось идти маненько кривенько; небось с кочетом встал?…
– Для духовного дела дашь и не такого крюку; пройти очень даже приятно по местности земли, – потянул носом Митрий, выбираясь из оврага, откуда опять раскидались пространства – раскидались на много десятков верст; повел носом, дозирая вокруг; и будто от этого взора озлился ветер; еще пуще забил по овсам да по лужам озлившийся ветер; бешеней дождливая заметалась мразь; упали тучи, и опрокинулся кустик; опрокинулся другой, опрокинулся третий: пошло мелколесье; заёрзала по нему дорога; и опять пространства; и опять прободал там шпиц в свинцовую мглу; прободал, и пропал.
Нищий идет, – постукивает посохом; хорошо ходить так; идешь и не знаешь, что осталось у тебя за плечами; идешь и не знаешь, что ждет впереди: за плечами – куча избенок; и впереди – куча избенок; за плечами – города, реки, губернии, и море холодное, и Соловки; впереди – те же города, и те же реки, и Киев город; сидел, там, в избе, меж четырех стен (коли переночевать пустили тебя), между лавок, бабы, ребят, кур, прусаков и клопов; сидел и таился, либо клянчил под окнами; как сидел, так и будешь сидеть, по мужицкой милости – и та же заёрзает баба: и облепят те же ребята, клопы. А вот тут ни ребят, ни клопов, – дух холодный и вольный на тебя дышит: дышит он, где хочет, откуда приходит, куда уходит, не ведают люди; только в полях надышишься духом, и, как дух, пойдешь, куда хочешь; и уже ничего не будет: ты пойдешь по морям, по земле подсолнечной – в мир ты уйдешь: сиречь, духовным станешь; оттого духово дело и есть странствие, то есть, безделье святое: шатайся в полях; кабы все шатались – одним надышались бы духом, одною душою бы стали: дух же един ризою своею землю одел. Только, видно, не так оно: от одного полевого дыханья таинств не получалось; знает, видно, столяр Кудеяров, тайны какие нужны для преображения братии: нужен подвиг духовный, дерзновение нужно великое; не прежде люди возвеселятся, и звери, и всякая птица небесная возвеселится не прежде, как самый тот дух человеческий лик приемлет.
Тут Абрам покосился на столяра: хворый, вот, – и нос, как у дятла, и все кашляет, а – тайны знает, все как есть столяру открыто: судьбы человеков, и то, почему восстает народ, и то, отчего в брюхе чимирь [26]26
Чимиръ, или чемер – народное название ряда болезней (в том числе, недомоганий живота).
[Закрыть] от рожденья заводится.
И Абрам заглянул в лицо столяру, загудел, сгибая персты у губ трижды: «В виде холубине»… Всякие речи духовные так начинались промеж братии согласия…
– В виде холубине, – повторил Абрам: – мы так полагай, што холубинину лику, отец, сподобится всякий, ежели бросит он имущество, малую бросит землицу, бросит бабу свою и пойдет бродить по Рассеюшке, воздухом надышится вольным: духовные стихи али моления, можно сказать, што плод духовный, индо дыхание уст, воздух приявших; и то есть таинство, которо люд прочь с места родного гонит; а тут землицу-то нашу обставили, матушку, рогатками, да проволокой обложили: сиди, мол, с своим тряпьем – нет раздолья тебе; сопсвенность, значит, тебе – твоя, а моя – мне; нешта сопсвенностью проживешь? Мое – тряпье, грязь, то ись; и сопсвенности, стало быть, нет никакой такой; с твово богатства брюхо выростишь, шутики за брюхо ухватятся – в тартары тарараровые тарарыкнешь: брюхом в землю войдешь; над тобой набузыкают землицы – лежи, загнивай; так, мы полагам? Народу-то невтерпеж заживо гнить; забастовками нонече народ себя на воздушное, можно сказать, питание сажает; посидят, посидят, – а и пойдут с флакам бродить; и таинства тут пойдут новые, и моления…
– Ну, это ты, брат Абрам, зря: хошь Столб ты и Верный, д'язычок твой неверный; сердце – золото, д'язычок – медный пятачок, – уставился на него столяр и подмигнул лицом, и дернул носом.
– Ну, так мы, иетта… Так оно, как-то того: мы – што: тебе знать: ты – голова… Мы, иетта, можно сказать, тово – не тово, опчее прочее такое, и все как есть, – растерялся нищий, запыхтел в бороду и как-то конфузливо причмокнул в грязь босою ногой. (Верный был Столб, стих распевал хорошо, хитрости хоть отбавляй, а насчет судеб и тайн был по сравнению с иными брати-ями простак простаком: как-то все у него не того – не мог обмозговать никак, што и как: оттого и с сицилистами знался, и со штундой тарабарил, и к бегунам летось ходил [27]27
Штунда (штундизм) – сектантское течение среди русских и украинских крестьян во второй половине XIX в., возникшее под влиянием протестантизма и отрицающее обрядность. Бегуны (странники) – толк в старообрядчестве, возникший во второй половине XVIII в., представители которого призывали уклоняться от государственных повинностей.
[Закрыть], а все-же, чтобы кого из своих предать – на этот счет можно было на Абрама вполне положиться; Столб столбом, и язык под замок вовремя прятал.)
– А какой у нас день нонече? – спрашивал его Митрий, еще ниже надвинув картуз, так что из-под зипуна торчал кончик лишь носа да бороденка, а то будто и нет человека: зипун – на зипуне картуз, а из картуза – нос: так шел столяр, сгибаясь все ниже под хлеставшей изморосью. – День-то каков у нас?
– Духов…
– То-то, што Духов.
– А куда идем-то: смекай…
– На карапь, в странсвие.
– Смекай-ка: а к кому идем?
– К Ивану, к Огню, да к Аннушке Голубятне…
– То-то, к Огню, а Огонь-то чей?
– Духов.
– А голуби чьи?
– Божьи.
– То-то вот: ты и смекай: в сопсвенность свою идем, во владения наши, в церковь нашу – и в том тайна есть. Духовный наш путь в обитель некую обращатса: што воздух – дхнул, и нет его, воздуху; а вот как духовных дел святость во плотское естество претворятса, то, милый, и есть тайна. Естество наше – дух и есть; а сопсвенность ни от кого, как от Духа Свята… Естество, што коряга: обстругать ты корягу; здесь рубанком, там фуганком – тяп, ляп, вот те и карапь.
– Вот тоже мебель, – с запинкой продолжал столяр и лицо его скроилось в строгую озабоченность выразить что-то, даже стало унылым, жалким, разводами какими-то все пошло. – То-то-то-тоже иммме… (столяр начинал заикаться, когда словом хотел приоткрыть чувства, его волновавшие; надо полагать, что от хворости заикался столяр).
– И ммме… мебель! – выпалил он, словно разорвавшийся снаряд, и из бледного стал просто свеклой какой-то, даже в пот бросило: – Аа… ана т-т-т-тоооже, – и приподнял палец, – ваааж-ное, брат, дело… ты не смотри, што я ммме-ме-мебель поставляю; со смыслом, с ммолитвой, брат, с молитвой (уже он овладел своей мыслью) строгашь, иетта, песни такие себе распевать – вот тоже – мебель: куда пойдет? По людям: ты с молитвой ее, а она тебе сослужит службу: вот тоже, купчик какой, али барин на нее сядет, позадумат-ся над правдой; так помогат молитва… Вот тоже и мебель… – Но он ничего не выразил, и опять ушел весь лицом: остался картуз, да зипун, да босы ноги, хлюпающие по грязи…
– Строить, брат, надо, строгать – дом Божий обстругивать; вот тоже: тут, брат, и мебель, и баба, и все: воскресение мертвых, брат, – в памяти, в духе перво-наперво будет: придут с нами покойнички полдничать, друг; так-то вот: особливо ежели сопсвенность их, покойничков, – тряпицу ли, али патрет, едак на столик поставить, да духом, духом их, духом – вот тоже. Чрез то воплощение, можно сказать, духа нашего в человеке; как мы человечком родится; а ты – про воздух: што воздух – дхнул: нет его, воздуху… Вот тоже… А мебель, оставь мебель… И мебель тоже, – тоооже! – растянул он.
Тихо лицо его вьшолзло из зипуна, вовсе какое-то стало оно иное: так себе, белым оно, светлым стало: не бледным, не красным – стал столяр белым. А изморось хлестала пуще да пуще; а суетливо неслись дымные клоки с горизонта до горизонта: не было рати их ни конца, ни начала; пофыркивал с непогодой весело кустик, над дуплом своим опрокидывал ветвь; шелестела трава, когда и дождя не было; дождь и был, и не был: здесь был, а там не было дождя: но были пространства; и в пространствах скрывались, таились и вновь открывались пространства; и каждая точка вдали, как подходили к ней путники, становилась пространством; а Русь была – многое множество этих пространств, с десятками тысяч Грачих, с миллионами Фокиных да Алехиных, с попиками да грачами; возвышался Лихов, только здесь или там в ночь помаргивая керосиновым фонарем. И к Лихову подходили путники, к Лихову, а Лихова не было и помина на горизонте, и сказать нельзя было, где – Лихов; а он – был. Или и вовсе никакого Лихова не было, а так все только казалось и притом пустое такое, как вот лопух или репейник: ты погляди, вот – поле, и где-где в нем затерянная сухая метла; а пройди в туман – погляди: и ты скажешь, что по полю-то человек злой за тобою погнался; вот – ракита: мимо пройди – погляди, и зызыкнет она на тебя.








