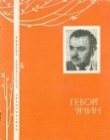Текст книги "Стихи. Поэмы."
Автор книги: Андрей Вознесенский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Никелированные спинки кроватей
текут, как разварившиеся макароны.
Решетки тюрем свисают,
как кренделя или аксельбанты.
Генри Мур,
краснощекий английский ваятель,
носился по биллиардному сукну
своих подстриженных газонов.
Как шары блистали скульптуры,
но они то расплывались как флюс, то принимали
изящные очертания тазобедренных суставов.
«Остановитесь!– вопил Мур.– Вы прекрасны!..»—
Не останавливались.
По улицам проплыла стайка улыбок.
На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца.
Черный и оранжевый.
Их груди слиплись. Они стояли, походя сбоку
на плоскогубцы, поставленные на попа.
Но-о ужас!
На оранжевой спине угрожающе проступали
черные пятна.
Просачивание началось.
Изловчившись, оранжевый крутил ухо
соперника
и сам выл от боли —
это было его собственное ухо.
Оно перетекло к противнику.
Мцхетский замок
сползал
по морщинистой коже плоскогорья,
как мутная слеза
обиды за человечество.
Букашкина выпустили.
Он вернулся было в бухгалтерию,
но не смог ее обнаружить,
она, реорганизуясь, принимала новые формы.
Дома он не нашел спичек.
Спустился ниже этажом.
Одолжить.
В чужой постели колыхалась мадам Букашкина.
«Ты как здесь?»
«Сама не знаю – наверно, протекла через потолок».
Вероятно, это было правдой.
Потому что на ее разомлевшей коже,
как на разогревшемся асфальте,
отпечаталась чья-то пятерня с перстнем.
И почему-то ступня.
Радуга,
зацепившись за два каких-то гвоздя в небе,
лучезарно провисала,
как ванты Крымского моста.
Вождь племени Игого-жо искал новые формы
перехода от феодализма к капитализму.
Все текло вниз, к одному уровню,
уровню моря.
Обезумевший скульптор носился,
лепил,
придавая предметам одному ему понятные
идеальные очертания,
но едва вещи освобождались
от его пальцев,
как они возвращались к прежним формам,
подобно тому, как расправляются грелки или
резиновые шарики клизмы.
Лифт стоял вертикально над половодьем, как ферма
по колена в воде.
«Вверх – вниз!»
Он вздымался, как помпа насоса,
«Вверх – вниз»,
Он перекачивал кровь планеты.
«Прячьте спички в местах, недоступных детям».
Но места переместились и стали доступными.
«Вверх – вниз».
Фразы бессильны. Словаслилисьводнуфразу.
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые!..»
Это уже кричу я.
Меня будят. Суют под мышку ледяной градусник.
Я с ужасом гляжу на потолок.
Он квадратный.
P. S.
Мне снится сон. Я погружен
на дно огромной шахты лифта.
Дамоклово,
неумолимо
мне на затылок
мчится
он!
Вокруг кабины бьется свет,
как из квадратного затменья,
чужие смех и оживленье...
нет, я узнаю ваш гул участливый,
герои моего пера,
Букашкин, банщица с ушатом,
пенсионер Нравоучатов,
ах, милые, etc,
я создал вас, я вас тиранил,
к дурацким вынуждал тирадам,
благодарящая родня
несется лифтом
на меня,
я в клетке бьюсь, мой голос пуст,
проносится в мозгу истошном,
что я, и правда, бед источник,
пусть!..
Но в миг, когда меня сомнет,
мне хорошо непостижимо,
что ты сегодня не со мной.
И тем оставлена для жизни.
1965
Andrei Voznesensky.
Antiworlds and "The Fifth Ace".
Ed. by Patricia Blake and Max Hayward.
Bilingual edition.
Anchor Books, Doubleday & Company, Inc.
Garden City, NY 1967.
АВТОПОРТРЕТ
Он тощ, словно сучья. Небрит и мордаст.
Под ним третьи сутки
трещит мой матрац.
Чугунная тень по стене нависает.
И губы вполхари, дымясь, полыхают.
«Приветик, – хрипит он, – российской поэзии.
Вам дать пистолетик? А, может быть, лезвие?
Вы – гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...
А может, покаемся?..
Послюним газетку и через минутку
свернем самокритику, как самокрутку?..»
Зачем он тебя обнимет при мне?
Зачем он мое примеряет кашне?
И щурит прищур от моих папирос...
Чур меня! Чур!
SOS!
1963
Andrei Voznesensky.
Antiworlds and "The Fifth Ace".
Ed. by Patricia Blake and Max Hayward.
Bilingual edition.
Anchor Books, Doubleday & Company, Inc.
Garden City, NY 1967.
ЛЕЙТЕНАНТ ЗАГОРИН
Я во Львове. Служу на сборах,
в красных кронах, лепных соборах.
Там столкнулся с судьбой моей
лейтенант Загорин. Андрей.
(Странно... Даже Андрей Андреевич, 1933, 174. Сапог 42. Он дал мне свою гимнастерку. Она сомкнулась на моей груди тугая, как кожа тополя. И внезапно над моей головой зашумела чужая жизнь, судьба, как шумят кроны... «Странно»,– подумал я...)
Ночь.
Мешая Маркса с Авиценной,
спирт с вином, с луной Целиноград,
о России
рубят офицеры.
А Загорин мой – зеленоглаз!
И как фары огненные манят —
из его цыганского лица
вылетал сжигающий румянец
декабриста или чернеца.
Так же, может, Лермонтов1 и Пестель,
как и вы, сидели, лейтенант.
Смысл России
исключает бездарь.
Тухачевский ставил на талант.
Если чей-то череп застил свет,
вы навылет прошибали череп
и в свободу
глядели
через —
как глядят в смотровую щель!
Но и вас сносило наземь, косо,
сжав коня кусачками рейтуз.
«Ах, поручик, биты ваши козыри».
«Крою сердцем – это пятый туз!»
Огненное офицерство!
Сердце – ваш беспроигрышный бой,
Амбразуры закрывает сердце.
Гибнет от булавки
болевой.
На балкон мы вышли.
Внизу шумел Львов.
Он рассказал мне свою историю. У каждого
офицера есть своя история. В этой была
женщина и лифт.
«Странно»,– подумал я...
1965
Примечания
1. См. раздел М.Лермонтова на этом сайте. Обратно
Andrei Voznesensky.
Antiworlds and "The Fifth Ace".
Ed. by Patricia Blake and Max Hayward.
Bilingual edition.
Anchor Books, Doubleday & Company, Inc.
Garden City, NY 1967.
ЗАПИСКА Е.ЯНИЦКОЙ, БЫВШЕЙ МАШИНИСТКЕ МАЯКОВСКОГО
Вам Маяковский1 что-то должен.
Я отдаю.
Вы извините – он не дожил.
Определяет жизнь мою
платить за Лермонтова2, Лорку3
по нескончаемому долгу.
Наш долг страшен и протяжен
кроваво-красным платежом.
Благодарю, отцы и прадеды.
Крутись, эпохи колесо...
Но кто же за меня заплатит,
за все расплатится, за все?
1963
Примечания
1. См. раздел В.Маяковского на этом сайте. Обратно
2. См. раздел М.Лермонтова на этом сайте. Обратно
3. См. раздел Г.Лорки на этом сайте. Обратно
Andrei Voznesensky.
Antiworlds and "The Fifth Ace".
Ed. by Patricia Blake and Max Hayward.
Bilingual edition.
Anchor Books, Doubleday & Company, Inc.
Garden City, NY 1967.
ЛОНЖЮМО
(Поэма)
Авиавступление
Посвящается слушателям
школы Ленина в Лонжюмо
Вступаю в поэму, как в новую пору вступают.
Работают поршни,
соседи в ремнях засыпают.
Ночной папироской
летят телецентры за Муром.
Есть много вопросов.
Давай с тобой, Время, покурим.
Прикинем итоги.
Светло и прощально
горящие годы, как крылья, летят за плечами.
И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы, да и спутницы наши,—
не юны,
что нас провожают
и машут лукаво
кто маминым шарфом, а кто —
кулаками...
Земля,
ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.
По гаснущим рельсам
бежит паровозик,
как будто
сдвигают
застежку
на «молнии».
Россия любимая,
с этим не шутят.
Все боли твои – меня болью пронзили.
Россия,
я – твой капиллярный сосудик,
мне больно когда —
тебе больно, Россия.
Как мелки отсюда успехи мои,
неуспехи,
друзей и врагов кулуарных ватаги.
Прости меня, Время,
что много сказать
не успею.
Ты, Время, не деньги,
но тоже тебя не хватает.
Но люди уходят, врезая в ночные отроги
дорог своих
огненные автографы!
Векам остаются – кому как удастся —
штаны – от одних,
от других – государства.
Его различаю.
Пытаюсь постигнуть,
чем был этот голос с картавой пластинки.
Дай, Время, схватить этот профиль,
паривший
в записках о школе его под Парижем.
Прости мне, Париж, невоспетых красавиц.
Россия, прости незамятые тропки.
Простите за дерзость,
что я этой темы
касаюсь,
простите за трусость,
что я ее раньше
не трогал.
Вступаю в поэму. А если сплошаю,
прости меня, Время, как я тебя часто
прощаю.
_____
Струится блокнот под карманным фонариком.
Звенит самолет не крупнее комарика.
А рядом лежит
в облаках алебастровых
планета —
как Ленин,
мудра и лобаста.
1
В Лонжюмо сейчас лесопильня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна, бурые как эскимо.
Пилы кружатся. Пышут пильщики.
Под береткой, как вспышки,– пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.
Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны – тезки?!
Пахнет музыкой. Пахнет тесом.
А еще почему-то – верфью,
а еще почему-то – ветром,
а еще – почему не знаю —
диалектикою познанья!
Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы,
Как лучи из-под тучи синей,
бьют
опилки
из-под пилы!
Добирайтесь в вещах до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные дополна.
Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла —
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкою была!
Чтобы стала поющей силищей
корабельщиков,
скрипачей...
Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть
вещей.
2
Врут, что Ленин был в эмиграции
(Кто вне родины – эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!
Настоящие эмигранты
пили в Питере под охраной,
воровали казну галантно,
жрали устрицы и гранаты —
эмигранты!
Эмигрировали в клозеты
с инкрустированными розетками,
отгораживались газетами
от осенней страны раздетой,
в куртизанок с цветными гривами
эмигрировали!
В драндулете, как чертик в колбе,
изолированный, недобрый,
средь великодержавных харь,
среди ряс и охотнорядцев,
под разученные овации
проезжал глава эмиграции —
царь!
Эмигранты селились в Зимнем.
А России
сердце само —
билось в городе с дальним именем
Лонжюмо.
3
Этот – в гольф. Тот повержен бриджем.
Царь просаживал в «дурачки»...
...Под распарившимся Парижем
Ленин
режется
в городки!
Раз!– распахнута рубашка,
раз!– прищуривался глаз,
раз!– и чурки вверх тормашками
(жалко, что не видит Саша!) —
рраз!
Рас-печатывались «письма»,
раз-летясь до облаков,—
только вздрагивали бисмарки
от подобных городков!
Раз!– по тюрьмам, по двуглавым —
ого-го!—
Революция играла
озорно и широко!
Раз!– врезалась бита белая,
как авроровский фугас —
так что вдребезги империи,
церкви, будущие берии —
раз!
Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов!» Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!
Раз!..
...А где-то в начале века
человек,
сощуривши веки,
«Не играл давно»,– говорит.
И лицо у него горит.
4
В этой кухоньке скромны тумбочки
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз,
было утро, теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол доминиканский
Мари-Роз,
прислоняюсь к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через ленинское стекло,
и мне мнится – он где-то спереди,
меж торговок, машин, корзин,
на прозрачном велосипедике
проскользил,
или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил в метро грохочущем
ослепительный свист саней?
или, может, жару и жаворонка?
или в лифте сквозном парит,
и под башней ажурно-ржавой
запрокидывается Париж —
крыши сизые галькой брезжат,
точно в воду погружены,
как у крабов на побережье,
у соборов горят клешни,
над серебряной панорамою
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами,
он читал превращенья их,
он любил вас, фасады стылые,
точно ракушки в грустном стиле,
а еще он любил Бастилию —
за то, что ее срыли!
и сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное
лицо,
и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках и маевках,
а за ними – фронты, Юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на кронштадтском льду,
вот зачем, мой Париж прощальный,
не пожар твоих маляров —
славлю стартовую площадку
узкой улочки Мари-Роз!
Он отсюда
мыслил
ракетно.
Мысль его, описав дугу,
разворачивала
парапеты
возле Зимнего на снегу!
(Но об этом шла речь в строках
главки 3-й, о городках.)
5
В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой в конспекты,
спит, живой еще, невоспетый
Серго,
спи, Серго, еще раным-рано,
зайчик солнечный через раму
шевелится в усах легко,
спи, Серго,
спи, Серго в васильковой рубашечке,
ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев и Менжинский
так же детски глаза смежили.
Что вам снится? Плотины Чирчика?
Первый трактор и кран с серьгой?
Почему вы во сне кричите,
Серго?!
Жизнь хитра. Не учесть всего.
Спит Серго, коммунист кремневый.
Под широкой стеной кремлевской
спит Серго.
6
Ленин прост – как материя,
как материя – сложен.
Наш народ – не тетеря,
чтоб кормить его с ложечки!
Не какие-то «винтики»,
а мыслители,
он любил ваши митинги,
Глебы, Вани и Митьки.
Заряжая ораторски
философией вас,
сам,
как аккумулятор,
заряжался от масс.
Вызревавшие мысли
превращались потом
в «Философские письма»,
в 18-й том.
_________
Его скульптор лепил. Вернее,
умолял попозировать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,
бормотал он оцепенело:
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»
Поэтично кроить вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина1 – в Ленина
бил отравленный пистолет!
7
Однажды, став зрелей, из спешной
повседневности
мы входим в Мавзолей, как в кабинет
рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.
Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы – каких Вы ждали, Ленин?!
Скажите, Ленин, где победы и пробелы?
Скажите – в суете мы суть не проглядели?..»
Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно
прозрачное чело горит лампообразно.
«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин отвечает.
На все вопросы отвечает
Ленин.
1962-1963
Примечания
1. См. раздел А.Пушкина на этом сайте. Обратно
Андрей Вознесенский. Стихи.
Россия – Родина моя. Библиотечка русской
советской поэзии в пятидесяти книжках.
Москва: Художественная литература, 1967.
РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ
Мимо санатория
реют мотороллеры.
За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.
Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!
Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.
Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?
Осень. Небеса.
Красные леса.
1962
Андрей Вознесенский. Стихи.
Россия – Родина моя. Библиотечка русской
советской поэзии в пятидесяти книжках.
Москва: Художественная литература, 1967.
ДРЕВНИЕ СТРОКИ
В воротничке я – как рассольный
в кругу кривляк.
Но по ночам я – пес России
о двух крылах.
С обрывком галстука на вые
и дыбом шерсть.
И дыбом крылья огневые.
Врагов не счесть.
А ты меня шерстишь и любишь,
когда ж грустишь —
выплакиваешь мне, что людям
не сообщишь.
В мурло уткнешься меховое
в репьях, в шипах...
И слезы общею звездою
в шерсти шипят.
И неминуемо минуем
твою беду
в неименуемо немую
минуту ту.
А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слезы слизывал России,
чей светел лик.
1967
Андрей Вознесенский. Стихи.
Россия – Родина моя. Библиотечка русской
советской поэзии в пятидесяти книжках.
Москва: Художественная литература, 1967.
ПРОЛОГ
Пес твой, Эпоха, я вою у сонного ЦУМа —
чую Кучума!
Чую кольчугу
сквозь чушь о «военных коммунах»,
чую Кучума,
чую мочу
на жемчужинах луврских фаюмов —
чую Кучума,
пыль над ордою встает грибовидным самумом,
люди, очнитесь от ваших возлюбленных юных,
чую Кучума!
Чу, начинается... Повар скуластый
мозг вырезает из псины живой и скулящей...
Брат вислоухий, седой от безумья —
чую кучумье!
Неужели астронавты завтра улетят на Марс,
а послезавтра
вернутся в эпоху скотоводческого феодализма?
Неужели Шекспира заставят каяться
в незнании «измов»?
Неужели Стравинского поволокут
с мусорным ведром на седой
голове по воющим улицам!
Я думаю, право ли большинство?
Право ли наводненье во Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Чело, а не число.
Я думаю – толпа иль единица?
Что длительней – столетье или миг,
который Микеланджело постиг?
Столетье сдохло, а мгновенье длится.
Я думаю...
Хам эпохальный стандартно грядет
по холмам, потрохам,
хам,
хам примеряет подковки к новеньким сапогам,
хам,
тень за конем волочится, как раб на аркане,
крови алкает ракета на телеэкране,
хам.
В Маркса вгрызаются крысы амбарные,
рушат компартию, жаждут хампартию.
Хм!
Прет чингисхамство, как тесто в квашне,
хам,
сгинь, наважденье, иль все ото только во сне?
Кань!
Суздальская богоматерь,
сияющая на белой стоне,
как кинокассирша в полукруглом окошечке,
дай мне билет, куда не пускают после 16-ти.
Невмоготу понимать все...
Народ не бывает Кучумом. Кучумы – это
божки
Кучумство – не нация Лу Синя и Ци Бай-ши.
При чем тут расцветка кожи?
Мы знали их,
белокурых.
Кучумство с подростков кожу
сдирало на абажуры.
«СверхВостоку» «СверхЗапад» снится.
Кучумство – это волна
совиного шовинизма.
Кучумство – это война.
Неужто Париж над кострами вспыхнет,
как мотылек?
(К чему же века истории, коль снова
на четырех?)
При чем тут «ревизионизмы»
и ханжеский балаган?
(Я слышу: «Икры зернистой!» Я слышу:
«Отдай Байкал!»)
Неужто опять планету нам выносить на горбу?
Время!
Молись России
за неслыханную ее судьбу!
За наше самозабвение, вечное, как небеса,
все пули за Рим, за Вены, вонзающее в себя!
Спасательная Россия! Какие бы ни Батый —
вечно Россия.
Снова Россия.
Вечно Россия.
Россия – ладонь распахнутая,
и Новгород – небесам
горит на равнине распаханной —
как сахар дают лошадям.
Дурные твои Батыи —
Мамаями заскулят.
Мама моя, Россия,
не дай тебе
сжаться в кулак.
Гляжу я, ночной прохожий,
на лунный и круглый стог.
Он сверху прикрыт рогожей —
чтоб дождичком не промок.
И так же сквозь дождик плещущий
космического сентября,
накинув
Россию
на плечи,
поеживается Земля.
1967
Андрей Вознесенский. Стихи.
Россия – Родина моя. Библиотечка русской
советской поэзии в пятидесяти книжках.
Москва: Художественная литература, 1967.
ОЗЕРО СВИТЯЗЬ
Опали берега осенние.
Не заплывайте. Это омут.
А летом озеро – спасение
тем, кто тоскуют или тонут.
А летом берега целебные,
как будто шина, надуваются
ольховым светом и серебряным
и тихо в берегах качаются.
Наверное, это микроклимат.
Услышишь, скрипнула калитка
или колодец журавлиный —
все ожидаешь, что окликнут.
Я здесь и сам живу для отзыва.
И снова сердце разрывается —
дубовый лист, прилипший к озеру,
напоминает Страдивариуса.
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
СООБЩАЮЩИЙСЯ ЭСКИЗ
Мы, как сосуды,
налиты синим,
зеленым, карим,
друг в друга сутью,
что в нас носили,
перетекаем.
Ты станешь синей,
я стану карим,
а мы с тобою
непрерывно переливаемы
из нас – в другое.
В какие ночи,
какие виды,
чьих астрономищ?
Не остановишь —
остановите!—
не остановишь.
Текут дороги,
как тесто, город,
дома текучи,
и чьи-то уши
текут, как хобот.
А дальше – хуже!
А дальше...
Все течет. Все изменяется.
Одно переходит в другое.
Квадраты расползаются в эллипсы.
Никелированные спинки кроватей текут,
как разварившиеся макароны.
Решетки тюрем свисают,
как кренделя или аксельбанты.
Генри Мур, краснощекий английский ваятель,
носился по биллиардному сукну своих
подстриженных газонов.
Как шары, блистали скульптуры, но они то
расплывались, как флюс, то принимали изящные
очертания тазобедренных суставов.
«Остановитесь!– вопил Мур. – Вы прекрасны!..» —
Не останавливались.
По улицам проплыла стайка улыбок.
На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца.
Черный и оранжевый. Их груди слиплись. Они
стояли, походя сбоку на плоскогубцы,
поставленные на попа.
Но-о ужас! На оранжевой спине угрожающе
проступили черные пятна.
Просачивание началось. Изловчившись, оранжевый
крутил ухо соперника и сам выл от боли – это
было его собственное ухо.
Оно перетекло к противнику.
Букашкина выпустили.
Он вернулся было в бухгалтерию, но не смог ее
обнаружить, она, реорганизуясь, принимала
новые формы.
Дома он не нашел спичек. Спустился ниже этажом.
Одолжить.
В чужой постели колыхалась мадам Букашкина. «Ты
как здесь?» «Сама не знаю – наверно,
протекла через потолок». Вероятно, это было
правдой. Потому, что на ее разомлевшей коже,
как на разогревшемся асфальте, отпечаталась
чья-то пятерня с перстнем. И почему-то ступня.
Вождь племени Игого-жо искал новые формы
перехода от феодализма к капитализму.
Все текло вниз, к одному уровню, уровню моря.
Обезумевший скульптор носился, лепил, придавая
предметам одному ему понятные идеальные
очертания, но едва вещи освобождались от его
пальцев, как они возвращались к прежним
формам, подобно тому, как расправляются
грелки или резиновые шарики клизмы.
Лифт стоял вертикально над половодьем, как ферма
по колено в воде.
«Вверх – вниз!»
Он вздымался, как помпа насоса.
«Вверх – вниз».
Он перекачивал кровь планеты.
«Прячьте спички в местах, недоступных детям».
Но места переместились и стали доступными.
«Вверх – вниз».
Фразы бессильны. Словаслиплисьводну фразу.
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые!..»
Это уже кричу я.
Меня будят. Суют под мышку ледяной градусник.
Я с ужасом гляжу на потолок.
Он квадратный.
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
ПАМЯТНИК
Я – памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Юдоль его отмщу.
Счета его оплачиваю.
Врагов его казню.
Они с детьми своими
по тыще раз на дню
его повторят имя.
От Волги по Юкон
пусть будет знаменито,
как, цокнув языком,
любил он землянику.
Он для меня как бог.
По своему подобью
слепил меня, как мог,
и дал свои надбровья.
Он жил мужским трудом,
в свет превращая воду,
считая, что притом
хлеб будет и свобода.
Я памятник отцу,
Андрею Николаевичу,
сам в форме отточу,
сам рядом врою лавочку.
Чтоб кто-то век спустя
с сиренью индевеющей
нашел плиту «6 а»
на старом Новодевичьем.
Согбенная юдоль.
Угрюмое свечение.
Забвенною водой
набух костюм вечерний.
В душе открылась течь. И утешаться нечем.
Прости меня, отец,
что памятник не вечен.
Я – памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Я лоб его ношу
и жребием своим
вмещаю ипостась,
что не досталась кладбищу, —
Отец – Дух – Сын.
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
МАТЬ
Охрани, Провидение, своим махом шагреневым,
пощади ее хижину —
мою мать – Вознесенскую Антонину Сергеевну,
урожденную Пастушихину.
Воробьишко серебряно пусть в окно постучится:
«Добрый день, Антонина Сергеевна,
урожденная Пастушихина!»
Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.
За житейские стыни, две войны и пустые деревни
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.
И, зайдя за калитку, в небесах над речушкою
подарила им нитку – уток нитку жемчужную.
Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки,
коммунальные ссоры утешали своей
беззащитностью.
Любит Блока1 и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие россии. Но мне эта милее.
Что наивно просила, насмотревшись по телику:
«Чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку...»
Назовите по имени веру женскую,
независимую пустынницу —
Антонину Сергеевну Вознесенскую,
урожденную Пастушихину.
Примечания
1. См. раздел А.Блока на этом сайте. Обратно
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ
Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.
Будто послушник хочет к господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.
Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я – другие.
Упаду на поляну – чувствую
по живой земле ностальгию.
Нас с тобой никто не расколет.
Но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто-то тебя отнимает.
Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.
Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья – подлинника,
по нему грущу, настоящему.
Все из пластика, даже рубища.
Надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...
И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты – в прошлом.
В настоящем рост понимания».
Хлещет черная вода из крана,
хлещет рыжая, настоявшаяся,
хлещет ржавая вода из крана.
Я дождусь – пойдет настоящая.
Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по-настоящему.
Что настанет. Да не застану.
1976
Советская поэзия. В 2-х томах.
Библиотека всемирной литературы. Серия третья.
Редакторы А.Краковская, Ю.Розенблюм.
Москва: Художественная литература, 1977.
СОН
Мы снова встретились,
и нас везла машина грузовая.
Влюбились мы – в который раз.
Но ты меня не узнавала.
Ты привезла меня домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой,
но ты меня не узнавала!
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
* * *
Для души, северянки покорной,
и не надобно лучшей из пищ.
Брось ей в небо, как рыбам подкормку,
монастырскую горсточку птиц!
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
СОН
Я шел вдоль берега Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.
И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.
И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.
Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».
Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.
Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.
Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.
«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят взрывы.
«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».
И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.
Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...
Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
* * *
Почему два великих поэта,
проповедники вечной любви,
не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат, а люди – увы...
Почему два великих народа
холодеют на грани войны,
под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны – увы...
Две страны, две ладони тяжелые,
предназначенные любви,
охватившие в ужасе голову
черт-те что натворившей Земли!
1977
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
* * *
Мордеем, друг. Подруги молодеют.
Не горячитесь.
Опробуйте своей моделью
как «анти» превращается в античность.
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
* * *
Нам, как аппендицит,
поудаляли стыд.
Бесстыдство – наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!
Сквозь ставни наших щек
Не просочится свет.
Но по ночам – как шов,
заноет – спасу нет!
Я думаю, что бог
в замену глаз и уш
нам дал мембраны щек,
как осязанье душ.
Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.
Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.
Как стыдно, мы молчим.
Как минимум – схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим!
Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои
соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.
Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.
И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не сберег.
За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще – не все...
В больнице режиссер
Чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,
что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны.
Застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...
Обязанность стиха
быть органом стыда.
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
ПЕСНЯ
Мой моряк, мой супруг незаконный!
Я умоляю тебя и кляну —
сколько угодно целуй незнакомок.
Всех полюби. Но не надо одну.
Это несется в моих телеграммах,
стоном пронзит за страною страну.
Сколько угодно гости в этих странах.
Все полюби. Но не надо одну.
Милый моряк, нагуляешься – свистни.
В сладком плену или идя ко дну,
сколько угодно шути своей жизнью!
Не погуби только нашу – одну.
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
РЕКВИЕМ
Возложите на море венки.
Есть такой человечий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.
Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.
Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.
На одном, как ведро, сапоги,
на другом – на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
на воде оставляли круги.
Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.
Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.
Заплетите земные цветы
над землею сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.
Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколеньям пришедшим:
«Кто живой – возложите венки».
Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.
Андрей Вознесенский. Не отрекусь.
Избранная лирика.
Минск, "БелАДИ", 1996.
ГРУЗИНСКИЕ ДОРОГИ
Вас за плечи держали
Ручищи эполетов.
Вы рвались и дерзали,—
Гусары и поэты!
И уносились ментики
Меж склонов-черепах...
И полковые медики
Копались в черепах.
Но оставались песни.
Они, как звон подков,
Взвивались в поднебесье
До будущих веков.
Их горная дорога
Крутила, как праща.
И к нашему порогу
Добросила, свища.
И снова мёртвой петлею
Несутся до рассвета
Такие же отпетые —
Шоферы и поэты!
Их фары по спирали
Уходят в небосвод.
Вы совесть потеряли!
Куда вас занесет?!
Из горного озона
В даль будущих веков
Летят высоким зовом
Гудки грузовников.
1960
Andrei Voznesensky.
Antiworlds and "The Fifth Ace".
Ed. by Patricia Blake and Max Hayward.
Bilingual edition.
Anchor Books, Doubleday & Company, Inc.
Garden City, NY 1967.
ВЕЧЕРИНКА
Подгулявшей гурьбою
Все расселись. И вдруг —
Где
двое?!
Нет
двух!
Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
Два пустующих стула,
Два лежащих ножа.
Они только что пили
Из бокалов своих.
Были —
Сплыли.
Их нет, двоих.
Водою талою —
Ищи-свищи!—
Сбежали, бросив к дьяволу
Приличья и плащи!
Сбежали, как сбегает