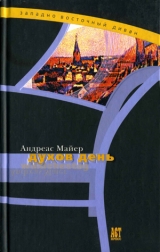
Текст книги "Духов день"
Автор книги: Андреас Майер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Когда Гюнес уходила, она взглянула на него, поджав губки и приняв покорное выражение. Он улыбнулся, она тут же ответила ему улыбкой. Вот и все, узы разорваны. После этого Визнер с легкостью продолжил общение, почувствовав себя полностью раскрепощенным. Потом пришли совсем молодые ребята и запрыгали под «техно» возле сарая, обнажившись до пояса и не стесняясь откровенных телодвижений и жестов. Время от времени кто-нибудь из их компании, утратив над собой контроль, наступал на сидящих у костра, что каждый раз приводило к бурным сценам. Однако тут же находились третейские судьи. Ему, Визнеру, показалось, что музыка стала еще громче. Вскоре появился отец Курта, он искал сына, очевидно, чтобы предъявить ему претензии. Не найдя его, он заговорил с Визнером. Музыка слишком громкая, ее наверняка слышно и в Верхнем Флорштадте, он даже не представлял себе, что от автомагнитолы и стены не защищают. Это все специальные колонки, называются «сабвуфер», сказал кто-то из стоящих рядом, генератор низкочастотных звуков, то есть басов. Их буханье заглушает и перекрывает все вокруг. Понятно, процедил с раздражением сквозь зубы старый Буцериус. А потом Визнеру: и раз уж людей становится все больше и больше, так нельзя ли, в конце концов, последить за тем, чтобы они вели себя поаккуратнее, так он считает. Пока его сына нет, он, Визнер, обязан об этом позаботиться. И пусть скажет людям, чтобы не заходили в мастерскую. Это им может дорого обойтись, они ведь уже все перепились. А он вообще-то знает всех этих людей? Визнер: нет, они приходят сами. И в этот момент возвратился Курт Буцериус, но не один, а в сопровождении Кати Мор. Музыка после совместных увещеваний Визнера и Буцериуса сразу же стала немного тише. Визнер прошел в мастерскую и увидел там парочку, которую уже один раз вышвыривал оттуда. О'кей, о'кей, только не надо дыма и без стресса, пожалуйста, сказал застигнутый врасплох парень. Какой там стресс, сказал Визнер, он просто намерен запереть мастерскую, в конце концов, все гуляют во дворе, при чем тут ремонтная мастерская. Визнер сначала демонстративно держался возле Буцериуса, как бы действовал с ним заодно, наводя порядок, пока наконец-то судьба сама не подвела его к Кате Мор. Гордый от счастья, он отметил, что девушка держится с ним открыто и просто, как со старым знакомым. Она рассказала ему немножко про старого Адомайта и про то, как ей наскучили родители и она рада, что подвернулась возможность еще раз пойти куда-нибудь вечером, иначе ей пришлось бы весь оставшийся вечер просидеть с бабушкой. Она постояла с ним, они вместе покурили, а потом она пошла танцевать, то и дело мило улыбаясь ему. Затем она снова постояла с ним, они опять что-то обсудили, и Визнер чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Несколько раз ему даже довелось защищать девушку от назойливости посторонних гостей, пристававших к Кате Мор, предлагавших потанцевать с ними или выпить водки etcetera. Обычно она не танцует под «техно», сказала она, но сегодня ей почему-то хочется, такое у нее настроение. Здесь все так странно, в этом дворе, свет костра, вокруг пахнет соломой, и вдобавок еще эта музыка. Ее друг никогда не танцует. Визнер почувствовал себя убитым этой фразой, словно снайперским выстрелом в голову. У нее есть друг! У него было такое ощущение, что его голова вот-вот лопнет. Друг, у нее есть друг, стучало у него в висках. Все-таки как хорошо, просто счастливый случай, что этот южак так неожиданно исчез до того со двора Буцериусов. Только не подавай виду, ни в коем случае не подавай виду, приказал он себе. Значит, так, у нее есть друг, но мне это совершенно безразлично, потому что она и сама мне абсолютно безразлична. Да, женщины и должны быть безразличны, а если это не так, то, значит, уже сделан первый шаг к беде. От ее волос пахнет каким-то особым теплом. А как эти глаза смотрят на тебя, то есть на меня! И единственное, что ты сейчас ощущаешь, Визнер, сказал себе Визнер, так это то, что у тебя подкашиваются ноги. Но ты не должен этого допускать. Она тебе безразлична. Тебе все безразлично! Да, точно, южак именно так и сказал, все безразлично! А как у нее обстоят дела с ее другом, счастлива ли она с ним, спросил он Катю Мор совершенно естественным тоном. Счастлива ли, отозвалась Катя Мор и пожала плечами. Она этого не знает. Она даже не знает, что это означает, быть счастливой или нет. Может, это когда внутри тебя вдруг все умолкает и замирает от счастья. Визнер посмотрел на ее лицо, губы, на ее взгляд – он был совершенно потусторонним, как бы отсутствующим, и тут он почувствовал, что ее ответ окончательно убил его. Что за странный ответ! Быть счастливой – это когда внутри тебя все умолкает и замирает. Этот ответ заставил его обалдеть от неожиданности, у него даже горло перехватило и голос пропал. Он. правда, не очень отдавал себе отчет в том, что она этой фразой хотела сказать, но в тот момент она показалось ему настолько поэтической, вершиной того, как может простая девушка облечь в слова свои земные чувства. И она сказала их ему, Визнеру. Тем не менее он постарался приложить максимум усилий, чтобы по-прежнему производить впечатление человека абсолютно безучастного к услышанному и никак им не затронутого, а себе он еще сказал, это не только самое правильное решение производить на нее впечатление человека незаинтересованного, но нужно еще и постараться не прилагать для этого заметных усилий, она и без того девушка очень доверчивая. Для него, Визнера, словно рай спустился на землю, когда эта девушка просто так сказала ему такие доверительные слова. Сегодня ты вообще больше ничего не станешь предпринимать, сказал он себе, все произойдет само собой. Может, она даже вскоре положит тебе голову на плечо, такой уж сегодня вечер, и даже если она этого не сделает, ты все равно уже счастлив. Она не положила ему голову на плечо, напротив, когда группа флорштадтцев собралась поехать в город, она присоединилась к ним, чтобы вернуться к себе на постоялый двор. Визнер пребывал в блаженном состоянии и не тронулся с места. Слушай, похоже, ты здорово втюрился, может такое быть, спросил Буцериус. Визнер очень удивился, услышав этот вопрос, потому что считал, что его отношение к этой девушке оставалось для всех тайной за семью печатями.
Он лишь пожал плечами. Постепенно у молодых пропала охота танцевать, их не устраивала музыка, она была слишком тихой. Недовольных становилось все больше, кое-кто из этой компании обозвал Буцериуса занудой, а тусовку полным отстоем. Они решили двинуть в другое место и праздновать там дальше, с громкими криками ликования, сплоченной кучкой, по-прежнему обнаженные до пояса, они шумно отвалили, сметая на своем пути верстаки и опрокидывая табуретки и скамейки. Музыка наконец-то сменилась, из автомобиля Лаймера зазвучали знакомые старые мелодии, не такие оглушительные, как «техно», песни в сопровождении гитары, совсем из других времен. Задумчивое, меланхолическое настроение разлилось в воздухе, какое-то время после ухода шумной компании молодежи, отплясывавшей под техномузыку, оставшиеся молча смотрели на огонь и слушали треск поленьев в костре. Даже любовные парочки и те сидели тихо, положив руки на колени, и молча курили, уставившись в огонь. Эй, люди, как давно я не слышал Дженис Джоплин, сказал вдруг кто-то. Дженис Джоплин – это было что-то, в самом деле нечто исключительное. Не то что эта дерьмовая музыка. Другой голос подхватил: Дженис Джоплин было что спеть и сказать. Еще кто-то: точно. Все эти разговоры велись в ностальгическом тоне и глубокой задумчивости, они возникали на одной стороне костра, подхватывались на другой, и при этом все чокались в знак полного согласия бутылками с пивом. Кто-то громко рыгнул. Прошло некоторое время, и во дворе опять возник южак-гессенец и снова уселся на свое бревно, вперив глаза в костер. Слышно было, как башенные часы на церковной колокольне во Флорштадте пробили полночь. Ну вот, значит, опять наступил понедельник, сказал кто-то из присутствующих. Все с удивлением посмотрели на него, как он мог в такой возвышенный момент говорить о таких прозаических вещах. Однако именно эта незамысловатая фраза произвела на них отрезвляющее действие, все снова вернулись к прежним разговорам и уже через несколько минут стали посмеиваться и зубоскалить по поводу томной музыки и охватившего их сентиментального настроения. Все опять дружно взялись за пиво и сигареты. Чужак-гессенец все это время неподвижно сидел на одном месте и ни в чем не принимал участия. Иногда он потягивал пиво из бутылки, неотступно глядя полуприщуренными глазами на пламя костра, словно вел прицельное наблюдение, которое не мог прервать ни на минуту, и был постоянно погружен в далекие отсюда туманные и запутанные мысли. Даже сама манера, как он тянулся к бутылке, не глядя на нее, с какой-то сомнамбулической уверенностью в себе, вновь вызвала в душе Визнера сильное беспокойство. Сидит тут у костра, словно герой вестерна, подумал он про него. Потом южак встал, сделал два шага в направлении костра и зажег сигарету. Это и было формой доказательства, сказал он. Что, спросил Визнер. Речь шла о доказательстве, и больше ни о чем, ответил южак-гессенец. О ужас, подумал Визнер, сейчас опять последует фонтан философских тирад. Вслух: что он собирается доказать? Южногессенец: все постоянно говорят о себе, а имеют в виду совсем другое,ему никогда не бросалось это в глаза? Я тоже все время говорю о себе, о своем «я», и тем не менее я все время говорю о ком-то другом. О том, кем я не являюсь. Вы все тут не вы, а нечто совсем другое. Визнер: о чем таком другом ты говоришь? И вообще, о чем? Южногессенец поглядел на него. Очевидно, он очень удивился, что его не поняли. Если я голоден, я ем хлеб. Если мне холодно, я иду к огню. Если мне одиноко, я ищу женщину. Или пью пиво. Вот и все. Так это и бывает. А потому вы все говорите о своем «я», хотя оно для вас ровным счетом ничего не значит, меньше даже, чем пиво. И меньше, чем любая девушка. Этого еще никто не доказал, но доказательство тому есть. Визнер не понял ни слова. Что за доказательство он имеет в виду? И с чего это он вообще вдруг заговорил о присутствующих? Южногессенец: например, можно взять пистолет и приставить его к собственной голове, это и стало бы формой доказательства. Или, может, он этого не понимает, спросил южак вдруг очень агрессивно. Визнер: да, он такое уже проделывал. Его дядя – охотник, у него есть пистолет, он, Визнер, уже дважды направлял пистолет себе в голову, один раз – когда ему было пятнадцать, а другой – в семнадцать лет, и каждый раз носился с мыслью нажать на спусковой крючок. Первый раз дядя вырвал у него пистолет из рук и сказал, что он, вероятно, сбрендил, а во второй раз он сказал: где бы оружие ни лежало, тот, кому это приспичит, непременно отыщет его, возьмет в руки и приставит к виску, а вот нажать сможет не каждый, он, дядя, между прочим, тоже не смог. Это все от тщеславия, каждый может приставить оружие к виску и потом что-то утверждать, а где доказательство? Доказательство – чего?
Южак-гессенец опять сощурился и уставился на огонь. К их разговору прислушивались и все остальные. Он знает, что это тщеславие, сказал через какое-то время чужак. История человечества из того и состоит, что все время приставляют оружие к голове. Но это еще ничего не доказывает. Это опять нечто совсем другое. Доказательством будет, когда приставишь оружие к виску и нажмешь на спусковой крючок. Вот только тогда это и станет доказательством. Все смотрели на чужака словно в шоке. Постепенно всем становилось ясно, что они вообще не понимают, о чем он говорит. Именно так, нажмешь на крючок – и кранты, сказал кто-то. Нажать на спусковой крючок – это, конечно, доказательство, а как же, сказал еще один. И, наконец, третий: а чего там, иногда подопрет так, что хочется покончить со всем разом. Четвертый: пока есть пиво, все еще не так плохо – жить можно. Еще один голос: рассуждать каждый горазд. Визнер: точно, рассуждать каждый умеет. И он, южак, тоже все лишь рассуждает, постоянно только и делает, что говорит и говорит, а вот если бы разок нажал на крючок, то уже сейчас бы не разглагольствовал. Где у тебя оружие, или, может, предъявишь нам дырку в голове, нет? Ну тогда о чем говорить! Кто-то от костра: с вами просто повеситься можно. Нет, правда, пойду сейчас и повешусь. На меня этот ваш спор тоску нагоняет. Я и без того сейчас в фазе депрессии. Другой: выпей лучше пивка. А знаете, сказал еще кто-то, все дело в музыке, которую мы слушали. Кто это вообще поставил эти дженис-джоплиновые сопли, тут поневоле с тоски завоешь. Хор голосов: точно! Раздался звук откупориваемых бутылок. И опять воцарилась тишина. А хотите у меня есть «АББА»? Минуточку, могу еще поставить группу «Роксет». Голоса: главное, чтоб было повеселей. И пока Петер Лаймер возился с магнитолой, а все выжидательно смотрели в его сторону, чужак-гессенец разразился дьявольским хохотом – на высоких тонах и патологически нездоровым. Да он больной, подумал Визнер. Этот смех длился три или четыре секунды, потом так же внезапно оборвался, как и начался. Все смотрели на чужака, испытывая еще больший испуг, чем прежде. А тот молча встал и направился к воротам – белый как мел. Ну и дела, сцена с привидением. Куда ты идешь, крикнул ему Визнер в спину. Прочь отсюда, сказал южногессенец. «Прочь отсюда», повторил за ним Визнер, это, конечно, очень информативно. Что значит, «прочь отсюда»? Южак не ответил и буквально выбежал со двора. Визнер застыл на месте, крепко озадаченный. Кто этот сумасшедший, раздались голоса. Он же в полной отключке. А как он сидел все время молча на этом бревне, абсолютно не двигаясь, застыв словно статуя. Люди стали серьезно обсуждать, а не создать ли им спасательную группу и не отправить ли ее на поиски этого чужака. Что за чепуха, возражали другие. Если бы у него было оружие, он бы размахивал им тут, устроив нам театральное представление, сто против одного, уверяю вас. Как бы там ни было, а этот случай с чужаком-гессенцем вновь породил разные разговоры, одни заговорили о собственных кризисах в личных отношениях, другие вообще о смысле жизни и земного существования, а кто-то просто ушел в дом, чтобы поискать еще пива.
Утром мало кто вспоминал о случившемся. Часть компании, уменьшившейся до восьми человек, сидела за длинным деревянным столом перед сараем и завтракала, остальные приводили в порядок двор, собирали жестяные крышки от пивных бутылок etcetera. Двое флорштадтцев, съездивших к булочнику за свежими круассанами, рассказали по возвращении, что видели чужака-гессенца в абсолютно благодушном настроении: он пил там стоя кофе. Это тоже поспособствовало всеобщему расслаблению, все сразу забыли про спасательную группу, которую ночью хотели организовать ради его спасения. Что за бурное утро, сказал Петер Лаймер и тоже сел за стол, все еще с засученными рукавами. Хорошо хоть, попрохладнее стало. Все кругом чувствовали себя очень вольготно, и Визнер тоже полностью сбросил с себя все, что так его тяготило, избавился от мыслей о южногессенце, от представлений о том, что он может встретить Катю Мор или Уту. На столе было много сыра и пива, завтрак получился очень сытный, все брали из кисета Лаймера табак и крутили себе козьи ножки. Альтенмюнстер, классное пиво, сказал Петер Лаймер, радуясь, как ребенок, что пьет не спеша, каждый раз закупоривая бутылку пластмассовой пробкой с зажимом, что в это майское утро, когда светит солнышко, он сидит здесь, за деревянным столом, под зеленым вязом во дворе у Буцериуса. А в это же самое время во Флорштадте из трактира «Под липой» поспешно вышли Харальд Мор и госпожа Адомайт. На площадке перед трактиром стоял грузовичок бенсхаймской фирмы по перевозке минеральной воды. Оба они посмотрели влево и вправо, потом быстро сели в машину. А как же господин Хальберштадт, спросил Харальд Мор. Нет, сказала госпожа Адомайт, нет-нет, Валентину не обязательно все знать. А что, спросил он, залезая в кабину, сказала она господину Хальберштадту? Сказала, то есть почему это сказала? Она ничего не обязана ему говорить. Здесь у нас чисто семейные дела, и это никого не касается, Валентин ведь не член семьи. Валентин и так слишком много говорит, особенно на эту тему, он ведь сверх всякой меры тщеславен. Вчера вечером, например, он и так чересчур много сказал этому Шоссауеру или Оссаеру. Я вообще никому ни слова не сказала о том, куда мы едем. И, надеюсь, ты своей проблемной дочери тоже ничего не сказал. Нет, никому, ответил Харальд Мор. Она: так чего же мы тут стоим? Давай езжай, пока нас никто не видел. Хозяин «Липы» стоял все это время на террасе и чесал в затылке, слушая этот странный разговор, но не уделяя ему особого внимания. Была половина десятого. Шустер, как обычно, прогуливался в это время, ноги сами несли его к Нижнему Церковному переулку. Там он присел на скамейку и вскоре стал свидетелем странных событий. Сначала возле дверей дома Адомайта появилась фрау Мор, она дергала за ручку и кричала: Харальд, Ха-аральд!Потом мимо прошел совершенно незнакомый господин. Оба они обменялись короткими репликами, из чего Шустер заключил, что господина звали Хальберштадт. Вскоре Хальберштадт пошел дальше своим путем, а за ним удалилась и фрау Мор. Через некоторое время Хальберштадт снова возник в Нижнем Церковном переулке. Он огляделся по сторонам, сунул руку в карман и достал оттуда ключ, открыв им входную дверь. Войдя в дом, он снова запер ее за собой. Шустер выждал несколько минут, после чего тоже вошел в дом, он хотел знать, что происходит там внутри. Внизу, в квартире на первом этаже, дверь стояла открытой. Это была та квартира, которую Адомайт еще несколько лет назад сдавал. Шустер вошел внутрь. Там никого не было. Квартира была абсолютно пуста, голые стены, однако стенные шкафчики, встроенные по углам, были распахнуты настежь, очевидно, Хальберштадт что-то искал. Но что?
Над своей головой Шустер услышал шаги в квартире Адомайта. Оттуда раздавались специфические звуки, когда открывают дверцы шкафов или выдвигают ящики письменного стола. Шустер поднялся по лестнице. Дверь наверху тоже стояла открытой, в кухне горел свет, холодильник не был закрыт. Хальберштадт находился в горнице. Он стоял у окна и ел бутерброд из поджаренного хлеба, вероятно оставшийся от вчерашних поминок. Затем он вытер рот. Шустер отступил на несколько шагов, чтобы его не заметили. Хальберштадт довольно долго простоял у окна. Похоже, что он очень внимательно, а может, просто от скуки наблюдал за тем, что происходит внизу, в переулке. Он закурил сигарету. Потом подошел к письменному столу и выдвинул ящик. Вынул оттуда кое-какие тетрадки и исписанные листы бумаги и разложил их перед собой на столе. Затем достал платок и высморкался. Он принялся изучать исписанные страницы, произнося вполголоса отдельные слова или цифры. Некоторые листы он просто изорвал в клочья и бросил на пол. Временами он громко смеялся. Потом встал из-за стола и прошел в кухню, чтобы взять себе что-нибудь из холодильника. Из своего укрытия Шустер мог наблюдать, как Хальберштадт заталкивал в себя тартинки движениями, мало приличествовавшими его утонченным манерам на публике и уж никак не подходившими под определение gentlemanlike. [14]14
Втоптанный, образованный, джентльменский (англ.).
[Закрыть]Затем он снова принялся копаться в бумагах Адомайта. Наконец он встал, бесцельно побегал по комнате и остановился перед напольными часами Адомайта. Он с интересом разглядывал их, прищуривал глаза и несколько раз оглянулся. Вдруг он разразился смехом. Как глупо, сказал он, ужасно глупо. Он открыл стеклянную дверцу часов и без всякого смысла в действиях снова с силой захлопнул ее. Этот процесс он повторил несколько раз, пока на стеклянной двери не появилась трещина. Ай-ай-ай, сказал Хальберштадт. И принялся с большим старанием дергать за приводы и гирьки, имевшие форму желудей, не обращая внимания на реакцию механизма часов и явно действуя с целью испортить их, причем это его желание сочеталось с детским любопытством ко всему устройству напольных часов. Потом, когда ему наконец-то удалось добиться того, что часы остановились и были уже непоправимо испорчены, он утратил к ним интерес и снова вернулся к письменному столу. На сей раз он не столько интересовался лежащими в нем бумагами, сколько тем, как открываются и закрываются дверцы и выдвигаются ящики, пишет ли еще лежащая в углублении ручка и отточены ли карандаши etcetera. На письменном столе стояли еще одни часы с пружинным заводом и боем. Хальберштадт потрогал колокольчик, раздался мелодичный звон. Примерно полминуты он поворачивал ключ в обратном направлении и тем самым искусственно вызывал треньканье колокольчика, не проявляя к этому никакого интереса, потом он с силой швырнул часы и что-то пробормотал. Затем снова взял в руки отброшенные на кушетку часы, еще раз послушал бой, определяя, ходят ли еще часы после того, как он их бросил, и сунул их себе в карман, это были небольшие часы, размером с кулак. После этого Хальберштадт, которому явно нечем было больше заняться в квартире (откуда у него вообще был ключ?), снова начал рыться в бумагах и рукописях. Что-то, очевидно, привлекло его внимание, он вырвал по нескольку страниц из разных тетрадей, сложил их пополам и спрятал в карман. Ну и дела, кто бы мог подумать, сказал он. Неожиданно зазвонил телефон. Хальберштадт задумчиво глядел на аппарат. Потом вдруг рывком снял трубку. Поглядел на нее немного, приложил к уху и произнес Адомайт слушает… Нет, Адомайт,сказал он опять, он просто простужен. На другом конце, очевидно, тут же положили трубку, потому что Хальберштадт разочарованно, даже несколько огорошенно посмотрел на ту, что была у него в руке, и в итоге положил ее просто на стол. В этот момент взляд его упал на распятие, висевшее напротив него на стене. Он встал и начал его разглядывать. Это был крест, купленный отцом Себастьяна Адомайта примерно в тысяча девятьсот десятом году у резчика по дереву Нойдорфа. Хальберштадт в большой задумчивости рассматривал распятие, потом снял его, повертел в руках и снова повесил на стену. После этого он прошел в угол комнаты, где было окно, и выпал из поля зрения Шустера. Он услышал какой-то звук. Шустер вырос на пороге в дверях, чтобы посмотреть, что там происходит. Хальберштадт справлял в углу свою нужду. Он обернулся и, не выразив ни малейшего удивления, посмотрел на Шустера, преспокойно продолжая заниматься своим делом. Затем он привел себя в порядок и снова подошел к распятию, чтобы получше изучить его. Он думал, сказал он, что Адомайт был атеистом. Он сам, впрочем, тоже атеист. Он рассматривает христианство как никому не нужное умничанье. Очевидно, этот Адомайт не очень-то во всем этом разбирался. Он никогда не ходил в церковь. И тем не менее на стене у него висит распятие. Такая половинчатость – худшая форма малодушия, разве нет? А кто он, собственно, такой? Как его зовут? Шустер не ответил. И как он вошел сюда? Ну, да это все равно, об этом полиция позаботится. Таких, как он, никому не известных, повсюду полно. Обыкновенные взломщики. Ах, у него есть ключ? Шустер: а вот откуда у него, Хальберштадта, ключ? Хальберштадт засмеялся. От экономки, откуда же еще? Он взял со стола листок бумаги. Смотрите-ка, он даже платил церковный налог, до самого последнего дня. Вот потешный тип. Люди ведь думают, что они что-то понимают, а на самом деле они не понимают ничего. Ровным счетом ничего. Потому что всегда были одержимы разными сумасбродными идеями. И были не в состоянии усвоить, в том числе по причине анахронизма, что является решающим. Шустер: и что же? Хальберштадт посмотрел на него рассеянно. Решающим является людская масса. Что же еще? Разве он только что не сказал об этом? Ему приходится так часто повторяться. Люди ничего не понимают, потому что лишены всякого разума. Ребенком он ходил в церковь во время богослужения, был даже служкой. Смешно, а? Но это все в детстве, да. Ах, как это все глупо. Если бы мир не был настолько глуп! Вы не разделяете такую точку зрения, что люди чрезвычайно глупы, спросил Хальберштадт и бросил целую стопку страниц, исписанных Адомайтом, в мусорную корзину. По его мнению, этот старик был явно не в своем уме. Он занимался птицами, вы знали об этом? Составлял настоящие досье на птиц, движимый совершенно непонятными мотивами. Хальберштадт взял телефонную трубку и позвонил в полицию, сообщив о проникновении воров в дом № 15 по Нижнему Церковному переулку. И выглянул после этого в окно. Малиновки, сказал он, соловьи, ребенком он стрелял в птиц из рогатки, он, между прочим, и по сей день не знает, что это были за птицы, и должен признаться, ему это абсолютно безразлично. Да, правда, совершенно безразлично. От птиц только один шум. И грязь. Они все отвратительны, эти птицы. Хотя, конечно, не виноваты в этом, хм, ясно, полностью невиновны, отчего люди и сходят по ним с ума, в них есть что-то безобидное. Люди всегда любят тех, кто безобиден. Птицы, молоденькие девушки, малолетние дети – это все один ряд. О-о, как же это все глупо. А больше всего он не выносит всякую мелкоту. В этом мире все такое мелкое. Прямо хоть бери микроскоп, чтобы разглядеть всех этих мелких людишек. Они скоро станут такими маленькими, все эти человечки, что вообще исчезнут, превратятся в ничто. Так всегда, когда что-то начинает уменьшаться, становится совсем маленьким, потом еще меньше, и вдруг – нет его! Математическая точка собственного «я». С другой стороны, я люблю людей, когда они являются мне в виде чисел, не разрастаясь количественно. Так сказать, как неодушевленный материал, ибо то, что само по себе не является решающим, не существует вообще, и есть материал. Колонки цифр – это мне нравится, это разумно. Впрочем, все это нагоняет на него бесконечную тоску, сказал Хальберштадт, разглядывая распятие. Левая рука чуть длиннее, вы не находите? Левая рука этого Христа однозначно длиннее. Я могу вам это доказать, сказал Хальберштадт и с большой живостью, даже восторгом посмотрел на Шустера.
Он опять снял распятие со стены, прошел с ним к письменному столу, взял маленькую линейку и начал измерять: от плеча до локтя, от локтя до кисти – сначала с правой стороны, потом с левой. Что я вам говорил, с триумфом сказал Хальберштадт. Левая рука по меньшей мере на полсантиметра длиннее. Ну, так укоротите ее, сказал Шустер. Неплохо, нет, правда, очень даже неплохо, воскликнул Хальберштадт. Но речь идет о памятном знаке, такие вещи негоже портить, хотя исправление само по себе нельзя рассматривать как порчу, что было бы абсурдно и противоречило здравому смыслу. Абсурдно, повторил, как эхо, Шустер. Бедный человек, сказал Хальберштадт, вешая распятие на место. О, как это все несложно понять, он, Хальберштадт, понял все в свои двадцать пять. Гораздо важнее, чем все остальное, это регулировать производство. Шустер: что, простите? Хальберштадт: вот видите, вам непонятно, когда я говорю, что важнее, чем все остальное, это регулировать производство, потому что вы слишком глупы, чтобы понять это, ибо вы не способны думать, а ему, Хальберштадту, смертельно надоело объяснять все это, и прежде всего, самые простые азбучные истины, и все только потому, что его слушатели безмерно глупы. В итоге остаются только цифры и биологические факторы воспроизводства, и для него, Хальберштадта, тоже не осталось ничего другого, он имеет в виду систему своего мышления, но поскольку люди слишком глупы для этого, им приходится усваивать все другим путем. Впрочем, все это, конечно, утопия. Хм, ха-ха, да, именно так. Это действительно все элементарно, но это утопия. Нужно упразднить больницы, это во-первых. Безусловно, это самое-самое первое, все остальное чушь. И никаких этических проблем, никаких вопросов морали. Мораль – это самонанесение вреда. Ах, как это невероятно скучно. Каждый человек, которого он встречает на своем пути, уже не нов для него – познан им и понятен ему до мозга костей, это всего лишь дело техники. И в результате, как правило, пустота, ничего. Шустер: только цифры и биологические факторы воспроизводства. Хальберштадт: точно. Но и это совершенно безразлично, потому что дело-то вовсе не в людях. Две тысячи лет только все и твердили: люди, люди. А где они, эти люди? Я же говорю вам, хватает трех-четырех понятий, и все становится ясно, а ценой, какую приходится заплатить за это, оказывается… Шустер:…скука. Хальберштадт: я вас причисляю к истинным адептам. Вы тот самый Шустер, я прав? С другим, с Шоссау, я познакомился вчера. Тоже тот еще тип. Знаете что? Вам надо учиться. Да-да, в самом деле, поверьте мне, я мог бы вас кое-чему научить, хотя это, конечно, совершенно безразлично, научитесь вы чему-нибудь или нет, потому что все равно это ни к чему не приведет. Хальберштадт не стал дальше усердствовать в своих нравоучениях, которые, судя по всему, были абсолютно лишены всякого смысла, а закурил еще одну сигарету и, повернувшись спиной к Шустеру, подошел к окну. Он стоял там, в углу комнаты, и снова с большим интересом смотрел в окно. Когда он был ребенком, у него все время возникали желания, были свои мечты, правда-правда, это так. Хм. Действительно, он много чего хотел. Например, непременно поехать в Америку. Америка казалась ему лучше всех. Гигантские фирмы! Мощная система производства! Или еще ему обязательно хотелось иметь планер с крыльями из парусины. Крылья как паруса! в семнадцать он страстно возжелал одну девушку, по имени Ютта, ее звали Ютта Морат. Эта Морат была для него как из другого мира, неземное существо. Когда он ее видел, он лишался разума, не мог хладнокровно думать. Морально он совершенно дошел до ручки. Хальберштадт засмеялся. О-о, их отношения были предельно чисты, абсолютная невинность. Ну, может, он все-таки заглядывался на ее попочку, зыркал глазами по груди? Может, так все было? Полногрудой она не была, но у нее была хорошая грудь, не очень пышная, но весьма привлекательная. Но тогда он ее так и не поимел, нет, ха-ха! И в Америку не съездил. Тогда – нет, сегодня – да. Но сегодня это уже не имеет для него никакого значения. Сегодня ему все кажется скучным, он всем пресыщен. С этой Морат он недавно развелся. Тоже одна из них, из числа этих безликих миллионных полчищ, та еще штучка, в шестьдесят три года полностью на социальном обеспечении. Шестьдесят три года. Как из другого мира. Да, другой мир, сказал Хальберштадт, по-прежнему стоя в углу. Он говорил все более путано. И у каждой своя теория, какую роль играет он, Хальберштадт. Ха-ха, а какую роль он играет? Он может сыграть любую. Он способен на все и превыше всего этого. Может, это была внучка, может, все это ее рук дело, ей девятнадцать, так ли она невиновна или нет, он не знает, ха-ха. Может, она и невиновна, а может, нет. Ее дружок полный идиот, сказал Хальберштадт, и это говорит в пользу ее невиновности. Ага, вот и полиция явилась. Невиновность, эту версию лучше сразу отбросить, в ней есть что-то от непомерной самоуверенности. И он опять засмеялся. Ее зовут Катя, но это совершенно безразлично, это навевает на него скуку. Шустер: а вам не бросилось в глаза, где вы все это время стоите? Хальберштадт безучастно посмотрел в пол и переступил с ноги на ногу. Шустер сразу после этого покинул квартиру, сказав себе, что никогда еще не видел ничего более отвратительного. Внизу в дверях он повстречался с вахмистром N. Шустер послал его в квартиру на втором этаже, а сам отправился в «Липу»… До самого этого момента Визнер провел утро следующим образом: в наилучшем расположении духа покинул он примерно в четверть одиннадцатого двор своего друга и направился домой. Отец его был в палисаднике и только что привел в действие газонокосилку. Визнер тотчас же вызвался скосить газон за домом. Позднее господин Визнер сказал, что поведение его сына очень удивило его, потому что в нормальном состоянии его сыну никогда бы не пришла в голову идея добровольно выполнить хоть какую-то работу по дому. Его удивило также, что сын был в приподнятом настроении, потому что обычно, когда он приходит домой, он чаще всего делает такое лицо, будто ему все здесь неприятно и он опасается, что его будут о чем-то расспрашивать. Но на сей раз он был необычайно разговорчив. Господин Визнер спросил его, во сколько он придет сегодня на пикник, и сказал ему еще, что вчера звонила Ута, может, ему следует позвонить ей. Визнер прореагировал на все очень миролюбиво и принялся косить траву.








