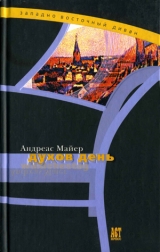
Текст книги "Духов день"
Автор книги: Андреас Майер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Самое позднее, с этого момента, когда смех мог быть услышан и другими, Катя Мор приковала к себе внимание Визнера. Он сидел за своим столом и все больше погружался в молчание, при этом бросая все время тайком взгляды на юную особу из Хеппенхайма. Шоссау вскоре ушел. Ближе к вечеру он прошел по Нижнему Церковному переулку и посмотрел наверх, на окна дома № 15, где уже горел свет. Внизу в дверях стоял священник Беккер и курил вместе с депутатом городского совета Рудольфом. О-о, Шоссау, приветствовал его священник. Я, конечно, должен был сказать госпоже Адомайт… я совершенно об этом забыл. Нет, как я мог такое забыть! Но скажите, пожалуйста, а где сейчас ваш друг господин Шустер? Я, собственно, ожидал, что он появится здесь. Мне действительно крайне неприятно, что я не подумал о том, чтобы напомнить о вас и вашем друге госпоже Адомайт! Нет-нет, все в порядке, сказал Шоссау, он вышел просто так прогуляться и забрел сюда совершенно случайно. Да, это так, в такой день, сказал Беккер, человеку многое приходит в голову и появляется потребность пойти прогуляться. Такая сегодня выпала на нашу долю своеобразная Троица. Сначала похороны. А потом эта необычная жара. Тут депутат городского совета Рудольф снова обратился к священнику: у него, между прочим, состоялся сегодня спор с господином ландратом, да, он знает, это грех, во-первых, воскресенье, и не простое, а Троица, но речь зашла об угодьях вокруг Оссенхайма. Спор шел из-за плановой комиссии и ее проекта по прокладке железнодорожных путей городской электрички. Но, к сожалению, ничем положительным этот спор не закончился. Беккер: ах! Рудольф: флорштадтская низина не будет охвачена проектом. На этом направлении всеми прогнозируется коллапс. Беккер: да, движение здесь небольшое. Рудольф: вот-вот, но дискуссия с господином ландратом, д-ром Биндингом, помешала ему, Рудольфу, принять участие в траурной процессии и присутствовать на похоронах Адомайта, ведь речь в данном случае, безусловно, шла об уважаемом члене приходской общины. О-о, добрый день, господин Брайтингер, сказал священник Беккер, пока Рудольф громко откашливался. Добрый вечер, сказал Брайтингер и приподнял шляпу. Добрый день, господин Рудольф! И Брайтингер уже исчез в дверях парадного входа. Кто это, спросил Рудольф. Так это господин Брайтингер, ответил Беккер, старый учитель из Верхнего Церковного переулка. Рудольф: Брайтингер? Никогда не слышал. Беккер: речь идет о читателе Брайтингере. Он постоянно пишет письма в рубрику «Читатель» в газете «Вестник Веттерау». Рудольф: ах, так! Читатель Брайтингер! Значит, это тот самый читатель Брайтингер, понятно. Ни разу его не видел. Хотя на самом деле по поводу любого вопроса, стоящего на повестке дня, всегда можно обнаружить его очередное письмо в «Вестнике Веттерау». Это не он ли поднял в последнее Рождество глобальный вопрос о полумесяцах в детских садах, он имеет в виду, не этот ли Брайтингер и развязал всю эту аферу? Охохохоньки, поистине странный человек, сказал Рудольф и погасил сигарету. Однако ислам – очень важная тема, она вносит беспокойство в народ. Сама по себе, конечно, безрассудная идея, по тем не менее очень понятная, вы не находите, господин священник? Беккер: что он имеет в виду под безрассудной идеей, он это не совсем понял. Рудольф: ну, что дети этого детского садика мастерили рождественские украшения на окна своих домов, в том числе и полумесяцы тоже, и тут некоторые матери из Оссенхайма вдруг заметили, что в этот детский сад ходят и турецкие дети тоже, и вот, пожалуйста, мы имеем дело с исламизацией пусть пока еще не германского общества на федеральном уровне в целом, но в этом детском саду в Оссенхайме бесспорно, что и вызвало громкий общественный протест, начатый и подогретый истерическими письмами таких читателей, как Брайтингер. Недавно он высказался на тему увеличения поборов для вывоза мусора. Вы читали? в принципе это оскорбление для всей краевой власти. Как вы знаете, я питаю определенные честолюбивые намерения относительно края, в ближайший февраль я выставлю свою кандидатуру на муниципальных выборах в органы самоуправления. Да, от города в краевую власть. В конце концов, в каждом деле необходимы перспективы, и что касается благоустройства края – тоже. Беккер кивнул. Рудольф: перспективное общественное благоустройство необходимо всем, нельзя же думать только о благе собственной жизни. Как только наступают застой и бездействие в обществе, так жди регресса, то есть отставания во всем. А вы, собственно, кто будете, спросил он, обращаясь к Шоссау. А это, сказал господин Беккер, один очень хороший знакомый покойного Адомайта, господин Шоссау у нас уважаемый краевед. Ах, вот как, сказал Рудольф, очень интересно. А, собственно, в каком смысле – краевед? Шоссау: он вообще-то историк, работает для исторического журнала Веттерау. Рудольф: ах да, действительно, это что-то из области истории. Но историю кто-то должен делать каждый день. А потом придут другие и запишут все на бумаге. А что вы конкретно делаете, когда работаете для исторического журнала? Сидите и копаетесь в архивах, как я предполагаю? Или производите археологические раскопки? Нет, сказал Шоссау (он обдумывал, стоит ли продолжать этот разговор), он не ведет раскопок. В данный момент он ведет изыскание материалов для написания научной статьи в серии «Войска Наполеона в Веттерау»,эта серия регулярно печатается в журнале, освещающем прошлые исторические события в Веттерау. Рудольф: ага, и кто это оплачивает? Он имеет в виду, что такая работа, пусть его поймут правильно, может интересовать только очень незначительное меньшинство налогоплательщиков, хотя это, конечно, само по себе в высшей степени интересно, наполеоновские войска в Веттерау, да, а они, значит, дошли даже идо Веттерау. Вот как, и что они здесь делали, в Веттерау, он имеет в виду наполеоновские войска? Шоссау: в настоящий момент он работает над битвой за Иоханнисберг. Рудольф, вдруг рассмеявшись: что, за Иоханнисберг шла настоящая битва, ха-ха-ха! в это он просто отказывается верить. Да это же всего лишь небольшой холм! Шоссау: в стратегическом отношении Иоханнисберг не самая маловажная высота. Рудольф: и эту самую серию действительно финансируют из средств края? Шоссау: только частично, а в остальном журнал выходит на средства федерального министерства по науке и научным исследованиям. Рудольф: очень интересно. Видите, насколько все это преувеличено, когда кто-то берется утверждать, будто мы не живем в условиях всеобщего благополучия. Итак, мой дорогой, э-э, мой дорогой… Беккер: Шоссау. Рудольф: да, мой дорогой Шоссау, видите ли, пока вы работаете над вашим холмом, в вместе с ним и над Наполеоном, никак нельзя утверждать, что дела у нас идут плохо. Ха-ха, через двести лет кто-нибудь напишет в этом историческом журнале о политических битвах по поводу сбора средств для вывоза мусора и строительства дороги, делающей крюк вокруг угодий Оссенхайма. Конечно, если и тогда на это хватит денег. Потому что сегодня дело обстоит так: ничто так не дешевеет, как деньги. Посмотрите только, сколько получает сегодня строитель и во что это обходится людям. Вот, например, граф Матэшка Грайффенклау, он восстанавливал в своем родовом замке водяную башню силами небольшого числа рабочих и в итоге оказался разоренным, тогда он поднялся однажды ночью на виноградник и пустил себе пулю в лоб. Беккер: господин Адомайт всегда жил очень экономно. Да, сказал Рудольф, внезапно утративший свой ораторский пафос и в задумчивости посмотревший вверх по фасаду дома, видно, что этот человек жил очень экономно… Если бы все так делали, в Веттерау уже в ближайшем будущем жизнь была бы не хуже, чем на юге Италии. Ну, как бы там ни было, сказал Беккер, потирая руки, а вас, Шоссау, очевидно, просто забыли пригласить, хотя, по правде говоря, никто больше вас не имеет такого прямого отношения к этой местности и всему происходящему здесь, поэтому я сказал бы так: пойдемте вместе с нами, я представлю вас сестре Адомайта. Священник уже собрался войти в дом. И тут Рудольф спросил: а кто вообще был этот Адомайт? Священник остановился. Адомайт был пенсионером. Ах, да-да, сказал Рудольф, конечно, ему уже было за семьдесят, в таком возрасте обычно все становятся пенсионерами. А откуда у него было право на пенсионную ренту? Ведь сначала надо кое-что платить в пенсионную кассу, чтобы потом получать социальные выплаты. Из каких средств он это делал? Беккер, ища взглядом помощи у Шоссау: да, если честно сказать… У него не было государственной пенсии. Ему ведь принадлежал этот дом, он сдавал раньше первый этаж. Рудольф: но на это нельзя прожить. Беккер: ну, видите ли, в случае Адомайта речь идет об очень своеобразном человеке. Он жил строго, можно сказать, почти аскетически и чрезвычайно экономно. Впрочем, он никогда не нуждался. Рудольф: уж не хотите ли вы сказать, что этот Адомайт всю свою жизнь вообще ничего не делал? Беккер: нет, почему же, напротив. Временами он работал в библиотеке во Франкфурте. Он также немного пописывал и имел от этого кое-какой доход. Рудольф: вот как? А что он писал? Местные исторические романы? Нет, сказал Беккер, он работал над несколькими книгами по, э-э, орнитологии. Он, между прочим, несколько лет преподавал во Франкфурте студентам. Рудольф: орнитологию! Беккер: нет, скорее гуманитарные науки. И лингвистические. Он знал латынь. Причем необычайно хорошо. Рудольф: почему он тогда не стал учителем? Это же самое лучшее, так мало часов на работе, и вторая половина дня всегда свободная, а кроме того, три месяца каникулы, фантастическое обеспечение в старости. Да, сказал Беккер, все это так, но (бросая взгляд на Шоссау) как-то трудно было бы представить себе Адомайта в этой роли. Для него всегда была важна независимость, он имеет в виду, полная независимость от всего. Рудольф: ах, какой вздор! Независимость стоит денег. В итоге за все расплачивается государственная социальная система. Взгляните только на этот дом! Конечно, он не то чтобы вот сейчас совсем и развалится… но дальше-то что с ним будет? Дом перейдет по наследству, и наследнику придется, не мешкая, вкладывать в него деньги, ибо вряд ли он захочет владеть им в таком состоянии. Следовательно, он будет платить за то, чего не сделал в свое время экономный господин Адомайт. А не может и кого быть, что этот Адомайт просто был обыкновенным бездельником?
Беккер, чье тело приняло согбенную форму, перешел вдруг на песнопение: взгляните на птиц небесных, они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Суждение любого смертного само по себе ничтожно. Правда заключена в Боге, и как Он рассудит, нам на земле не дано понять. Ну да, это так, сказал Рудольф и первым ступил на лестницу. Беккер сделал Шоссау жест, означавший, что тот должен простить ему, Беккеру, депутата городского совета. Божьи овцы, шепнул он, не все одинаковы, но все они – овцы. И оба тоже стали подниматься по лестнице. Они уже почти одолели ее, и тут Беккер сказал: он неплохо ладил с Адомайтом, ему мешало только, что тот всегда все знал лучше других. Конечно, Адомайт каким-то странным образом действительно всегда оказывался прав, но он судил обо всем слишком безапелляционно и никогда не раскрывал людям сути веры, того, что человек вечно пребывает в пути и никогда не достигает вершины, ибо неслыханной дерзостью было бы утверждать, что человек постиг истинную сущность вещей. Бог создал нас в любви Своей, и, как Его творения, мы устремляемся к Нему, и это все. Он, Беккер, впрочем, всегда охотно дискутировал с Адомайтом, и когда их разговор оканчивался, каждый раз становилось ясно, что все равно что-то осталось недосказанным, какая-то мысль все еще блуждает в поисках правды и думы о Боге живы в душе этого человека. Позвольте, госпожа Адомайт, представить вам господина Шоссау. Женщина, стоявшая в прихожей с бокалом шампанского в руке и беседовавшая с Брайтингером, посмотрела на него, вновь пришедшего, тепло и приветливо. О, господин Шоссау, я так много слышала о вас, сказала она, протягивая ему руку. К сожалению, ситуация утром не позволила нам быть представленными друг другу. Вы ведь были на похоронах? Шоссау: да. Ах, сказала она, это было так прекрасно, все именно так, как она того желала. Священник Беккер нашел чудесные слова. Это правильно, что мы прощаем умершему, пусть и в смерти, все те ложные помыслы и мирские заблуждения, которые обычно связывались с его образом в душах живущих. У нее был хороший брат, из них двоих он всегда был более тонким и чувствительным. Часто она думала, ее брат, наверное, страдает оттого, что ему приходится жить в этом мире среди совсем других людей. Склонив голову: он не всегда хорошо говорил о ней, она знает это. Шоссау: он ни разу ни словом не обмолвился о вас. Да, сказала Жанет Адомайт, жизнь всегда идет своим путем. Сначала она гладкая и ровная, как хорошо постриженный газон, а потом становится похожей на одичавший сад. Ее брат, между прочим, любил природу. Брайтингер, до сих пор все еще стоявший рядом, сделал легкий поклон и направился в горницу. Она к Шоссау: он живописал природу. Ему всего-то было десять, а он никогда не выходил из дому без блокнотика для рисования, он лежал у него обычно в кармане, и, когда ей, Женни, было четыре, он взял ее с собой, и они сидели вдвоем на берегу Хорлоффа, она это хорошо помнит. Возможно, если бы не ее брат, она никогда не научилась бы так глубокочувствовать природу, да, так глубоко, это самое правильное слово. Маргаритки у него получались как живые, словно на картинке, и вероника, и примулы, и он показывал мне, четырехлетней, все части растения и объяснял их назначение. И про бабочек он ей тоже рассказывал, она как сейчас помнит, что к бабочкам нельзя приближаться с солнечной стороны, потому что, как только на бабочку упадет тень, она гут же вспорхнет и улетит. Она просто была еще маленькой, и у нее от тех времен на берегу Хорлоффа осталось лишь одно яркое воспоминание в виде красок, цветов и запахов, слившихся в памяти в одно целое. Тогда речь шла только о тропинке вдоль берега реки, а теперь там уже построено целое лётное поле, но, наверное, больно ранило ее брата. Господин Рудольф, курите, пожалуйста, здесь, выходить на улицу в всем не обязательно, дамы и месье, уважаемые гости, господа, сказала Жанет Адомайт, обращаясь к присутствующим в кухне и горнице, она хочет сказать, что, само собой разумеется, курить можно и в доме, и есть и пить тоже можно сколько захочется, сегодня здесь на всех хватит. Сделав это замечание, Адомайт оставила Шоссау стоять одного точно так же, как она это сделала пять минут назад с читателем Брайтингером, и, по-прежнему держа в руке бокал шампанского, направилась к другой группе. Шоссау тоже взял себе с подноса, стоявшего на маленьком столике возле вешалки, шампанского, налитого в один из тех старинных бокалов, что хранились у Адомайта в серванте, и медленно прошел с ним в кухню. Там семейство Мор вело обстоятельный разговор с четой Бертольд, родителями подружки Антона Визнера. У нас тоже есть дочь в таком же возрасте, сказала фрау Бертольд Кате Мор. Ах, вот как, сказала Катя Мор. Да, ее зону Ута. Она работает там-то и там-то. Вам надо как-нибудь познакомиться! Господин Бертольд: а зачем им знакомиться, Херта, прошу тебя! Очевидно, фрау Бертольд уже была к этому времени немного подшофе. Оставь меня, сказала она возмущенно. Катя Мор улыбнулась с некоторым неодобрением. Тут же поблизости стоял Мунк, он разговаривал со священником. Его, Мунка, жена разморозила к сегодняшнему обеду ножку косули, ну разве нельзя было сдвинуть похороны на более позднее время, ведь завтра нога затвердеет так, что ее не угрызешь. А нога от самого охотника Коппа. Копп подстрелил косулю в оссенхаймском лесу прошлой осенью. А вообще-то разрешено ли хоронить на Троицу? Ну, и почему бы им обеим не познакомиться, спросила фрау Бертольд. Господин Бертольд: Уты здесь нет, как же они могут познакомиться, а кроме того, и повода для этого никакого нет. Фрау Бертольд: но молодые всегда хотят быть с молодыми, это так принято. Ведь верно, спросила фрау Бертольд, так уж устроено, молодежи хочется побыть вместе, и причин у них на это больше чем достаточно, ведь старые люди тоже стремятся оказаться вместе. Катя Мор вежливо улыбнулась. Ну, скажите что-нибудь, сказала фрау Бертольд. Молодежь сегодня много не говорит, это никому не нравится, они обычно стоят молчком. Вот если бы мы раньше тоже все время стояли молчком, то никогда бы и не познакомились. При знакомстве как раз самое главное не играть в молчанку. Да я вообще ни с кем не хочу знакомиться, что это пришло вам в голову, сказала Катя Мор. Ты только послушай, сказала фрау Бертольд своему мужу, она не хочет ни с кем знакомиться. Вот как сегодня: они хотят все, эти девушки, но вдруг ни с того ни с сего знакомиться ни с кем не хотят. Катя Мор: она уже, собственно, не девушка, а в остальном вся эта говорильня сплошная чушь и действует ей на нервы. Я нахожу, сказала госпожа Мор своей дочери, ты могла бы быть чуть повежливей. Нет, сказал господин Бертольд, никаких проблем, это вы извините нас… Так, значит, вы родом из Бенсхайма. Господин Мор: нет, из Хеппенхайма. Господин Бертольд: ах да, господин Мор: вы бывали в Хеппенхайме? Господин Бертольд: к сожалению, нет. Он, правда, частенько проезжал мимо, но, знаете, все как-то недосуг, он его понимает? Господин Мор: в Хеппенхайме сохранила, очень красивая старинная часть города, работы по санированию встали, конечно, в копеечку, особенно ратуша с ее фахверковой конструкцией, [12]12
Фахверковая конструкция – каркасная система вертикальных и горизонтальных деревянных балок, ригелей и раскосов, придающих средневековому архитектурному строению декоративный вид.
[Закрыть]сама площадь тоже очень красивая, туристы с удовольствием посещают кафе-мороженое рядом с ратушей, особенно японцы, этих вообще всегда тянет туда, где они видят фахверковую архитектуру. Японцам она, очевидно, в диковинку, у них самих нет ни фахверковых домов, ни виноградников, поэтому они и едут в Германию, у нас ведь есть и то, и другое. Госпожа Мор: но, Харальд, вот сейчас ты действительно сморозил полную чушь. Господин Мор: почему же? Ведь кругом, куда ни глянь, одни японцы, во всех старинных городах с их историческим центром. Господин Бертольд: а там, где санацию еще не провели, одни турки. Господин Мор: да, и это тоже так. В Бенсхайме есть один квартал возле вокзала, так они уже называют его Анатолия. Но это совершенно безопасно. Турки очень милые люди. Правда, жить там он бы не хотел. Слишком большая скученность. Господин Бертольд: ему кажется, что все эти кварталы имеют что-то общее с гетто, но, с другой стороны, турки, конечно, обогащают. Катя Мор: эй, это вы, собственно, о чем? Мор: он говорит о том, что страна богатеет, когда на нее работают иностранные рабочие. И он имеет в виду не только увеличение массы продовольственных продуктов, но и страну вообще. А кроме того, они очень вежливые люди. И крайне предупредительные. Им вообще не свойственна неприязнь. Меня нигде не обслуживали так вежливо, как в овощной лавке у турок. Катя Мор: вежливость – понятие, не связанное с обогащением, вежливость – это нормальное состояние общества. Фрау Бертольд: да, нынешние молодые люди сплошь и рядом понятия не имеют о том, что такое вежливость. Недавно трое молодых турок сказали ей на улице: ты чего хочешь, немецкая женщина!Только представьте себе! И вдобавок таким тоном, какой всегда появляется у них, как только они начинают говорить по-немецки, это больше похоже на собачий лай. Ты чего хочешь, немецкая женщина!Это было во Франкфурте, я ходила за покупками в квартал Заксенхаузен. Она тут же ушла оттуда, как только они такое сказали ей. Немецкая женщина! И это в Германии! А кем она еще должна быть, как не немецкой женщиной! Что тебя так бесит, если я хочу еще выпить шампанского? Боже праведный, неужто нельзя сделать того, чего мне хочется. Господин Бертольд: но это уже четвертый бокал. Она: ну и что! Она будет пить столько, сколько ей хочется, и уж если на то пошло, она делает это лишь из-за того, что он ей это запрещает. Он: хм, куда как вежливо. А что выделаете на фирме «Бенсхаймский источник», господин Мор? Ах, значит, вы руководите отделом по части ведения бухгалтерских книг, да, это очень интересно. Катя Мор наконец-то отделилась от этой группы и повернулась к одиноко стоявшему Шоссау. Женщины обычно находят все прекрасным, а мужчины – интересным, сказала она. Я это тоже замечал, ответил Шоссау. Это своего рода отговорка, чтобы избавить себя от конкретных оценок. Да, вы правы, сказала Катя Мор и прошла мимо него в горницу. Он никак не может представить себе, сказал Мунк, как этот Адомайт мог здесь жить. Стоит только оставить старых людей одних, как вся жизнь у них замирает. В итоге и тридцать, и сорок лет пролетают как один миг, он это знает по своей тетке, она жила в Вёрлитце, он как сейчас помнит прозрачную пленку на полке в ее серванте, она пролежала там свыше тридцати лет, вся пожелтела, затвердела, стала со временем липкой, одним словом, чем-то отвратительным, и на этой самой полке у нее стояли все бокалы и стаканы. Наступает такой момент, когда старые люди перестают это замечать. Здесь, правда, все чисто и в полном порядке. Он подошел к шкафчику для запасов провианта. Здесь даже пахнет свежей политурой. Беккер: Адомайт следил за своей мебелью. Он сам протирал, это ведь настоящее дерево. Мунк: а зачем? Почему он просто не выбросил все это старье? Беккер: Адомайт любил старинные предметы. Они были важны для него. Он ухаживал за ними. Мунк, потеряв интерес: пусть так. А где здесь можно подкрепиться? Вон там, в горнице, сказал священник, на столе выставлено угощение. Ну, тогда он пойдет и воздаст ему должное, сказал Мунк, и, налив себе еще пива, он покинул кухню. Видите, Шоссау, сказал священник, так всегда и бывает. Адомайт часто говорил: вы, христиане, на самом деле никакие не христиане. Но он имел при этом в виду некое абсолютно абстрактное понятие истинного христианина, а мы все – продукт миссионерской деятельности. Когда-то в далекие времена сюда, в северные края, пришли миссионеры и обратили нас, древних германцев, в христиан, и каждый из тогдашних германцев, кто с неудовольствием, а кто с восторгом, более или менее принял эту новую веру, для одних она значила больше, для других меньше, а кого-то и вообще оставила равнодушным, без всякой внутренней отдачи, как тех людей, которым все равно, что происходит вокруг, приняли, ну и ладно. А на самом деле такой христианин, как господин Мунк, думает только о своей косульей ноге и закуске в горнице и действительно напоминает мне этим того самого древнего германца, немного недовольного обстоятельствами дня, но все же подчинившегося христианским заповедям. И не нашего это ума дело – упрекать его в том. Может, он, в свою очередь, тоже думает, взгляните-ка на этого священника Беккера, вот кто хорошо устроился в жизни, знает массу людей, нигде нет отказа в хорошем прокорме, читает себе время от времени проповедь, служит мессу, и за это церковь заботится о нем до самого его мирного конца, о его жизненном содержании в том числе, ему даже о пенсии не надо беспокоиться или о страховании жизни и заполнении налоговой декларации, а ведь все это результат того весомого словечка, которое сказал себе этот Беккер, обдумывая когда-то свое решение: пойти в церковь, чтобы стать священником, или нет. Вот как относится обращенная в христианство германская паства к своему духовному пастырю, и, возможно, даже думает про него: он ведь тоже один из тех просвещенных миссионерами германцев. Н-да! Мы не вправе создавать произвольно в душе своей образ другого человека. Шоссау: но здесь как раз каждый только этим и занимается, создает по своему усмотрению образ другого, и прежде всего Адомайта, и то, что произнесенные сегодня им, Беккером, слова не были наполовину уже заранее сложившимся образом,он тоже утверждать не может. Беккер: он обращался к своей пастве, этого Шоссау не следует забывать. Шоссау: нет, он обращался не к пастве, а конкретно к траурной процессии. Он навязал им свой предвзятый образ Адомайта и тем самым предостерег их: смотрите, не станьте таким, каким был он, вот в чем зерно его проповеди, и это понял каждый. Боже праведный, сказал Беккер, да вы действительно такой же, каким был ваш старый друг. Ведь людям, и в этом задача церкви, необходимо ежеминутно предлагать идеалы, и в такой ситуации, как сегодня, тоже. Даже если всего лишь сказать им, что они должны сплачивать общину, уважать все живое, помнить о своих ближних, оказывать обоюдную помощь, ценить и понимать друг друга. Шоссау: он хочет этим сказать, что ничего такого Адомайт не делал? Беккер: ну, если он, Шоссау, все видит в таком свете… Шоссау: нет, ничего подобного в таком свете он действительно не видит. Беккер: в вас двоих прочно сидит ярко выраженная склонность Адомайта к спорам (он имеет в виду и Шустера), вот уж поистине достойные преемники, как и их общий друг Воллиц, но только тот давно уже уехал отсюда.
И Беккер похлопал Шоссау по плечу. Не горячитесь, вы же знаете, по сути, мы занимаем одну и ту же позицию. Ну так, сказал он, а теперь я должен еще уделить внимание и некоторым другим овцам из моего стада. Госпожа Мор: куда делась Катя? Господин Мор: куда она могла деться? Возможно, пошла в другую комнату к тете Ленхен и твоей матери. Ах, сказала госпожа Мор, обращаясь к Бертольдам, мы еще не представили вас моей матушке? Речь, собственно, идет о сестре Адомайта. Мы непременно должны сделать это прямо сейчас. И пока они, подталкивая впереди себя чету Бертольдов, выпроваживали их из кухни, госпожа Мор зашептала своему супругу в ухо: с какой стати они, собственно, были приглашены, эти Бергольды? Ведь они даже не знали Адомайта, а Харальд Мор шепнул ей в ответ: Бертольд – влиятельное лицо в приходе, и, между прочим, ее, Эрики, мать знала бабушку Бертольда, та держала раньше лавку колониальных товаров или что-то в этом роде. Она: значит, ради колониальной лавки, бог мой. Да так любой с улицы может здесь появиться! Шоссау подошел к окну. Господь Бог, вразуми нас и вложи в нас понимание, что мы смертны, и дай нам разум на всю оставшуюся жизнь, сказал священник в своей утренней проповеди. Но каждое слово, как известно, можно вывернуть наизнанку. Мои мысли ни на кого не налагают строгости обета. Но говорят все и говорят без конца, весь мир – одна сплошная говорильня, и каждая речь имеет свою оборотную сторону, однако люди давно уже привыкли к этому. Да есть да, нет есть нет. Но и их в любой момент можно поменять местами. Словно все эти слова лишились своей субстанции. А что думаете вы по этому поводу, спросила Катя Мор, неожиданно вновь оказавшаяся рядом с ним. Я думаю, что всему, что здесь происходит и о чем говорят, недостает субстанции. Впрочем, я сам не знаю, что я имею в виду под этим понятием субстанция.Возможно, это всего лишь, как всякое слово, только пустой звук. Она: однако кому-то другому здесь, в доме, вы этого не сказали. Нет, сказал Шоссау, тут вы абсолютно правы. Впрочем, это совершенно нелепая, случайно забредшая мысль. Он перманентно пытается не вставать на этот путь. А в остальном, если вдуматься, его здесь все забавляет, и даже очень. Некоторым образом вызывает в нем, правда, отвращение, но одновременно и забавляет. А больше чем кого-либо все происходящее здесь позабавило бы самого Себастьяна Адомайта. А-а, тогда вы один из тех трех друзей, которые были у старого Адомайта. Да, а откуда ей это известно? Она: в той комнате об этом тоже перманентно говорят. Якобы Адомайт окружил себя молодыми людьми, подобием апостолов. Вот как, значит, нам ничего об этом не известно? Естественно, о вас говорят. Шоссау: он действительно понятия об этом не имеет. Она: ну, это легко объясняется тем, что люди, конечно, судачат за вашей спиной. Скажите, пожалуйста, это не вы ли сидели сегодня примерно в полдень на праздничной площади? Даже за одним столом с нами? Шоссау кивнул. И ее родители не сказали ничего такого про Адомайта и его знакомых? Он: нет. Катя: да, его выставляют, этого старого Адомайта, ворчливым стариком, который ни с кем не мог ужиться, но при этом активно распространял и насаждал вокруг себя свои вредные взгляды, отравлял ими молодежь, словно ядом. И еще умел заставить вас уважать его, был чем-то вроде тех древних философов, как, например, Пифагор со своей школой посвященных учеников, autos epha [13]13
Сам сказал (лат.);согласно преданию, гак говорили пифагорейцы о своим учителе, подчеркивая непререкаемость его авторитета.
[Закрыть] etcetera. И все это преподносится если не в категоричной форме, то очень язвительно и злобно. Адомайт портил молодежь, заставлял льстить себе, а сам при этом оставался никчемным человеком. Шоссау: ему уже, между прочим, тридцать лет. Она: ну да, люди, конечно, говорят много всякой чепухи. Да пусть говорят. Им все равно не запретишь. Пойдемте, я представлю вас тете Ленхен, она одна из родственниц моей бабушки и по-настоящему остроумный человек.
И после этих слов они вошли в горницу. В ней было полно народу, стояло и сидело не меньше двадцати человек, в воздухе клубился едкий табачный дым, кругом стояли бутылки с пивом. Шoccay никогда бы не поверил, что здесь может уместиться столько народу. В вольтеровском кресле возле кушетки сидел читатель Брайтингер и листал субботний номер «Вестника Веттерау», возможно, в поисках собственного читательского письма. Это не мешало ему вести беседу с соседом Адомайта по переулку господином Гайбелем. На стуле перед комнатой, в которой родился Адомайт, сидела Штробель, не произнося ни слова, погруженная в себя и свое великое отчаяние, она словно отсутствовала среди людей, глядя на них затуманенным взором. Тетя Ленхен восседала подле стола, на одном из двух стульев с подлокотниками. Сзади нее стояла госпожа Адомайт, а вокруг них сгруппировались семьи Мор и Бертольд. Рудольф доминировал в мужской компании, у всех в руках были кружки с пивом, они стояли посреди горницы под самой лампой и беседовали о политике. Она вообще не может понять, о чем тут непрерывно говорят, сказала тетя Ленхен. Ей все время стараются представить этого Адомайта в неприглядном свете и выставить его очень несимпатичным. Тогда как все вокруг говорит совершенно об обратном. И все только из-за того, что этот человек не захотел участвовать в общем дерьме, в котором каждый из нас сидит сегодня по уши. Необыкновенно чистый человек, для общества, состоящего из одних рыночных мужчин, просто сказочная редкость. Посмотрите только на эту очаровательную кружевную салфеточку, вон там на стене. Да-да, вон там, ах, какая прелесть! Госпожа Мор бросила на салфеточку завидущий взгляд. Да, сказала Жанет Адомайт, наполовину работая на публику, эта салфеточка была привезена ее матери из Венеции ее свояком из Фульды. Свояк буквально боготворил ее мать. Раньше, между прочим, в доме было два альбома с фотографиями, минуточку, они всегда хранились в этом шкафчике за двустворчатой дверкой, что такое, она вообще не открывается. Потому что это раздвижная дверца, сказал Шоссау. О, да-да, спасибо. Ха! Вот они, эти альбомы. Красный и синий. Как и раньше. Она открыла их. Испуганно: подумайте только, он не вклеил сюда ни одной новой фотографии. Ну надо же! Госпожа Адомайт была заметно обескуражена, можно сказать, находилась на грани помешательства. Самые последние фотографии те, которые сделал тогдашний викарий Побиш на похоронах ее отца, вот, здесь и дата есть, третьего августа тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Она сама тогда пометила снимок этой датой. Здесь, между прочим, можно видеть и бывшую жену Адомайта Аннетту. Она хорошо ладила с ней, когда жила здесь, в доме. Да, многое раньше в этом доме было прекрасно. Иногда ей очень даже хочется, чтобы вернулись прежние времена и чтобы вся дружная семья опять была вместе. Что за чушь, сказала тетя Ленхен. Все они теперь хотят, чтобы вернулись прежние времена, а сами черт-те что делают с сегодняшними. С тех пор как наступили новые времена, все они вдруг захотели вернуться назад. А кто, спрашивается, сотворил эти новые времена, как не те самые люди, которые так хотят вернуться назад. Ты отправляешься в Англию и выходишь замуж за богатого промышленника, тот чуть ли не половину здешнего городка превращает в территорию своей фирмы, а ты теперь толкуешь о прежних временах. Жанет Адомайт: она вынуждена была тогда уехать. Джордж ведь взял ее с ребенком, кто бы так поступил на его месте? Тетя Ленхен: ах, что за выдумки! Все от начала до конца выдумано. И было так только обставлено и преподнесено всем. На долгие годы вперед все тонко продумано! Подай мне, пожалуйста, еще кусок холодного мяса и бокал пива. Нет, почему же, ей хочется именно пива. О-о, да-да, сейчас самое время поговорить на людях о ее пищеварении, какое бесстыдство. Нет у нее проблем с пищеварением! Жанет Адомайт: хорошо-хорошо, ни у кого из присутствующих здесь проблем с пищеварением нет. Передайте, пожалуйста, тете Ленхен еще кусок холодного жареного мяса и бокал пива, тогда по крайней мере рот ее будет занят и она наконец-то замолчит. Тетя Ленхен: тебе это, конечно, очень на руку. Но я замолчу, только когда умру. А до тех пор буду сопротивляться до последнего. Да и для кого тут это холодное жаркое? И курочка в гриле и все такое прочее? Не лучше ли было нарезать побольше кусков хлеба и намазать их смальцем для всей этой честной траурной компании, ведь ни у кого из них траура в душе и в помине не было. Госпожа Адомайт: ну как ты такое можешь говорить. Она: она бы непременно выставила им куски хлеба со смальцем или с соленым сливочным маслом и бутылку шнапса, как здесь принято, а не уставляла бы для них стол холодными закусками за восемьсот марок, заказанными на иностранном постоялом дворе. Мор: иностранный постоялый двор, что за странное заведение! Она: так там же иностранцы. Или уже нельзя употреблять и это слово тоже? Понятно, что слово еврейнельзя произносить вслух. Семейство Мор и Жанет Адомайт смущенно оглянулись по сторонам и тотчас же приложили максимум усилий заставить тетю Ленхен замолчать. Но та продолжала упорствовать: так можно произносить вслух слово иностранцыили нет? Она хочет знать немедленно. Читатель Брайтингер смотрел на нее из своего вольтеровского кресла, опустив газету на колени. Жанет Адомайт: нет, так говорить не следует. Правильнее сказать – иностранные граждане, а не просто иностранцы. Тетя Ленхен: она не позволит себя дурачить. Там все были итальянцы, она это отлично видела, а на кухне у них работали пакистанцы. Жанет Адомайт: это совершенно безразлично, кто они родом и откуда приехали. Что за идиотизм, сказала тетя Ленхен. Почему же, например, не безразлично, приехала я из Рейнской провинции или я родом из Веттерау. Жанет Адомайт: да, пусть так, но это никак не отражается на качестве этих людей. Тетя Ленхен: качество, что это взбрело ей в голову, при чем здесь качество? Она вообще ни слова не проронила об их качестве. И что за качество? Она произнесла только слово «иностранцы». Адомайт: давай теперь, пожалуйста, прекрати все это и больше не развивай эту тему. Мы здесь не одни. Ленхен, с громким криком: иностранцы, иностранцы, иностранцы! Нечего из нее дуру делать. Что за отвратительная уравниловка! Она однажды все это уже пережила, когда предписывали, какие слова правильные, а какие нет. Сначала «добрый день!» переделали в «хайль Гитлер!», а затем перелицевали «хайль Гитлер!» назад в «добрый день!», но при этом напрочь запретили произносить имя Гитлера. Стоящие вокруг: никто не запрещал говорить про Гитлера. Она: и тем не менее Гитлер находится под негласным запретом, как и теперь слово «иностранцы». Или слово «еврей». Повсюду кругом одни запрещенные слова. Нет, я не замолчу и вообще не позволю мне что-нибудь запрещать, чтоб вы все это знали раз и навсегда. Мой Хайнцгеорг не для того остался под Любице, чтобы сегодня мне кто-то затыкал рот. И хватит об этом. Тетя Ленхен действительно занялась после этого холодным мясом, и, когда Катя Мор сделала попытку познакомить с ней Шоссау, все присутствующие напустились на нее, чтобы она оставила тетю Ленхен в покое, раз уж та сама по себе наконец-то замолчала. А вы знаете, спросил господин Рудольф, обращаясь непосредственно к Шоссау и Кате Мор, сколько должен был платить старый Адомайт, чтобы получать хотя бы минимальную пенсию? Шоссау: нет. Рудольф: ну, тогда давайте посчитаем. Я, собственно, придерживаюсь такой точки зрения, обнародуй свои претензии на пенсионные выплаты, и тогда я скажу тебе, кто ты. Адомайт работал в библиотеке, так про него говорят. Шоссау: но только один год. Рудольф: значит, он делал личные взносы в пенсионную кассу. Шоссау: насколько ему известно, нет. Рудольф: невероятно. Значит, один год. Но право на пенсию так и так возникает только после пяти лет уплаты членских взносов. Господа, этот Адомайт должен был заплатить за пять лет по максимуму, то есть вносить в течение пяти лет, учитывая, что высшая ставка равна восемнадцати тысячам в год, примерно тысячу пятьсот марок, будьте внимательны, ежемесячно, тогда по существующему законодательству ему полагалось бы, минуточку, пять на семьдесят, по триста пятьдесят марок в месяц. Это все равно что ничто. И это при максимальной сумме взносов в течение пяти лет! При минимальной плате в семь марок, пять на семь, получается тридцать пять. Следовательно, тридцать пять марок в месяц. Невероятно… Ах, что за бедолага!








