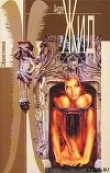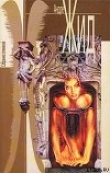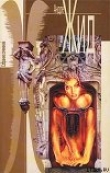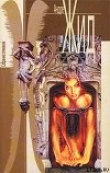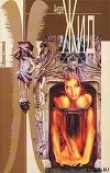Текст книги "Возвращение из СССР"
Автор книги: Андре Жид
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
V
Перед отъездом в СССР я писал: "Думаю, что ценность писателя определяется его связями с революционными силами, стимулирующими творчество, или, точнее, – ибо я не настолько глуп, чтобы признавать только за левыми писателями способность создавать художественные ценности, – оппозиционностью. Эта оппозиционность есть у Боссюэ, Шатобриана, в наши дни – у Клоделя, она есть у Вольтера, Гюго, Мольера и у многих других. При нашем общественном устройстве большой писатель, большой художник всегда антиконформист. Он движется против течения. Это было верно по отношению к Данте, Сервантесу, Ибсену, Гоголю… Эта закономерность, пожалуй, перестает действовать по отношению к Шекспиру и его современникам, о которых прекрасно сказал Джон Аддингтон Симондс: «Драматическое искусство этого периода достигло таких вершин только потому, что авторы жили и творили в согласии с народным мнением». Это верно и по отношению к Софоклу, и, безусловно, по отношению к Гомеру, устами которого, как кажется, пела сама Греция. Эта закономерность нарушается с того момента, когда… И тут в связи с СССР нас волнует вопрос: означает ли победа революции, что художник может плыть по течению? Вопрос формулируется именно так: что случится, если при новом социальном строе у художника не будет больше повода для протеста? Что станет делать художник, если ему не нужно будет вставать в оппозицию, а только плыть по течению? Понятно, что, пока идет борьба, победа еще не достигнута, художник сам может участвовать в этой борьбе и отражать ее, способствуя тем самым достижению победы. А дальше… Вот о чем я себя спрашивал, отправляясь в СССР. «Понимаете ли, – объяснял мне X., – это совсем не то, чего хотела публика; совсем не то, что нам сегодня нужно. Недавно он создал балет, очень яркий, и его хорошо приняли. („Он“ – это Шостакович, о котором некоторые говорили мне с таким восхищением, с каким обычно говорят о гениях.) Но как вы хотите, чтобы народ отнесся к опере, из которой он не может напеть ни одной арии, выходя из театра? (Куда хватил! И вместе с тем X., сам художник, высокообразованный человек, говорил до сих пор со мной вполне разумно.) Нам нужны нынче произведения, которые могут быть понятны каждому. Если сам Шостакович этого не понимает, то ему это дадут почувствовать, перестанут слушать его музыку». Я запротестовал, говоря, что нередко самые прекрасные произведения, даже те, что становятся позже народными, доступны вначале малому кругу людей; что сам Бетховен… и протянул ему книжку, которая была у меня с собой: смотрите вот здесь: «Я тоже несколько лет назад (это говорит Бетховен) давал концерт в Берлине. Я выложился без остатка и надеялся, что чего-то достиг и, следовательно, будет настоящий успех. И смотрите, что получилось: когда я создал лучшее из того, на что способен, – ни малейшего знака одобрения». X. согласился со мной, что в СССР Бетховену было бы трудно оправиться от подобного поражения. «Видите ли, – продолжал он, – художник у нас должен прежде всего придерживаться „линии“. Без этого самый яркий талант будет рассматриваться как „формалистический“. Именно это слово мы выбрали для обозначения всего того, что мы не хотим видеть или слышать. Мы хотим создать новое искусство, достойное нашего великого народа. Искусство нынче или должно быть народным, или это будет не искусство». «Вы принудите ваших художников к конформизму, – сказал я ему, – а лучших из них, кто не захочет осквернить искусство или просто его унизить, вы заставите замолчать. Культура, которой вы будто бы служите, которую защищаете, проклянет вас». Тогда он возразил, что я рассуждаю, как буржуа. Что же касается его самого, то он убежден, что марксизм, благодаря которому столько сделано в разных областях, поможет создать и художественные творения. И добавил, что если новые творения пока не появляются, так это только потому, что еще слишком велика роль искусства минувших эпох. Он говорил все громче и громче, словно вел урок или читал лекцию. Все это происходило в холле сочинской гостиницы. Я ему не стал возражать, и мы расстались. Но спустя короткое время он поднялся ко мне в номер и прошептал: «Ох, черт возьми! Я все понимаю… Но нас подслушивали только что… а у меня вот-вот должна открыться выставка». X. – художник и должен был выставлять свои последние картины. Когда мы прибыли в СССР, там еще не затихли окончательно споры о формализме. Я попытался понять, какой смысл вкладывался в это слово, и выяснил, что в формализме обвинялся всякий художник, проявляющий бOльший интерес к форме, нежели к содержанию. Кстати добавлю, что достойным интереса (точнее, терпимым) считается только определенное содержание. Если этого нет, художественное произведение считается формалистическим и вообще лишенным смысла. Признаюсь, что не могу написать без улыбки эти два слова – «форма» и «содержание». Хотя, скорее, следовало бы плакать, зная, что критика основывается на этом абсурдном разграничении. Возможно, что в этом есть польза с политической точки зрения, но незачем тогда говорить о культуре. Культура в опасности, когда критика перестает быть свободной. Как бы прекрасно ни было произведение, в СССР оно осуждается, если не соответствует общей «линии». Красота рассматривается как буржуазная ценность. Каким бы гениальным ни был художник, но, если он не следует общей «линии», ему не дождаться внимания, удача отворачивается от него. От писателя, от художника требуется только быть послушным, все остальное приложится. Я видел в Тифлисе выставку современной живописи – из милосердия о ней лучше было бы вообще не упоминать. Но в конце концов художники достигли поставленной цели, которая заключалась в том, чтобы поучать (с помощью наглядного образа), убеждать, объединять (иллюстрациями служили эпизоды из жизни Сталина). Ох, конечно, эти не были «формалистами»! К несчастью, и художниками они тоже не были. Они заставили меня вспомнить Аполлона, который, чтобы услужить Адмету, погасил солнечные лучи, но все равно ему не помог. Но так как СССР в пластических искусствах ни до, ни после революции заметных успехов не достиг, стоит лучше поговорить о литературе. «Во времена моей молодости, – говорил мне X., – нам рекомендовали читать одни книги и не рекомендовали другие. Естественно, что эти последние привлекали наше внимание. Различие между тем и нашим временем состоит в том, что молодежь читает только рекомендованную литературу, ничего другого они читать не желают».
Следовательно, у Достоевского читателей больше нет, причем нельзя с уверенностью сказать, сама ли молодежь от него отвернулась или ее от него отторгли – так обработаны мозги. Ум, вынужденный, обязанный откликнуться на лозунг, по крайней мере, может чувствовать свою несвободу. Но если он воспитан так, что сам предвосхищает лозунги, тогда он не способен уже осознать собственное свое рабство. Я думаю, многие молодые люди в СССР были бы удивлены, если бы им сказали, что они несвободно мыслят. Обычно мы не ценим то, что имеем, к чему привыкли. Достаточно однажды побывать в СССР (или в Германии, само собой разумеется), чтобы осознать, сколь бесценна свобода мысли, которой мы еще наслаждаемся во Франции и которой иногда злоупотребляем. В Ленинграде меня попросили выступить с небольшой речью перед студентами и литераторами. В СССР я пробыл всего неделю и пытался найти верный тон, поэтому передал текст речи X. и У. Мне тотчас же дали понять, что "линия" не выдержана, тон не тот и что все, о чем я собирался говорить, совершенно неприемлемо. Еще бы! Позже я все это понял сам. Впрочем, случай не представился, и речь я не произнес. Вот она: "Часто интересовались моим мнением о современной литературе СССР. Я хотел бы объяснить, почему я уклонялся от ответа. Это позволит мне уточнить одну мысль из моей речи, произнесенной на Красной площади в торжественный день похорон Горького. Я говорил о "новых проблемах", рожденных самим триумфом советских республик, о проблемах, поставленных историей и требующих решения. Сама необходимость о них задумываться добавляет немало славы СССР. И так как будущее культуры представляется мне тесно связанным с их решением, есть смысл к этому еще раз вернуться и сделать ряд уточнений.
Большинство людей, и даже лучшие из них, никогда не встречают благосклонно произведений, в которых есть нечто новое, необычное, озадачивающее, приводящее в замешательство; на благосклонность может рассчитывать только то, что содержит в себе узнаваемое, то есть банальность. И так же, как бывают банальности буржуазные, бывают – это важно понять – банальности и революционные. Важно убедиться также, что все, идущее от доктрины, хотя бы от самой здравой и прочно утвердившейся, отнюдь не составляет ценности художественного произведения и не способствует его долголетию. Ценно то, что содержит в себе ответы на еще не поставленные вопросы. Сильно опасаюсь, что многие произведения, написанные в духе чистого марксизма, – чему они обязаны нынче своим успехом, – оттолкнут последующие поколения своей стерильностью. И я верю, что сохранятся только произведения, свободные от какого бы то ни было доктринерства. С того момента, когда революция провозглашена, победила и утверждается, искусство оказывается в опасности, почти такой же, как при фашизме: оно подвергается опасности ортодоксии. Искусство, которое ставит себя в зависимость от ортодоксии, даже и при самой передовой доктрине, такое искусство обречено на гибель. Победившая революция может и должна предложить художнику прежде всего свободу. Без нее искусство теряет смысл и значение. Уолт Уитмен, узнав о смерти президента Линкольна, написал лучшую свою песню. Но если бы это было не свободное творчество, если бы Уитмен вынужден был ее написать по приказу и в соответствии с принятым каноном, она бы утратила всю свою красоту и привлекательность. Или, скорее всего, Уитмен не смог бы ее написать. И, поскольку (это само собой разумеется) благосклонности, аплодисментов большинства удостаивается все то, что публика тотчас может признать и одобрить, то есть то, что порождено конформизмом, я с беспокойством спрашиваю себя: что, если в славном ныне Советском Союзе прозябает неведомый толпе какой-нибудь Бодлер, какой-нибудь Китc или какой-нибудь Рембо и он, этот избранник, не может заставить услышать себя? Но именно он, единственный из всех, мне важен и интересен, ибо отверженные сначала – Рембо, Китсы, Бодлеры, Стендали даже – завтра станут великими"21
[Закрыть].
VI
Севастополь – последний пункт нашего путешествия. Несомненно, есть в СССР города более красивые и более интересные, но нигде еще я себя так хорошо не чувствовал. Я нашел в Севастополе общество не столь избранное, не столь благополучное, как в Сочи или Сухуми, увидел жизнь русских во всей ее полноте, с ее лишениями, недостатками, страданиями, увы! наряду с ее достижениями и успехами, со всем тем, что вселяет в человека надежду на счастье. Тени иногда просветлялись, иногда сгущались, но и самое светлое, и самое темное из того, что я мог видеть здесь, одинаково привязывало меня – иногда с болью – к этой земле, к этому спокойному народу, к этому новому климату, который благоприятствовал будущему и в котором неожиданно могло произрасти новое семя. Со всем этим мне предстояло расстаться.
И уже сердце начинала сжимать неведомая тоска: что скажу, вернувшись в Париж? Как отвечать на вопросы, которых не избежать? Разумеется, от меня будут ждать искренних ответов. Как объяснить, что в СССР мне бывало поочередно (морально) и так холодно, и так жарко? Снова заявляя о своей любви, должен ли я буду скрывать cвои опасения и, все оправдывая, лгать? Нет, я прекрасно понимаю, что тем самым я окажу плохую услугу и СССР, и его революционным идеям. Но было бы большой ошибкой увязывать одно с другим и считать несостоятельной идею, потому что нам не все нравится в СССР.
Помощь, которую СССР только что оказал Испании, свидетельствует о возможности перемен.
СССР не перестает удивлять, не перестает оставаться для нас наукой.
ПРИЛОЖЕНИЕ
I АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ БОРЬБА
Я не был в московских антирелигиозных музеях, но в ленинградском, в Исаакиевском соборе, был, его золотой купол восхитительно сияет над городом. Снаружи музей выглядит очень хорошо, внутри – ужасно. Большие картины на религиозные темы могут подвигнуть на богохульство – так они безобразны. В самом музее все обходится без грубостей, каких можно было бы ожидать. Речь там идет о противопоставлении религии и науки. Экскурсоводы приходят на помощь тем ленивым умам, которых не убедили различные оптические приборы, астрономические, биологические, анатомические или статистические таблицы. Все в рамках приличий, без излишней агрессивности. Во всем этом больше от Реклю или Фламмариона, чем от Лео Токсиля. Очень достается, например, священникам. Но несколькими днями раньше в окрестностях Ленинграда, по дороге в Петергоф, мне случилось повстречать настоящего священника. Его вид был более красноречив, чем все антирелигиозные музеи СССР, вместе взятые. Не буду его описывать. Убогий, нелепый, грязный, он казался специальным изобретением большевизма, который с помощью этого чучела надеялся навсегда изгнать из деревень религиозные чувства.
С другой стороны, я не могу забыть колоритного монаха-сторожа очень красивой церкви, где мы были незадолго перед поездкой с X. Сколько достоинства во всей осанке! Сколько благородства в чертах лица! Сколько печальной гордости и смирения! И ни единого слова, ни жеста, ни взгляда в нашу сторону. Украдкой рассматривая его, я подумал о евангельском "tradebat autem", вдохновившем Боссюэ на великолепный порыв красноречия.
Археологический музей Херсонеса в окрестностях Севастополя тоже расположен в церкви22
[Закрыть]. Настенную живопись в ней пощадили, несомненно, из-за ее антихудожественности. Поверх фресок развешены повсюду плакаты. Под изваянием Христа надпись: «Легендарная личность, которая никогда не существовала».
Я не уверен, что СССР ведет эту антирелигиозную войну как следует. Марксисты поступили бы правильно, если бы сосредоточились только на истории и, отрицая божественность (и даже существование) Христа, отбросив церковные догмы, идею воскрешения, попытались бы тем не менее отнестись критически и по-человечески к учению, принесшему в мир новую надежду и самый сильный революционный фермент, какой только был возможен в то время. Можно было бы даже сказать о том, как церковь предала эти надежды, как освободительная евангельская доктрина, увы, при попустительстве церкви способствовала худшим злоупотреблениям власти. Все-таки это лучше, чем все отрицать и замалчивать. Ведь невозможно ни стереть, ни утаить прошлое, и из-за невежества, на которое обрекли народы СССР, они беззащитны и беспомощны перед эпидемией мистики, способной возникнуть в любое время.
Более того, во всем этом есть еще практическая сторона, и я уже высказывал свои соображения по этому поводу. Невежество, пренебрежение к Евангелию и всему, связанному с ним, может только самым плачевным образом обеднить человечество, его культуру. Мне не хотелось бы, чтобы подобные суждения сочли за рецидивы моего первоначального образования и воспитания. То же самое я сказал бы и о греческих мифах, воспитательное значение которых огромно и вечно. Мне кажется абсурдным верить в них, но в равной степени абсурдно не признавать истину, которую они в себе заключают, и думать, что можно ограничиться улыбкой и пожиманием плеч. Что касается консервативного влияния религии на сознание, отпечатка, который может наложить на него вера, я знаю об этом и думаю, что было бы хорошо освободить от всего этого нового человека. Я допускаю также, что суеверие, поддержанное священником, наносит страшный ущерб морали в деревне и повсюду (я был в апартаментах царицы), и понимаю, что может возникнуть желание разом избавиться от всего этого, но… У немцев есть хорошая поговорка, я не могу подобрать схожей французской: "вместе с водой выплеснули ребенка". По невежеству и в великой спешке. И что вода в корыте была грязная и зловонная – может быть. Настолько грязная, что не пришло даже в голову подумать о ребенке, выплеснули все сразу, не глядя.
И когда я слышу теперь, как говорят, что по соображениям терпимости, по прочим разным соображениям надо отливать заново колокола, боюсь, чтобы это не стало началом, чтобы не заполнили снова грязной водой купель… в которой уже нет ребенка.
II ОСТРОВСКИЙ
Я не могу говорить об Островском, не испытывая чувства глубочайшего уважения. Если бы мы не были в СССР, я бы сказал: «Это святой». Религия не создала более прекрасного лица. Вот наглядное доказательство того, что святых рождает не только религия. Достаточно горячего убеждения, без надежды на будущее вознаграждение. Ничего, кроме удовлетворения от сознания выполненного сурового долга.
В результате несчастного случая Островский стал слепым и совершенно парализованным… Лишенная контакта с внешним миром, приземленности, душа Островского словно развилась ввысь.
Мы столпились возле кровати, к которой он давно прикован. Я сел у изголовья, протянул ему руку, которую он поймал и, даже точнее было бы сказать, которую он держал как связующую с жизнью нить. И в течение целого часа, пока мы были у него, его худые пальцы переплетались с моими, посылая мне токи горячей симпатии. Островский слеп, но он говорит, он слышит. Его мысль напряжена и активна, работе мысли могут помешать лишь физические страдания. Но он не жалуется, и его прекрасное высохшее лицо не утратило способности улыбаться, несмотря на медленную агонию.
Он лежит в светлой комнате. В раскрытые окна долетают голоса птиц, запахи цветов из сада. Какой покой здесь! Мать, сестра, друзья, посетители скромно стоят поодаль от кровати. Некоторые записывают наш разговор. Я говорю Островскому, что его постоянство придает мне сил. Но похвала его смущает – восхищаться надо только Советским Союзом, проделана громадная работа. Только этим он и интересуется, не самим собой. Трижды я порывался уйти, опасаясь его утомить, – такое неослабевающее горение не может не истощать силы. Но он просит меня остаться, чувствуется, что ему хочется говорить еще. Он будет продолжать говорить и после нашего ухода; говорить для него – это значит диктовать. Именно таким способом он мог написать книгу, где рассказал о своей жизни. Сейчас он диктует другую. С утра до вечера, долго за полночь он работает, без конца диктует.
Наконец я поднимаюсь, чтобы уходить. Он просит меня поцеловать его. И, прикасаясь губами к его лбу, я едва сдерживаю слезы. Мне кажется вдруг, что я его знаю очень давно и что я расстаюсь с другом. Мне кажется также, что это он уходит от нас, я оставляю умирающего… Но проходят месяцы и месяцы, и мне сообщают, что он продолжает существовать на грани жизни и смерти и что только энтузиазм поддерживает в ослабевшем теле это готовое вот-вот погаснуть пламя.
III КОЛХОЗ
Итак, 16 с половиной франков за рабочий день. Негусто. Но колхозный бригадир, с которым мы долго беседуем, пока товарищи купаются (колхоз на берегу моря), объясняет мне, что так называемый «трудодень» – мера условная. Хороший работник может выработать за день два или даже три трудодня22
[Закрыть]. Он показывает мне индивидуальные книжки и расчетные ведомости – те и другие проходят через его руки. Учитывается не только количество труда, но и его качество. Звеньевые сообщают ему необходимые сведения, и на их основании составляются расчетные ведомости. Все это требует сложных расчетов, и он не скрывает, что немного устал. В то же время он очень доволен – на его личном счету уже триста трудодней с начала этого года (мы разговариваем с ним 3 августа). В бригаде у него 56 человек, он руководит ими с помощью звеньевых. Одним словом, иерархия. Но расценки для всех одинаковые. Кроме того, каждый пользуется продуктами с приусадебного участка, который он обрабатывает, закончив работу в колхозе.
Для работы нет точно установленного времени: если нет особой срочности, каждый работает тогда, когда он хочет.
Это вынуждает меня задать вопрос: "Бывают ли такие, кто вырабатывает меньше трудодня за день?" – "Нет, такого не бывает", – ответили мне. Несомненно, что "трудодень" обозначает не тот объем работы, который вырабатывается "в среднем", а легко достижимый минимум. Кроме того, отпетых лодырей тотчас бы выгнали из колхоза. А преимущества, связанные с пребыванием в колхозе, настолько очевидны для всех, что каждый старается в него вступить. Но напрасно – число колхозников ограничено.
Таким образом, эти привилегированные колхозники как будто в состоянии заработать около 600 рублей в месяц. Квалифицированный рабочий часто получает больше. Неквалифицированный – а их подавляющее большинство – зарабатывает 5-6 рублей в день24
[Закрыть]. Чернорабочий зарабатывает еще меньше.
Государство, вероятно, могло бы их обеспечить получше. Но пока не будет в достаточном количестве потребительских товаров, рост зарплаты привел бы только к росту цен. По крайней мере, так объясняют.
А пока разница в зарплате вынуждает повышать квалификацию. Очень много чернорабочих, большая нехватка кадров, специалистов. Делается все, чтобы их подготовить. И ничто меня так не восхищает в СССР, как повсеместная доступность образования для самых обездоленных тружеников, что позволяет им (а это зависит только от них самих) выбиться из того жалкого состояния, в котором они сейчас находятся.