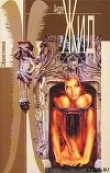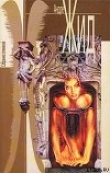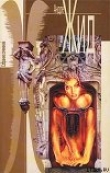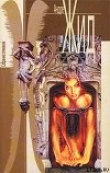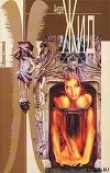Текст книги "Возвращение из СССР"
Автор книги: Андре Жид
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Андре Жид
Возвращение из СССР
Памяти Эжена Даби посвящаю эти страницы – отражение пережитого и передуманного рядом с ним, вместе с ним.
Гомеровский гимн Деметре рассказывает о том, как великая богиня, блуждая в поисках дочери, пришла ко двору Келеоса. В облике няни никто не узнал богиню. Царица Метанейра вручила ей новорожденного, маленького Демофоона, который станет потом Триптолемом, покровителем земледелия.
Когда в доме закрывались все двери и его обитатели отходили ко сну, Деметра брала из мягкой колыбели Демофоона и с притворной жестокостью, а на самом деле с безграничной любовью, желая ребенка превратить в бога, укладывала его обнаженным на ложе из раскаленных углей. Я представляю себе великую Деметру, склонившуюся над лучезарным ребенком, словно над будущим человечества. Он страдает от жара раскаленных углей, и это испытание закаляет его. В нем вырабатывается нечто сверхчеловеческое, крепкое и здоровое, предназначенное для великой славы. И как жаль, что Деметра не смогла завершить задуманное. Встревоженная Метанейра, как рассказывает легенда, заглянула однажды в комнату к Деметре, оттолкнула от огненного ложа богиню, разбросала угли и, чтобы спасти ребенка, погубила бога.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Три года назад я говорил о своей любви, о своем восхищении Советским Союзом. Там совершался беспрецедентный эксперимент, наполнявший наши сердца надеждой, оттуда мы ждали великого прогресса, там зарождался порыв, способный увлечь все человечество. Чтобы быть свидетелем этого обновления, думал я, стоит жить, стоит отдать жизнь, чтобы ему способствовать. В наших сердцах и умах мы решительно связывали со славным будущим СССР будущее самой культуры. Мы много раз это повторяли, нам хотелось бы иметь возможность повторить это и теперь.
Но уже перед поездкой туда, – чтобы увидеть все своими глазами, – недавние решения, свидетельствовавшие о перемене взглядов, стали вызывать беспокойство.
Я писал тогда, в октябре 1935-го: "Глупость и нечестность нападок на СССР заставляют нас выступать в его защиту с еще большим упорством. Как только мы перестанем это делать, на защиту СССР тотчас бросятся его хулители. Ибо они одобрят те уступки и компромиссы, которые им дадут возможность сказать: "Вы видите теперь!", но из-за которых он отклонится от намеченной цели. И пусть наш взгляд, сосредоточенный на этой самой цели, не позволит нам отвернуться от СССР".
Однако продолжая верить и сомневаясь в себе самом до получения более подробных сведений, спустя четыре дня после приезда в Москву я еще заявлял в своей речи на Красной площади по случаю похорон Горького: "В наших умах судьбу культуры мы связываем с СССР. Мы будем его защищать".
Я всегда утверждал, что желание быть постоянно верным самому себе часто таит опасность оказаться неискренним. Я считаю, что особенно важно быть искренним именно тогда, когда речь идет об убеждениях многих людей, включая ваши собственные.
Если я с самого начала ошибся, то лучше всего признаться в этом как можно раньше, ибо я в ответе за тех, кто станет жертвой моей ошибки. В этом случае самолюбие не должно мешать. Впрочем, у меня его очень мало. Есть вещи, которые в моих глазах гораздо важнее моего "я", важнее СССР: это человечество, его судьба, его культура.
Но ошибся ли я с самого начала? Те, кто следил последний год за событиями в СССР, скажут, кто из нас переменился – я или СССР. Под СССР я имею в виду тех, кто им руководит. Другие, более осведомленные, чем я, скажут, только ли кажущиеся эти перемены и не является ли то, что мы воспринимаем как отклонение от курса, фатальным следствием некоей изначальной предрасположенности.
СССР "строится". Важно об этом постоянно напоминать себе. Поэтому захватывающе интересно пребывание в этой необъятной стране, мучающейся родами, – кажется, само будущее рождается на глазах.
Там есть хорошее и плохое. Точнее было бы сказать: самое лучшее и самое худшее. Самое лучшее достигалось часто ценой невероятных усилий. Усилиями этими не всегда и не везде достигалось то, чего желали достигнуть. Иногда позволительно думать: пока еще. Иногда худшее сочетается с лучшим, можно даже сказать, оно является его продолжением. И переходы от яркого света к мраку удручающе резки. Нередко путешественник, имея определенное мнение, вспоминает только одно или другое. Очень часто друзья СССР отказываются видеть плохое или, по крайней мере, его признать. Поэтому нередко правда об СССР говорится с ненавистью, а ложь – с любовью.
Я же устроен так, что строже всего отношусь к тем, кого хотел бы любить. Немного стоит любовь, состоящая из одних похвал, и я думаю, что окажу большую услугу и самому СССР, и его делу, если буду говорить о нем искренне и нелицеприятно. Мое восхищение СССР, восхищение теми успехами, которых он уже добился, позволяет мне высказывать критику по его адресу. Во имя связанных с ним ожиданий, во имя всего того в особенности, на что он нам позволяет надеяться.
Кто может определить, чем СССР был для нас? Не только избранной страной – примером, руководством к действию. Все, о чем мы мечтали, о чем помышляли, к чему стремились наши желания и чему мы готовы были отдать силы, – все было там. Это была земля, где утопия становилась реальностью. Громадные свершения позволяли надеяться на новые, еще более грандиозные. Самое трудное, казалось, было уже позади, и мы со счастливым сердцем поверили в неизведанные пути, выбранные им во имя страдающего человечества. До какой степени, в случае неудачи, наша вера была бы оправданной? Но сама мысль о неудаче недопустима. Если некоторые обещания остались невыполненными, в чем искать причину? Считать ли, что причина в первых декретах или, точнее, в нестрогом их выполнении – отклонениях, нарушениях, приспособлении к обстоятельствам, чем бы они ни оправдывались?..
Я рассказываю здесь о своих личных впечатлениях от всего, что мне с законной гордостью показывали в СССР и что я смог увидеть сам. Достижения СССР во многих областях замечательны. Порой даже можно вообразить, что здесь царит счастье.
Те, кто с одобрением относился к моим попыткам в Конго самому во всем разобраться, когда, отказавшись от губернаторского автомобиля, я старался беседовать с каждым встречным, осудят ли они меня за то, что и в СССР я был озабочен тем же – не дать себе пустить пыль в глаза?.. Не сомневаюсь, что этой книгой воспользуются противники, те, для кого "любовь к порядку сочетается с вкусом к тирании"1
[Закрыть]. Что ж, из-за этого ее не публиковать, не писать даже? Но я убежден, что, во-первых, СССР преодолеет тяжкие ошибки, о которых я пишу, и, во-вторых, – и это самое важное – даже и ошибки одной страны не могут скомпрометировать истину, которая служит общечеловеческому, интернациональному делу. Возможно, кому-то ложь умалчивания или упорство во лжи могут казаться оправданными, но на самом деле все это только на руку врагам, истина же, как бы ни была жестока, наносит раны только ради исцеления.
I
Общаясь с рабочими на стройках, на заводах или в домах отдыха, в садах, в «парках культуры», я порой испытывал истинную радость. Я чувствовал, как по-братски относятся они ко мне, и из сердца уходила тревога, оно наполнялось радостью. Поэтому и на фотографиях, сделанных там, я запечатлен улыбающимся, смеющимся чаще, чем это могло бы быть здесь, во Франции. И сколько раз слезы наворачивались на глаза от радости, слезы любви и нежности: например, в шахтерском доме отдыха в Донбассе, недалеко от Сочи… Нет, нет! Ничего там не согласовывалось заранее, не было никакой подготовки – я пришел неожиданно, вечером, без предупреждения и тотчас почувствовал к ним доверие.
А это внезапное посещение детского лагеря под Боржоми – очень скромного, почти убогого, но где дети сияли здоровьем, счастьем, они словно хотели поделиться со мной своей радостью. Что сказать? Словами не выразить этого искреннего и простого чувства… А сколько было кроме этих и других встреч! Грузинские поэты, студенты, интеллигенты, рабочие в особенности – многие были мне по душе, я жалел, что не знаю их языка. В их улыбках, во взглядах было столько неподдельной сердечности! Надо сказать, что повсюду я был представлен как друг и чувствовал всюду дружеское к себе отношение. Я хотел бы быть достойным еще большей дружбы, и это тоже побуждает меня говорить.
Разумеется, наиболее охотно вам показывают все самое лучшее. Но нам много раз случалось неожиданно заходить в сельские школы, в детские сады, клубы, которые нам не собирались показывать и которые, несомненно, ничем не отличались от остальных. И ими я восхищался больше всего, и именно потому, что там ничего не было приготовлено заранее для показа.
Дети во всех пионерских лагерях, которые я видел, красивы, сыты (кормят пять раз в день), хорошо ухожены, взлелеяны даже, веселы. Взгляд светлый, доверчивый. Смех простодушный и искренний. Иностранец мог бы им показаться смешным, но ни разу ни у кого я не заметил ни малейшей насмешки2
[Закрыть].
Такое же выражение спокойного счастья мы часто видели и у взрослых, тоже красивых, сильных. "Парки культуры", где они собираются после работы по вечерам, – их несомненное достижение. И среди прочих – "парки культуры" Москвы.
Я часто туда ходил. Это место для развлечений, нечто вроде огромного "Луна-парка". Ступив за ворота, вы сразу оказываетесь в особом мире. Толпы молодежи, мужчин и женщин, повсюду серьезность, выражение спокойного достоинства. Ни малейшего намека на пошлость, глупый смех, вольную шутку, игривость или даже флирт. Повсюду чувствуется радостное возбуждение. Здесь затеваются игры, чуть дальше – танцы. Обычно всем руководят затейник или затейница, и везде порядок. Но зрителей всегда гораздо больше, чем танцующих. Дальше – народные песни и танцы, чаще всего под обычный аккордеон. На специальной площадке, куда может зайти каждый, – любители-акробаты. Руководит, страхует опасные прыжки тренер. Еще дальше – гимнастические снаряды. Каждый терпеливо ждет своей очереди. Тренируются. Большие площадки отведены для волейбола. Я не уставал наслаждаться красотой, силой, изяществом игроков. Еще дальше – спокойные игры: шахматы, шашки и множество других игр, требующих терпения и сноровки. Есть мне неизвестные, чрезвычайно замысловатые. Есть и такие, которые развивают гибкость, силу или ловкость. Они мне нигде не встречались, и я их не берусь описывать, но иные могли бы иметь успех и у нас. Было бы чем занять время. Есть игры для взрослых и для детей. Для совсем маленьких тоже отведено место, там построены игрушечные дома, поезда, пароходы, детские автомобили, для детского возраста приспособлено много различного инструмента. Вдоль большой аллеи, ведущей на площадку для настольных игр (где толпятся любители, ожидающие, когда освободится столик), стенды с ребусами, шарадами и загадками. И во всем этом, я повторяю, ни малейшей пошлости. Этой благовоспитанной громадной толпе нельзя отказать в достоинстве, вежливости. Публика состоит почти исключительно из рабочих, которые приходят сюда отдохнуть, позаниматься спортом, развлечься или узнать что-нибудь полезное (там, кроме прочего, есть также читальные залы, библиотеки, кинотеатры, лектории и т. д.). На Москве-реке – бассейны. В огромном парке повсюду небольшие эстрады, с которых вещают импровизированные лекторы. Лекции разные – по истории, географии, – сопровождаются наглядными пособиями. Или – по практической медицине и физиологии, с анатомическими плакатами, и т. д. Слушают с большим вниманием. Я уже говорил – ни разу и нигде я не уловил ни малейшей насмешки.
А вот – небольшой открытый театр, где ни одного свободного места, человек пятьсот в благоговейном молчании слушают актера, читающего Пушкина (из "Евгения Онегина"). В углу парка, недалеко от входа, владения парашютистов. Там это очень популярный вид спорта. Через каждые две минуты с вершины сорокаметровой вышки прыгают по очереди любители парашютного спорта. Жесткий удар о землю – можно считать себя парашютистом. Ну, кто рискнет? Народ спешит, ждет, выстраивается в очередь. Я уже не говорю о большом Зеленом театре, где на иные спектакли собирается до двадцати тысяч зрителей.
Московский парк культуры – самый большой и лучше других оборудованный различными аттракционами. Ленинградский же парк – самый красивый. Но сейчас каждый город в СССР помимо детских садов имеет свой парк культуры.
Само собой разумеется, я побывал и на многих заводах. От их нормальной работы зависит народное благосостояние. Но я не специалист и не могу судить, как там организовано производство. Это дело других, и я присоединяюсь к их похвалам. В моей же компетенции исключительно вопросы психологические. Именно и почти исключительно ими я собираюсь здесь заняться. Если же косвенно я затрагиваю социальные вопросы, то тоже только с точки зрения психологической.
С возрастом у меня все меньше интереса к пейзажам, сколь бы красивыми они ни были. И все больший интерес к людям. Люди в СССР замечательные. В Грузии, Кахетии, Абхазии (я говорю только о том, что видел) и еще в особенности, как мне показалось, в Крыму и в Ленинграде.
Я присутствовал на празднике молодежи в Москве на Красной площади. Безобразные здания напротив Кремля были замаскированы зеленью и плакатами. Все было устроено великолепно и даже (спешу об этом сказать здесь, потому что впоследствии не всегда для этого будет повод) с отменным вкусом. Прибывшая с севера и юга, востока и запада прекрасная молодежь участвовала в параде на Красной площади. Он продолжался несколько часов. Я не представлял себе столь великолепного зрелища. Конечно, его замечательные участники были заранее отобраны, подготовлены, натренированы. Но как не восхищаться страной и режимом, способными такую молодежь создавать?
Я видел Красную площадь за несколько дней до этого, во время похорон Горького. Я видел, как тот же самый народ – тот же самый и в то же время другой, похожий, скорее, как я думаю, на русский народ при царском режиме, – шел нескончаемым потоком мимо траурного катафалка в Колонном зале. Тогда это были не самые красивые, не самые сильные, не самые веселые народные представители, а "первые встречные" в скорби – женщины, дети особенно, иногда старики, почти все плохо одетые и казавшиеся иногда очень несчастными. Молчаливая, мрачная, сосредоточенная колонна двигалась, казалось, в безупречном порядке из прошлого, и шла она гораздо дольше, чем та другая – парадная. Я очень долго вглядывался в нее. Кем был Горький для всех этих людей? Толком не знаю. Учитель? Товарищ? Брат? И на всех лицах, даже у малышей, – печать грустного изумления, выражение глубокой скорби. Сколько я видел людей, чья одухотворенность лишь подчеркивалась бедностью. Чуть не каждого мне хотелось прижать к сердцу!
Нигде отношения между людьми не завязываются с такой легкостью, непринужденностью, глубиной и искренностью, как в СССР. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы возникла горячая взаимная симпатия. Да, я не думаю, что где-нибудь еще, кроме СССР, можно испытать чувство человеческой общности такой глубины и силы. Несмотря на различия языков, нигде и никогда еще я с такой полнотой не чувствовал себя товарищем, братом. И ради этого я готов отдать самые красивые пейзажи в мире.
О пейзажах, впрочем, я еще буду говорить, но сначала расскажу о нашей первой встрече с группой комсомольцев.
Это было в поезде на пути из Москвы в Орджоникидзе (бывший Владикавказ). Путь долгий. От имени Союза советских писателей Михаил Кольцов предоставил в наше распоряжение специальный, очень комфортабельный вагон. Все шестеро мы неожиданно прекрасно устроились: Джеф Ласт, Гийю, Эрбар, Шифрин, Даби и я. С нами наш гид и переводчик – верный товарищ Боля. Кроме спальных купе, в вагоне был еще салон, где нам накрывали стол. Лучше не бывает. Но что нам не нравилось – это невозможность общаться с пассажирами поезда. Спустившись на платформу на ближайшей станции, мы обнаружили, что в соседнем вагоне едет очень приятная компания. Это были комсомольцы, которые собирались во время каникул совершить восхождение на Казбек. Мы добились, чтобы открыли двери между вагонами, и вскоре познакомились с нашими замечательными попутчиками. Я привез из Парижа разные головоломные игры, не похожие на те, которые знают в СССР. Они обычно помогают мне быстро завязывать отношения с людьми, когда я не знаю их языка. Игры переходили из рук в руки. Парни и девушки не успокаивались, пока не справлялись с головоломкой. "Комсомольцы никогда не сдаются", – говорили они нам со смехом. Их вагон был очень тесным, стояла жара, и все задыхались от духоты. Но это было прекрасно.
Должен сказать, что для большинства из них я не был незнакомцем. Некоторые читали мои книги (в основном "Путешествие в Конго"), и, поскольку в газетах вместе с речью на Красной площади, на похоронах Горького, был мой портрет, многие тотчас меня узнали. Вскоре завязалась долгая дискуссия. Джеф Ласт, который хорошо понимает и говорит по-русски, объяснил нам, что головоломки, предложенные мной, прекрасные, но они спрашивают: неужели сам Андре Жид забавляется этим? Джеф Ласт должен был возразить, что это небольшое развлечение предназначено для того, чтобы снимать усталость. Настоящие комсомольцы всегда готовы служить делу, судят обо всем с точки зрения пользы. Впрочем, не будем педантами, сама эта дискуссия, перебиваемая смехом, тоже была игрой. Поскольку в их вагоне дышать становилось трудно, мы пригласили человек десять к себе, остаток вечера прошел с народными песнями и даже танцами, насколько позволяли размеры салона. Этот вечер останется для меня и для моих спутников одним из лучших воспоминаний о путешествии. И мы были уверены, что едва ли в какой-либо другой стране можно встретить такую неподдельную искреннюю сердечность, едва ли в какой-либо другой стране можно встретить такую очаровательную молодежь3
[Закрыть].
Я говорил уже, что меня меньше интересуют пейзажи… Однако мне хотелось бы рассказать о великолепных лесах Кавказа – при въезде в Кахетию, в окрестностях Батуми и в особенности Бакуриани, под или, точнее сказать, над Боржоми. Более прекрасного леса я не видел и не представлял себе: лесная поросль не скрывает стволы громадных деревьев, на таинственные поляны сумерки опускаются раньше, чем закончится день, – кажется, что где-то здесь должен был заблудиться мальчик с пальчик. Мы пересекли этот сказочный лес, вышли к горному озеру, и нам оказали честь, сообщив, что здесь никогда еще не ступала нога иностранца. Но я и без этого оценил великолепие здешних мест. На берегу озера странная маленькая деревушка (Табацкури) – ее девять месяцев в году скрывает снег, – которую я бы с удовольствием описал… Ах, почему я не приехал просто туристом или как натуралист, который с восторгом открывал бы здесь новые растения, обнаружил бы на высокогорном плато "скабиозу кавказскую" из своего сада… Но не за этим прибыл я в СССР. Самое важное для меня здесь – человек, люди, что из них можно сделать и что из них сделали. Лес, который меня сюда привлек, чудовищно непроходимый и в котором я блуждаю сейчас, – это социальные вопросы. В СССР они вопиют, взывают и обрушиваются на вас со всех сторон.
II
В Ленинграде я мало видел новых кварталов. Что восхищает в Ленинграде – это Санкт-Петербург. Я не знаю более красивого города, более гармонического сочетания металла4
[Закрыть], воды и камня. Город словно создан воображением Пушкина или Бодлера. Иногда он напоминает полотна Кирико. Памятники – таких же совершенных пропорций, как музыкальные темы в симфониях Моцарта. «Все там красота и гармония». Душа радуется красоте и отдыхает.
Нет слов, чтобы сказать, как изумителен Эрмитаж. Отмечу только попутно разумное правило помещать вокруг картины какого-либо художника, когда это возможно, другие его работы: этюды, эскизы, наброски – все, что помогает увидеть, как постепенно складывался и воплощался замысел.
После Ленинграда хаотичность Москвы особенно заметна. Она даже подавляет и угнетает вас. Здания, за редкими исключениями, безобразны (и не только современные), не сочетаются друг с другом. Я знаю, что Москва преображается, город растет. Свидетельства этому повсюду. Все устремлено к будущему. Но боюсь, что делать это начали плохо. Строят, ломают, копают, сносят, перестраивают – и все это как бы случайно, без общего замысла. Но все равно Москва остается самым привлекательным городом – она живет могучей жизнью. Но не будем вглядываться в дома – толпа меня интересует больше.
Летом почти все ходят в белом. Все друг на друга похожи. Нигде результаты социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских улицах, – словно в бесклассовом обществе у всех одинаковые нужды. Я, может быть, преувеличиваю, но не слишком. В одежде исключительное однообразие. Несомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, если бы это можно было увидеть. Каждый встречный кажется довольным жизнью (так долго во всем нуждались, что теперь довольны тем немногим, что есть). Когда у соседа не больше, человек доволен тем, что он имеет. Различия можно заметить, если только внимательно присмотреться. На первый взгляд кажется, что человек настолько сливается с толпой, так мало в нем личного, что можно было бы вообще не употреблять слово "люди", а обойтись одним понятием "масса".
Я сливаюсь с массой, погружаюсь в толпу. Что делают эти люди перед магазином? Они стоят в очереди. В очереди, которая протянулась до ближайшей улицы. Стоят человек двести или триста, спокойно, терпеливо, – ждут. Еще рано, и магазин закрыт. Я возвращаюсь минут через сорок – те же люди продолжают стоять. Для меня это удивительно – зачем было приходить раньше? Что они выигрывают? – Как что выигрывают? Обслужат тех, кто пришел первым.
И мне объясняют, что в газетах было объявлено о большом поступлении… не знаю чего (кажется, речь шла о подушках). Их будет, может быть, четыреста или пятьсот штук на восемьсот, тысячу или полторы тысячи покупателей. Задолго до вечера их не останется ни одной. Нужды так велики, а публика так многочисленна, что долго еще спрос будет превышать предложение, и превышать значительно. Справиться с этим трудно.
Спустя несколько часов я захожу в магазин. Громадное помещение, невообразимая толкотня. Продавцы, впрочем, сохраняют спокойствие, потому что вокруг них ни малейшего признака нетерпения. Каждый ждет своей очереди, стоя или сидя, часто с ребенком на руках. Очередь не регулируется, однако ни малейшего признака беспорядка. Здесь можно провести все утро, весь день – в спертом воздухе, которым, сначала кажется, невозможно дышать, но потом люди привыкают, как привыкают ко всему. Я хотел сначала написать: "смиряются", но дело тут не в смирении – русский человек, кажется, находит удовольствие в ожидании, он и вас тоже ради забавы может заставить ждать.
Продираясь сквозь толпу (или подталкиваемый ею), я обошел магазин вдоль и поперек и сверху донизу. Товары, за редким исключением, совсем негодные. Можно даже подумать, что ткани, вещи и т. д. специально изготавливаются по возможности непривлекательными, чтобы их можно было купить только по крайней нужде, а не потому, что они понравились. Мне хотелось привезти какие-нибудь сувениры друзьям, но все выглядит ужасно. Однако за последние месяцы, как мне сказали, были предприняты усилия, чтобы повысить качество, и если хорошо поискать, потратить на это время, то можно кое-где обнаружить вещи довольно приятные. Но чтобы заниматься качеством, надо добиться требуемого количества. В течение долгого времени всего было мало. Теперь положение выравнивается, но с трудом. Впрочем, люди в СССР, похоже, склонны покупать все, что им предложат, даже то, что у нас на Западе показалось бы безобразным. Скоро, я надеюсь, с ростом производства увеличится выпуск хороших товаров, можно будет выбирать, и одновременно с этим будет уменьшаться выпуск плохих.
Вопрос о качестве относится особенно к продуктам питания. В этой области предстоит еще много сделать. Но когда мы пожаловались на плохое качество некоторых продуктов, Джеф Ласт, приехавший в СССР уже в четвертый раз после двухлетнего перерыва, напротив, с восхищением отозвался о достигнутых успехах. Овощи и в особенности фрукты если не совсем плохие, то, по крайней мере, за редким исключением, неважные. Очень много дынь, но безвкусных. Вино, в общем, хорошее (вспоминается, в частности, прекрасное Цинандали в Кахетии). Пиво сносное. Копченая рыба (в Ленинграде) прекрасная, но не выдерживает транспортировки.
Пока не было необходимого, разумно было не заниматься излишествами. Если в СССР ничего не сделано для удовлетворения гурманских вкусов, так это потому, что элементарные потребности еще не удовлетворены.
Вкус, впрочем, развивается только тогда, когда есть возможность выбора и сравнения. Выбирать не из чего. Поневоле предпочтешь то, что тебе предложат, выхода нет – надо или брать, что тебе дают, или отказываться. Если государство одновременно производитель, покупатель и продавец – качество зависит от уровня культуры.
И тогда, несмотря на весь свой антикапитализм, я думаю о тех людях у нас – от крупного промышленника до мелкого торговца, – которые с ног сбиваются и мучаются одной мыслью: что бы еще такое придумать, чтобы удовлетворить публику? С какой изощренной изобретательностью каждый из них ищет способа свалить конкурента! Государству же до этого дела мало – у него нет конкурентов. Качество? "Зачем оно, если нет конкуренции?" – говорят нам. Именно так, очень бесхитростно, объясняют нам плохое качество всего производимого в СССР, а заодно и отсутствие вкуса у публики. Если бы даже вкус и был, что бы изменилось? Нет, прогресс будет здесь теперь зависеть не от конкуренции, а от возрастающей требовательности, которая, в свою очередь, будет увеличиваться с ростом культуры. Во Франции этот процесс, несомненно, шел бы быстрее, потому что требовательность уже есть.
И вот еще что: в каждой советской республике было свое народное искусство. Что с ним стало? Из-за эгалитарных тенденций долгое время с ним отказывались считаться. Но сейчас к национальным искусствам снова возрождается интерес, их поощряют, их возрождают и, кажется, понимают их непреходящую ценность. Разве не было бы проявлением разумной дальновидности вновь вернуться к образцам этого искусства, восстановить, например, старинные рисунки на тканях и предложить их публике? Трудно представить что-нибудь более глупо-буржуазное, более мещанское, чем нынешняя продукция. Витрины московских магазинов повергают в отчаяние. Старинные же ткани с рисунком, нанесенным вручную, прекрасны. Это было народное ремесло, но это было искусство.
Возвращаюсь к москвичам. Иностранца поражает их полная невозмутимость. Сказать "лень" – это было бы, конечно, слишком… "Стахановское движение" было замечательным изобретением, чтобы встряхнуть народ от спячки (когда-то для этой цели был кнут). В стране, где рабочие привыкли работать, "стахановское движение" было бы не нужным. Но здесь, оставленные без присмотра, они тотчас же расслабляются. И кажется чудом, что, несмотря на это, дело идет. Чего это стоит руководителям, никто не знает. Чтобы представить себе масштабы этих усилий, надо иметь в виду врожденную малую "производительность" русского человека.
На одном из заводов, который прекрасно работает (я в этом ничего не понимаю, восхищаюсь же машинами потому, что вообще к ним отношусь с доверием; но мне ничто не мешает приходить в восторг от столовой, рабочего клуба, их жилища – от всего, что создано для их блага, их просвещения, их отдыха), мне представляют стахановца, громадный портрет которого висит на стене. Ему удалось, говорят мне, выполнить за пять часов работу, на которую требуется восемь дней (а может быть, наоборот: за восемь часов – пятидневную норму, я уже теперь не помню). Осмеливаюсь спросить, не означает ли это, что на пятичасовую работу сначала планировалось восемь дней. Но вопрос мой был встречен сдержанно, предпочли на него не отвечать.
Тогда я рассказал о том, как группа французских шахтеров, путешествующая по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду советских шахтеров и без напряжения, не подозревая даже об этом, выполнила стахановскую норму.
Невольно спрашиваешь себя, каких успехов советский режим добился бы с темпераментом, усердием, добросовестностью и профессиональной подготовкой наших рабочих. Кроме стахановцев на этом сером фоне выделяется пылкая молодежь, keen at work, – закваска, способная заставить подняться тесто.
Эта инерция массы, пожалуй, была и до сих пор остается одной из самых сложных проблем, которые предстояло решать Сталину. Отсюда и "ударники", и "стахановское движение". Возврат к неравной заработной плате объясняется этими же причинами.
В окрестностях Сухуми мы побывали в образцовом колхозе. Ему шесть лет. Первое время едва сводил концы с концами, теперь – один из самых процветающих, его называют "миллионером". Всюду виден достаток. Колхоз занимает очень большую площадь. Климат благоприятный, все растет быстро.
Деревянные дома, приподнятые над землей на сваях, прекрасны и живописны, окружены большими фруктовыми садами, между деревьями цветы, овощи. В прошлом году колхоз получил большие прибыли, что позволило иметь значительные накопления, поднять до шестнадцати рублей выплату за трудодень. Как образовалась такая цифра? Точно так же, как если бы колхоз был сельскохозяйственным капиталистическим предприятием и доход распределялся бы поровну между акционерами. Ибо остается непреложным факт: в СССР нет больше эксплуатации большинства меньшинством. Это громадное достижение. "Здесь у нас нет больше акционеров. Сами рабочие (имеются в виду рабочие колхоза, разумеется) распределяют между собой доходы, без каких-либо отчислений государству"5
[Закрыть]. Это было бы прекрасно, если бы не было других – бедных колхозов, которым не удается сводить концы с концами. Потому что, если я правильно понял, колхозы полностью автономны и между ними нет никакой взаимопомощи. Возможно, я ошибся? Хотелось бы ошибиться6
[Закрыть].
Я был в домах многих колхозников этого процветающего колхоза…7
[Закрыть] Мне хотелось бы выразить странное и грустное впечатление, которое производит «интерьер» в их домах: впечатление абсолютной безликости. В каждом доме та же грубая мебель, тот же портрет Сталина – и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые указывали бы на личность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой степени, что колхозники (которые тоже кажутся взаимозаменяемыми) могли бы перебраться из одного дома в другой и не заметить этого8
[Закрыть]. Конечно, таким способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили, радости у них тоже общие. Своя комната у человека только для сна. А все самое для него интересное в жизни переместилось в клуб, в «парк культуры», в места собраний. Чего желать лучшего? Всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех достигается за счет счастья каждого. Будьте как все, чтобы быть счастливым.