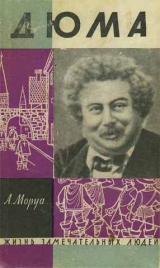
Текст книги "Три Дюма (ЖЗЛ)"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
На следующий день книгопродавец предложил Дюма двенадцать тысяч франков за право опубликовать пьесу. Богатство следовало по пятам за Славой.
Глава вторая
«АНТОНИ»

1830-й. Решающий год для романтической школы. Революции в литературе эхом откликнулась революция на улицах. Бурная эпоха, когда бои шли повсюду – в залах театров, на баррикадах и даже в семьях: ведь романтики обязаны испытывать великие страсти. То было время, когда Сент-Бёв ухаживал за госпожой Гюго, когда будущая Жорж Санд ушла от барона Дюдевана, когда Альфред де Виньи отчаянно добивался любви Мари Дорваль, когда Бальзак, устав от своей Дилекты[39]39
Дилекта – прозвище Лауры де Верни (1777–1836), первой любовницы Бальзака.
[Закрыть], готов был воспылать страстью к неуловимой маркизе де Кастри. Жизнерадостный Дюма сам нисколько не страдал, но он должен был следовать за модой. И вот, чтобы не отстать от других, он тоже сделался ревнивцем. К кому же ревновать? Да к капитану Вальдору, смиреннейшему мужу своей любовницы.
И вот однажды, когда Мелани (после продолжительных супружеских каникул) получила от почтенного офицера письмо, в котором тот сообщал, что вскоре приезжает в Париж на побывку, Дюма помчался в военное министерство упрашивать служившего там друга аннулировать отпуск. «Я чуть было не сошел с ума», – говорил он. Однако мучения эти он испытывал лишь на словах. К тому же муж так и не приехал, и комедия эта разыгрывалась еще не раз.
Александр Дюма – Мелани Вальдор: «Если б только господь услышал твои слова, любовь моя, когда ты говорила, что твой супруг, возможно, не приедет в январе! О, если б он услышал тебя, и тогда бы ты снова увидела меня счастливым и довольным! Ты не знаешь, насколько я сжился с иллюзией, что ты моя и только моя. Я не могу и помыслить о том, что тобой может обладать другой: нет, нет, мне кажется, что ты принадлежишь мне, только мне, а его возвращение разрушит эту иллюзию… О, повтори еще раз, почему ты думаешь, что он может не приехать в январе: скажи мне, какая фраза в его письме заставила тебя это предположить?.. Я бы предпочел, чтобы ты провела полгода в Жарри, тому, чтобы он приехал хотя бы на два дня в Париж! Там, в Жарри, я не смогу видеть тебя, но там ты будешь одна, а здесь!..
О любовь моя, если б твой план мог осуществиться и ты сняла бы для мужа комнату в отеле, как я был бы счастлив!.. Ты не можешь понять, какие терзания я буду испытывать вдали от тебя, в одиночестве, зная, что в одной постели, совсем рядом… О муки!.. Ангел мой, жизнь моя, любовь моя, устрой это…»
Сам Дюма не упускал случая обмануть свою томную Мелани, в то же время продолжая разыгрывать романтические страсти. Он пишет Мелани об их «неистовых, жгучих поцелуях», угрожает объединить «Любовь и Смерть» и даже убить капитана-консорта, отнюдь не заслужившего подобной жестокости. На деле же он вполне довольствуется тем, что надоедает Военному министерству бесконечными просьбами не переводить Вальдора ни в Париж, ни даже в Курбевуа, так как это слишком близко от Парижа. «Необходимо добиться его производства в майоры, моя любовь. У нас нет другого способа уладить это дело…» Великолепный сюжет для бальзаковского романа: «Во что обходится повышение военным».
Александр Дюма – Мелани Вальдор:
«Наконец ты поняла меня: ты узнала, что такое любовь, потому что ты познала ревность. Что может сравниться с ней? Какие дураки эти богословы, выдумавшие ад с его физическими муками! Мне жаль их! Для меня адом будет видеть тебя в объятьях другого! Проклятье! Одна мысль об этом может довести до преступления!..»
И в стихах (отвратительных):
Ты нежностью своей пьянишь меня напрасно:
За этот светлый день я заплачу тоской,
Когда в других руках, холодных и бесстрастных,
Потухнет завтра трепет твой.
Но, ревностью томясь, познав ее отраву,
Тебя я не смогу презреньем наказать:
Слова пред алтарем другому дали право
Тобой до гроба обладать.
Словами этими ты продала навечно
Те ласки, что теперь запретны для любви.
Когда в супружестве утрачен жар сердечный,
Вступает долг в права свои.
Литературщина? Конечно, но тем не менее она вызвала к жизни «Антони», драму, сыгравшую большую роль в истории театра, потому что это была драма не историческая, а современная, и в ней впервые была выведена на сцену женщина, совершившая прелюбодеяние, – образ, который потом более чем на столетие оккупирует французскую сцену.
Александр Дюма – Мелани Вальдор:
«В «Антони» ты найдешь многое из нашей жизни, ангел мой, но лишь то, чего никто, кроме нас с тобой, не знает. Так в чем же дело? Публика ведь ничего не поймет, поймем только мы, ты и я, и для нас это будет источником вечных воспоминаний. Что же до Антони, то я думаю, его узнают, потому что этот безумец очень напоминает меня…»
Конфликт между личностью и обществом, страстью и долгом, который XVII век решал в пользу общества и от которого XVIII бежал в легкомыслие и распутство, мог теперь быть решен лишь насильственным путем. «В современном обществе страсть сорвалась с цепи».
И на весь XIX век страсть воцарится в театре, принеся с собой бурю чувств, слов, кинжальных ударов и пистолетных выстрелов. «Антони» испугал актеров Комеди-Франсэз, но зрителей он потряс.
Антони, бунтарь по натуре, незаконнорожденный (как Дидье в «Марион Делорм»), не может жениться на любимой им Адели, потому что у него нет ни семьи, ни положения в обществе, ни профессии, ни состояния. Молодую девушку выдали замуж за полковника – барона д'Эрвэ (капитан Вальдор на сцене все же получил повышение). В один прекрасный день Антони вновь появляется: он останавливает лошадей, понесших карету Адели. Антони ранен; его приносят в дом Адели. Они признаются во взаимной любви, но Адель, раба общественной морали, пытается сопротивляться. Страстью, жалобами на несправедливость света Антони доводит ее до того, что она готова пасть. Тогда она, как порядочная женщина, решает бежать к мужу, который находится в Страсбургском гарнизоне. Антони хитростью завлекает Адель в ловушку и проводит с ней ночь любви в гостинице Иттенхейм. Свет осуждает ее. Полковник спешит в Париж из своего гарнизона и застает преступных любовников врасплох.
АДЕЛЬ. Я слышу шаги на лестнице!.. Звонок!.. Это он!.. Беги, беги!
АНТОНИ. Нет, я не хочу бежать! Ты говорила мне, что не боишься смерти?
АДЕЛЬ. Нет, нет… О, сжалься надо мной – убей меня!
АНТОНИ. Ты жаждешь смерти – смерти, которая спасет твою репутацию и репутацию твоей дочери?
АДЕЛЬ. На коленях молю тебя об этом.
ГОЛОС (за сценой). Откройте!.. Откройте!.. Взломайте дверь!
АНТОНИ. И в последний миг ты не проклянешь своего убийцу?
АДЕЛЬ. Я благословлю его… Но поспеши! Ведь дверь…
АНТОНИ. Не бойся. Смерть опередит его… Но подумай только: смерть…
АДЕЛЬ. Я хочу ее, жажду ее, молю о ней. (Кидаясь к нему в объятья.) Я иду ей навстречу.
АНТОНИ (целуя ее). Так умри же. (Закалывает ее кинжалом.)
АДЕЛЬ (падая в кресло). Ах…
Дверь в глубине сцены распахивается. Полковник д'Эрвэ врывается в комнату.
ПОЛКОВНИК Д'ЭРВЭ. Негодяй!.. Что я вижу!.. Адель!.. Мертвая!
АНТОНИ. Да, мертвая… Она сопротивлялась мне. И я убил ее.
Он бросает кинжал к ногам полковника д'Эрвэ.
Занавес
Пьеса была ловко сделана. Через все пять актов действие с похвальной экономией средств неслось к развязке, ради которой, собственно, и было написано все остальное. Дюма считал, что драматург должен прежде всего найти финальную фразу, а потом, исходя из нее, строить всю пьесу. В эпоху, когда существовали лишь исторические или скабрезные пьесы, драма, в которой на сцену выводился современный свет с его страстями, не могла не казаться новаторской и смелой. Дюма в «Антони» вкладывает в уста одного из персонажей, писателя Эжена д'Эрвильи, такой монолог:
«История завещает нам факты: они – собственность поэта… Но если мы, мы, живущие в современном обществе, попытаемся показать, что под нашим кургузым и нескладным фраком бьется человеческое сердце, – нам не поверят… Сходство между героем драмы и партером будет слишком велико, аналогия слишком близка, и зритель, следящий за развитием страсти героя, захочет, чтобы тот остановился там, где остановился бы он сам. Если то, что будет происходить на сцене, превзойдет его способности чувствовать или выражать свои чувства, он откажется это понимать. Он скажет: «Это неправда, я ничего подобного не испытываю. Когда женщина, которую я люблю, мне изменяет, я, конечно, страдаю… некоторое время… Но я не закалываю ее кинжалом и не умираю сам. Доказательством тому то, что я сейчас перед вами». А потом вопли о преувеличениях, о мелодраме заглушат аплодисменты тех немногих, наделенных, к счастью (или к несчастью), более тонкой конституцией, которые понимают, что в XIX веке люди испытывают те же чувства, что и в XV веке, и что под суконным фраком сердце бьется так же горячо, как и под железной кольчугой».
Наделить современника неистовством страстей, свойственным людям Возрождения, – вот что пытался сделать Александр Дюма, и это вновь сочли весьма смелым новаторством. Настолько смелым, что, не случись революции 1830 года, цензура никогда бы не согласилась пропустить пьесу. После июльских дней[40]40
«после июльских дней». – 26 июля 1830 года министерство Полиньяка опубликовало ордонансы, которые упраздняли свободу печати, объявляли палату распущенной, на три четверти сокращали число избирателей и лишали палату права вносить поправки в законопроекты. Париж восстал. 27, 28 и 29 июля в городе строили баррикады и велись перестрелки между войсками, сохранившими верность правительству, и народом. 27, 28 и 29 июля 1830 года вошли в историю под названием «Три славных дня».
[Закрыть] стало, наконец, возможно изображать нравы, не прибегая к ретуши. Завоевание этих свобод дало нам Бальзака. Но в то время, когда Дюма писал «Антони» (то есть до 1830 года), цензура была еще сурова. Дюма не мог просто констатировать прелюбодеяние; он должен был осудить и покарать его. Бальзак сможет позволить себе больший цинизм. Диана де Мофриньез, княгиня де Кадиньян, пройдет безнаказанно через тот костер страсти, на котором заживо сгорела Адель д'Эрвэ. Но Дюма еще не имел права заявить со сцены, что женщина может быть счастлива, даже если она и повинна в прелюбодеянии, хоть сам он в это верил – и, возможно, напрасно, потому что его собственное легкомыслие сделало несчастной не одну любовницу.
Глава третья
«ЖОЗЕФ, МОЕ ДВУСТВОЛЬНОЕ РУЖЬЕ!»

Дюма никогда не отличался постоянством в любви. И хотя Мелани Вальдор оставалась «его ангелом», Дюма окружал еще целый сонм ангелов второстепенного значения. Он увлекался не только Виржини Бурбье из Комеди-Франсэз, но, по всей вероятности, и малюткой Луизой Депрео, которая, исполняя роль пажа в «Генрихе III», показывала прехорошенькие ножки, и, конечно же, Мари Дорваль, которая в жизни отдавалась любви так же самозабвенно, как и на сцене. Затем появилась более опасная соперница актриса Белль Крельсамер, по сцене – Мелани Серре, игравшая в турне герцогиню де Гиз. Фирмен представил ее Дюма в конце мая 1830 года.
У этой красавицы были «черные как смоль волосы, бездонные глаза лазурной синевы, нос прямой, как у Венеры Милосской, и жемчужные зубки». Она пришла просить ангажемент, Дюма предложил ей связь. Она сопротивлялась три недели. Меньше, чем первая Мелани, но срок тоже вполне почетный. Белль сняла квартиру на Университетской улице, неподалеку от Дюма, – она жила в доме № 7, он – в доме № 25. В июне 1830 года Мелани Вальдор уехала с матерью в Жарри (имение Вильнавов около Клиссона), и Дюма стал проводить все свободное время у Мелани Второй. Белль Крельсамер, умная еврейка, вскоре приобрела на Дюма сильное влияние.
В июле, когда «Антони» был почти закончен, Дюма начал готовиться к путешествию в Алжир, он хотел осмотреть недавно завоеванный город. Белль Крельсамер собиралась проводить его до Марселя. Она, разумеется, не одобряла его поездки: любовь, считала она, должна побеждать любопытство. 26-го утром Дюма пришел к ней и заявил, что она может распаковывать чемоданы.
«Монитёр»[41]41
«Монитёр» – официальный орган правительства.
[Закрыть] опубликовал указы министерства Полиньяка, направленные против свободы печати. Для Дюма, как и для многих других, эти указы предвещали крушение монархии. Республиканец в душе, он искренне надеялся, что Париж восстанет.
– То, что мы увидим здесь, будет поинтереснее того, что я мог бы увидеть там, – сказал он.
Затем он позвал своего слугу.
– Жозеф, иди к оружейнику, – приказал он, – и принеси мое двуствольное ружье и двести патронов двадцатого калибра.
Звучная реплика в стиле мелодрамы, но продиктована она была подлинной храбростью. Когда «три славных дня» Июльской революции обернулись драмой, и притом драмой, имеющей шумный успех, Дюма захотел сыграть в ней роль первого любовника, героического и дерзкого. Роль была сыграна с лихостью, не свободной, однако, от тщеславия.
Целых три дня он носился по Парижу, метался между улицами, где шли бои, и местами, где создавалось общественное мнение: Ратушей, Институтом, конторой «Насьоналя»[42]42
«Насьональ» – политическая газета, основанная в январе 1830 года, орган оппозиции. Выступала против политики министерства Полиньяка.
[Закрыть]. В «Мемуарах» он одинаково живо рассказывает о боях и об этих сборищах. В перерыве между двумя перестрелками он спешил то к больной матери, от которой скрывали происходящее, то к Белль, на Университетскую улицу: «Там были в курсе всех событий. Я обещал оставаться наблюдателем и ни во что не вмешиваться: лишь под этим условием меня выпускали из дому…»
Но спектакль оказался слишком увлекательным, чтобы можно было удержаться от участия в нем. И, надев охотничий костюм, набив карманы пулями, перекинув ружье за спину, он смешался с толпой.
Его хорошо знали в квартале.
– Что нам делать? – обращались к нему.
– Строить баррикады.
Все в духе лучших традиций. Он отправился в Пале-Рояль и поднялся в канцелярию. Там он встретил своего бывшего патрона Удара, который следил за событиями, чтобы вовремя пристать к победителям, и которого он насмерть перепугал своим воинственным облачением и смелыми речами.
Он шел по направлению к Сене, когда вдруг увидел, что на башнях Нотр-Дам развевается трехцветное знамя, и застыл на месте, не помня себя от счастья. Двуствольное' ружье сделало его главарем целой ватаги повстанцев. Студенты, воспитанники политехнической школы, рабочие братались, объединенные общей ненавистью к Бурбонам. Толпа водрузила на лошадь какого-то старика военного вида и произвела его в генералы. Драма сбилась на водевиль. Капитан королевской армии остановил Дюма и его отряд:
– Куда вы идете?
– В Ратушу.
– Зачем?
– Сражаться.
– Честно говоря, господин Дюма, я не думал, что вы так безрассудны.
– Так вы меня знаете?
– Я дежурил у Одеона, когда первый раз давали «Христину»… А кстати, когда же мы увидим «Антони»?
– Как только закончим революцию.
Они откланялись. Дюма зашел к своему другу художнику Летьеру. Колокол Нотр-Дам гудел, заглушая звуки перестрелки. Сына Летьера отправили на Университетскую улицу успокоить «одну дорогую моему сердцу особу», а именно Белль Крельсамер.
На следующее утро Дюма снова ринулся в бой. Он ворвался в Тюильри вместе с народом и нашел там, в библиотеке герцогини Беррийской, экземпляр «Христины» в лиловом бархатном переплете. Он унес его и подарил молодому Феликсу Девиолену. В Ратуше провозгласили свержение Бурбонов. Раскроено было хорошо, настало время сшивать. Но кто бы мог добиться единства в стране? Способен ли Лафайет[43]43
Лафайет, Мари-Жозеф, маркиз де (1757–1839) – французский политический деятель, участник американской революции, Великой Французской революции и революции 1830 года. По взглядам – конституционный монархист.
[Закрыть] возглавить республику? Нет, он боялся ответственности в той же мере, в какой искал популярности. Тьер и Лаффит предлагали герцога Орлеанского. Но что будет, если Карл X поведет на Париж войска, сохранившие ему верность? Дюма слышал, как Лафайет сказал:
– Мы не смогли бы сделать и четырех тысяч выстрелов.
Не хватало пороха. Но разве нет порохового склада в Суассоне? Дюма, уроженец тех мест, хорошо знал, что есть.
– Генерал, – сказал он Лафайету, – хотите, я привезу вам порох?
Его очень соблазняла возможность вернуться в родные края воином революции. Он преодолел все препятствия, получил письменный приказ и уехал счастливый. В Вилле-Коттре его встретили настоящей овацией. Вид его кабриолета с развевавшимся над ним трехцветным знаменем заставил высыпать на улицы даже тайных оппозиционеров. Все старались заполучить Дюма к себе на обед. Он отправился к своему бывшему сослуживцу Пайе и рассказал ему о событиях трех дней. Рассказ его прерывался восторженными криками, но ехать в Суассон ему отсоветовали. Разве может один человек, ну, пусть даже несколько человек, справиться с роялистским гарнизоном? Однако Дюма поехал, и все обошлось благополучно. В своих «Мемуарах» он сильно драматизирует этот эпизод. По его словам, он с револьвером в руке ворвался к коменданту гарнизона, виконту де Линьеру. В этот момент в комнату вбежала госпожа де Линьер с криком:
– Сдавайся, немедленно сдавайся, друг мой! Негры опять взбунтовались!.. Вспомни о моих родителях, погибших в Сан-Доминго! Отдай приказ, умоляю тебя…
Линьеры впоследствии утверждали, что комендант еще задолго до приезда Дюма обещал передать порох национальной гвардии Суассона. Но какое это имеет значение? Ведь сам автор, по-видимому, глубоко уверовал в свой рассказ и так увлекательно описал этот подвиг, достойный Горация Коклеса Тирольского. Да и потом как разобраться, где тут истина? Отчет Александра Дюма генералу Лафайету об «изъятии» пороха был опубликован 9 августа 1830 года в «Монитёре», и тогда никто не опровергал его. Точно известно также, что он привез три тысячи пятьсот килограммов пороха в Ратушу и что его бывший покровитель герцог Орлеанский, которому вечером того же дня предстояло сделаться королем Франции, сказал ему, быть может, не без улыбки:
– Господин Дюма, вы создали свою лучшую драму.
После этого Дюма возымел далеко идущие планы и уже видел себя министром. Мелани Вальдор, возвращения которой он побаивался (она в это время находилась в Вандее с мадам Вильнав), Дюма писал:
«Все кончено. Как я тебе не раз предсказывал, революция продлилась всего три дня. Мне посчастливилось принять в ней настолько активное участие, что меня заметили Лафайет и герцог Орлеанский. Вслед за этим последовала ответственная миссия в Суассон, где я в одиночку захватил запасы пороха, что окончательно укрепило мою военную репутацию… Герцог Орлеанский, по всей вероятности, станет королем. И тебе придется адресовать свои письма иначе… Поблагодари меня за мою леность… Я уверен, ты поймешь, как мне трудно покинуть Париж в такое время. И все же я так хочу видеть тебя, что при первой же возможности сяду в почтовую карету, хотя бы только для того, чтобы сжать тебя в объятиях… Повторяю, в моем положении многое должно измениться. Я не могу тебе об этом сказать в письме, но тем не менее, я думаю, ты можешь не сомневаться, что твоего Александра ждет большое будущее…»
И через несколько дней:
«Не тревожься, мой ангел, все идет хорошо. Герцога Орлеанского вчера провозгласили королем. Я провел вечер при дворе; августейшая семья ведет себя так же просто и доброжелательно, как и раньше. Я написал тебе сегодня три письма и послал их по трем разным адресам. Прощай, любовь моя. Тебе не стоит приезжать сейчас в Париж; я думаю, что смог бы приехать к вам и провести конец этого месяца и весь следующий месяц с тобой…»
«Я уезжаю послезавтра, любовь моя. Предприму небольшое путешествие, после чего приеду к тебе. Я счастлив, что могу уехать сейчас из Парижа.
Когда ты получишь мое первое письмо, я буду уже в пути».
Он и в самом деле попросил Лафайета послать его в Вандею для формирования, как говорил он, национальной гвардии на случай нового шуанского мятежа. А главное, он хотел повидаться со своей любовницей и успокоить ее. В отсутствие Вильнава, не пожелавшего в это смутное время расстаться со своими бесценными автографами, мадам Вильнав, покладистая мать, пригласила Дюма провести несколько недель в Жарри. Лафайет, который тогда пытался всем и во всем угодить, дал ему рекомендательное письмо к вандейским либералам. Дюма тотчас же заказал себе немыслимую форму: кивер с красными перьями, серебряные эполеты и пояс, васильковый мундир и трехцветную кокарду. В Вандее, где национальной гвардии не было и в помине и где, невзирая на все приказы префектуры, не вывесили ни одного трехцветного знамени, Дюма только и делал, что поглощал обильные трапезы и уверял в своем раскаянии Мелани, которая, узнав о похождениях своего любовника, посылала, при подстрекательстве матери, глупейшие письма Мари Дорваль и Белль Крельсамер. Дюма покинул Вандею 22 сентября, оставив Мелани совершенно больной.
Дюма – Мелани: «Как ты себя чувствуешь, моя любовь? Ты должна понять, что только жестокая необходимость заставила меня уехать. Ради бога, мой ангел, не расстраивайся так, это вредит твоему здоровью. И верь, непременно верь в то, что между нами существует чувство более глубокое, чем сама любовь, которое переживет все наши размолвки… Я не увижу ее по возвращении в Париж, мой ангел. И все же мне необходимо встретиться с ней спустя несколько дней, чисто по-дружески, чтобы объяснить причину разрыва, но он (этот разрыв) произойдет, сколько б она ни плакала. Театр утешит ее.
Прощай, моя любовь. Я выпью чашку кофе и отправлюсь в путь. Если я остановлюсь хотя бы часа на два в Блуа, я напишу тебе».
Как это напоминает излияния Бальзака в письмах к мадам Ганской! Поневоле задумаешься: стоит ли завидовать великим людям!
В Париже он застал status quo[44]44
Существующее положение вещей (лат.).
[Закрыть], от которого можно было прийти в отчаяние. Там росло недовольство политикой кабинета и прямо пропорционально ему росла любовь к королю. Дюма верил в эту любовь, потому что рассчитывал на поддержку короля и ожидал получить доказательства его признательности. Он написал отчет о своей «миссии», назвав его «Вандейскими записками». В них он предупреждал о возможности нового шуанского мятежа, давал мудрые советы и в конце склонялся к «стопам государя».
Александр Дюма – Мелани Вальдор, 30 сентября 1830 года: «Всего несколько строк, моя любовь, чтобы поцеловать тебя, рассеять твои страхи и еще раз поцеловать… Письмо твоей матери меня очень обеспокоило. Твою записку я получил накануне… Разреши им, моя любовь, ставить тебе столько пиявок, сколько нужно. И не терзайся по пустякам, не терзайся даже из-за сломанной герани. Наши бурные объяснения привели к этому преступлению – потому что это поистине преступление…
В окружении короля ничего не изменилось. Я послал ему отчет, но даже не знаю, прочел ли он его. Короля полностью оградили от людей – создали настоящую блокаду. К нему допускают лишь тех, кому нечего (sic!) сказать. Его любят с каждым днем все больше и больше, но ведут себя по отношению к нему с неуместной фамильярностью. Господин Дюпати послал ему на днях билет члена национальной гвардии на том основании, что он живет в округе Пале-Рояля. Как все это глупо…»
Сломанная герань была для любовников символом беременности, окончившейся на этот раз выкидышем. «Не тревожься о будущем: у нас с тобой еще будет герань». Поневоле вспоминается Бальзак, который хотел, чтобы Иностранка подарила ему «Виктора-Онорэ».
Король Луи-Филипп прочел «Вандейские записки» и даже сделал на полях пометки. Дюма советовал кое-где переместить легитимистски настроенных священников. «Сообщено в Церковное ведомство», – написал король. Через Удара он передал Дюма, что ему будет дана аудиенция. Молодой человек явился на нее в мундире национальной гвардии. Он был принят с сердечной улыбкой и тем показным добродушием, которое так обезоруживало министров. Король сказал ему, что он ошибается относительно шуанов.
«Ведь и я тоже, позвольте вам заметить, держу руку на пульсе Вандеи… Я немного сведущ во врачевании, как вам известно… Политика – это печальное занятие. Оставьте его королям и министрам… Ведь вы поэт, вот и пишите свои стихи…»
Надежды на портфель, которые Дюма втайне питал, разом рухнули. Уязвленный, он подал прошение об отставке, в котором отказывался от должности библиотекаря:
«Сир,
так как мои политические взгляды больше не соответствуют тем, которые ваше величество вправе требовать от лиц, принадлежащих к вашему дому, я прошу ваше величество принять мою отставку и освободить меня от обязанностей библиотекаря. Имею честь остаться почтительнейше и проч.
АЛЕКС. ДЮМА»
После чего он перевелся в артиллерию национальной гвардии, известную своими республиканскими настроениями. А на стенах парижских зданий уже начали замазывать следы июльских перестрелок.








